Глава I От Революции к Империи
В политическом мире произошли настоящие чудеса, и свершены они французской армией. Эта армия являет собой удивительный феномен, который должен привлечь любопытство одних и заставить задуматься других.
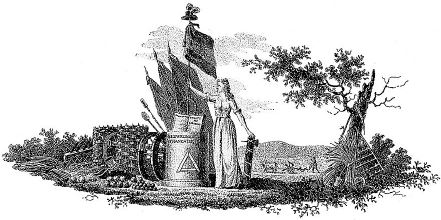
Невозможно начать рассказ об армии Наполеона, не осветив хотя бы вкратце ее непосредственную предысторию. Конечно, понятие предыстория относительно, и, очевидно, в поисках истоков можно зайти далеко. Но есть эпоха, не рассказать о которой просто невозможно, – это эпоха Великой французской революции. Армия Наполеона вышла из армии республики, организационно, материально, психологически. Конечно, войска Империи претерпели громадные изменения во всех отношениях по сравнению с периодом революционных войн, но многое осталось постоянным до самого момента падения Империи и в известной степени сохранилось даже в современной французской армии. Наконец, армия революции создала самого Наполеона Бонапарта, взрастила будущую блестящую плеяду маршалов и генералов и в немалой, если не в решающей, степени определила сам факт установления Консульства Бонапарта, а затем Империи Наполеона I.
Наконец, чтобы правильно оценить процессы, которые произошли во французской армии в период революции, необходимо сказать буквально несколько слов о том, что представляли из себя королевская войска накануне падения монархии.
Напомним, что именно во Франции во второй половине XVII века произошло рождение регулярной армии, а сама монархия «Короля-солнца» была самой могучей страной европейского континента. В середине XVII века на территории французского королевства проживало около 20 млн подданных. В это же время на территории Соединённого королевства (Англии и Шотландии) едва 6 млн человек, в Испании немногим более 8 млн, всё огромное царство Московское было населено всего лишь менее чем 6 млн человек! Только Речь Посполитая с её 11 млн жителей, да империя Габсбургов с 12 млн подданных приближались к Франции по демографическим показателям.
Но Франция была сильна не только своим человеческим потенциалом. Благодаря деятельности кардинала Ришелье, а затем короля Людовика XIV сложилось сильное централизованное государство, которое сосредоточило в руках французского монарха огромные финансовые ресурсы. Так к средине XVII века доходы королевства возросли до 100 млн ливров в год, что в весовом эквиваленте составляло около 1000 тонн серебра, или в 5 раз больше, чем в середине предыдущего века. Подобная сумма значительно превосходила финансовые возможности любых других стран, и большая часть её тратилась на военные расходы. Бюджет королевства неуклонно рос в течение первой половины правления Людовика XIV, и в 1691 г. только военные расходы составили 148 млн ливров!
Всё это позволило ввести в войска с 60–70-х годов XVII века регулярное вооружение, впервые в истории обмундировать солдат всей армии, а не отдельных отрядов, как это было до этого повсеместно, ввести единообразные полевые и строевые уставы.
Конечно, униформа того времени была крайне разнообразной и один полк от другого отличался порой неузнаваемо, конечно, несмотря на все регламенты и запреты знатные офицеры привносили в армию элементы феодальной анархии, но тем не менее это уже была основа регулярной армии, с которой будут брать пример армии всех остальных государств Европы. И это не только потому, что французские войска были во многом передовыми, а прежде всего потому, что они были самыми многочисленными и самыми сильными во всём тогдашнем мире.
К 1690 году Людовику XIV и его знаменитому военному министру Лувуа удалось поставить под ружьё армию небывалой численности. Согласно боевому расписанию на этот год в ней числилось 270 793 пехотинцев, 65 008 кавалеристов, 6484 артиллеристов. Кроме того 92 457 человек состояли в ополчении[2]. Вместе с несколькими сотнями офицеров инженерных войск и конной полицией (marechaussée) это давало по спискам почти 440 тысяч человек в сухопутных вооружённых силах, или реально около 400 тысяч под ружьём! Таких многочисленных вооружённых сил ещё не было ни у одного государства в истории человечества.
Подобная огромная армия требовала новых офицерских кадров. На смену вельможам, факультативно служившим в военное время, должны были прийти офицеры, пунктуально выполняющие служебные обязанности и подчиняющиеся не знатности, а служебной иерархии. Новая военная мораль, представляющая собой переход от дворянского кодекса чести к военно-служебному регламенту, была изложена в наиболее известной военной книге того времени «Поведение Марса». Вот, что можно увидеть на страницах этого поизведения об отношениях между знатными и незнатными офицерами: «Нельзя, чтобы молодой человек под предлогом своего высокого происхождения отказал бы в уважении офицеру, выходцу из простолюдинов. Он не ошибётся, если, напротив, он окажет ему самое глубокое почтение, а если он этого не пожелает сделать, его заставят»[3].

Э. Лилиевр. Знаменосец Наваррского полка (1635 г.)
Эта армия, о которой веницианский посланник Нанни ещё в годы малолетства Людовика XIV докладывал своему правительству, что её солдаты «оборваны и босы, … но они тем не менее дерутся как сумасшедшие», теперь получила мощную материальную базу и строгую организацию. Одновременно вторая половина XVII века была отмечена появлением во французской армии целой плеяды выдающихся полководцев, по праву вошедших в анналы военного искусства: Конде, Тюренн, Вобан, Люксембург. Соединение этих факторов позволило вовсю развернуть военный потенциал Франции, и, с середины века, началась серия грандиозных военных побед.
Сознание своего превосходства ещё более подогревало отвагу, отличавшую рыцарскую Францию, и вторая половина XVII века была отмечена не просто победами королевской армии, а блистательной отвагой французских солдат и офицеров на поле боя. Достаточно привести только один пример – героического боя под Лейзом 18 сентября 1691 г. Здесь 28 французских эскадронов (около 3 тыс. кавалеристов) под командованием маршала Люксембурга наголову разбили 72 англо-голландских эскадрона, поддержанных 5 батальонами пехоты (более 10 тыс. человек). Неприятель потерял до 2 тыс. человек и 40 штандартов!
В этой отчаянной кавалерийской схватке в первых рядах дрались представители элиты королевства и лучшие гвардейские эскадроны «Maison du Roi» (Королевского дома). Они выполнили свой долг ценой огромного самопожертвования. Так только в семи гвардейских ротах была убита и ранена почти половина офицеров. «Жандармы Короля сражались сразу с несколькими вражескими эскадронами, и опрокинули их, – рассказывает маркиз де Кенси в своей известной “Истории войн Людовика Великого”, – а су-лейтенант маркиз де Тренель с 40 солдатами атаковал эскадрон Нассау и разбил его. Вражеский офицер подскакал к принцу де Бернонвилю, стоящему во главе жандармов, чтобы разможжить ему голову из пистолета, но промахнулся, принц убил его двумя ударами шпаги… Конно-гренадеры, которых было только 67 человек… последовательно разбили четыре вражеских эскадрона и захватили четыре штандарта»[4].

Мушкетер в положении «На изготовку».
Гравюра из трактата Лостельно 1647 г.
Естественно, что в подобной армии, привыкшей к победам, родилось сознание своей исключительности, своей особой роли. В период войны с Аугсбургской лигой (1688–1697), именно тогда, когда состоялся бой под Лейзом и когда Франции пришлось драться чуть ли не со всей Западной Европой, была выпущена гравюра, на которой был изображён французский офицер, сражающийся сразу с десятком врагов – имперцем, англичанином, испанцем, голландцем, савойцем, португальцем, шведом… Внизу гравюра была украшена гордой надписью: «Один против всех».
Вполне понятно, что в подобной ситуации Франция стала законодательницей мод не только в военной области. Европа конца XVII века заговорила по-французски не потому, что французский язык красивый, и не потому, что Мольер написал свои замечательные комедии, а Корнель трагедии на этом языке, а потому что французская армия была самой могущественной.
Однако необычайное усиление Франции вызвало естественную реакцию тех стран, которые его опасались, прежде всего Англии и Священной Римской империи германской нации. В результате Франции пришлось после тяжёлой войны с одной лигой выдержать борьбу с другой в ходе знаменитой войны за Испанское наследство (1701–1714). Несмотря на то, что ресурсы королевства были на исходе, в 1703 г. общее количество всех сухопутных вооружённых сил Франции (вместе с ополчением) составило почти 500 тыс. человек. Союзники (англичане, имперцы, голандцы, португальцы, пруссаки) имели примерно столько же солдат на суше. Однако их общие ресурсы, а в особенности силы флота теперь превосходили таковые у французов. Несмотря на мужественную борьбу французские войска понесли ряд тяжёлых поражений, и королевство оказалось на краю гибели.
«Я соберу всё, что осталось от моих войск, – сказал 16 апреля 1712 г. король, обращаясь к маршалу Виллару, которому он поручал последнюю армию, – и вместе с вами я сделаю последнее усилие, чтобы либо погибнуть, либо спасти государство». Маршал Виллар одержал блестящую победу при Денене, и старому королю не пришлось погибать во главе войска. Почётный мир был подписан в марте 1714 г., а в 1715 г. умер Людовик XIV.
Чрезвычайное усилие, которое страна сделала в эти годы, надломило её. В первой половине XVIII века, впрочем, французская армия будет ещё не раз показывать свою доблесть в ходе войны за Польское наследство (1733–1735 гг.), а затем за Австрийское наследство (1740–1748 гг.). Вспомнить хотя бы блестящую победу под Фонтенуа над англо-голландской армией герцога Кумберлендского 11 мая 1745 г., когда Французская гвардия любезно предложила английским гвардейцам дать первый залп. Пешая Французская гвардия поплатилась за эту любезность и была с потерями отброшена. Однако блестящая контратака «Королевского дома» спасла положение, и маршал Морис Саксонский смог рапортовать на поле сражения Людовику XV: «Сир, теперь я достаточно прожил, ибо сегодня я вижу победу Вашего Величества. – И добавил: – Вы видели, на чём держатся судьбы битв».
Однако очень скоро положение начало меняться, и французская армия вступила в полосу своего упадка, который нашёл материальное воплощение в позорных поражениях Семилетней войны (1756–1763 гг.) и прежде всего в разгроме под Россбахом 5 ноября 1757 г.
Почему произошёл этот упадок? Как всегда в сложном историческом процессе не бывает какой-то одной причины. С одной стороны, во главе страны после правления талантливого, энергичного и амбициозного Короля-Солнца встал в 1715–1723 развращённый и полностью принебрегающий интересами государства во имя своих личных интересов регент Филипп Орлеанский. Затем власть принял слабовольный и предавшийся наслаждениям король Людовик XV.
Наверное никто не сформулировал так точно, так легко и блистательно перемену в состоянии французского общества в это время, как А. С. Пушкин: «По свидетельству всех исторических записок, ничто не могло сравниться с вольным легкомыслием, безумством и роскошью французов того времени. Последние годы царствования Людовика XIV, ознаменованные строгой набожностию двора, важностию и приличием, не оставили никаких следов. Герцог Орлеанский, соединяя многие блестящие качества с пороками всякого рода, к несчастию, не имел и тени лицемерия. Оргии Пале-рояля не были тайною для Парижа; пример был заразителен… алчность к деньгам соединилась с жаждою наслаждений и рассеянности; имения исчезали; нравственность гибла; французы смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей».
Это было сказано о времени Филиппа Орлеанского, но вполне могло бы быть применено к эпохе правления Людовика XV. В общем, налицо был типичный «кризис верхов», усугублённый личными качествами тогдашних правителей.
Страна богатела. Будущая революция произошла не в бедной стране, не по причине особых страданий французского населения в XVIII веке. Наоборот, она свершилась именно потому, что Франция становилась богаче. Никогда ещё за столь короткий срок страна не добивалась столь внушительных экономических успехов, как в это время. Достаточно сказать, что средняя продолжительность жизни французов увеличилась за XVIII век на целых десять лет, детская смертность за тот же период упала с 34 % до 20 %[5]. Никогда ещё за всю историю человечества люди не выигрывали столько лет у смерти за столь исторически непродолжительный период! Только четверть французов были грамотными в конце XVII века, а через сто лет грамотных было уже около половины населения страны.
В этом всё более комфортном и всё более образованном королевстве прежде всего богатела буржуазия, и отныне она сначала бессознательно, а потом всё более осознанно стремилась к власти. Вольно или невольно её запросам отвечали Вольтер, Руссо, Дидро и прочие «просветители». Внятного ответа на эту пропаганду аристократия не нашла, а король Людовик XV никак не вызывал желания отдать жизнь за его особу и, следовательно, за систему, которая на нём держалась. Если бы во Франции правил решительный, талантливый и амбициозный монарх, такой, например, как Фридрих II, возможно, всё пошло бы совсем по другому пути. Королю удалось бы сплотить знать вокруг своей харизматичной личности, произвести в стране необходимые реформы и ещё больше усилить французское королевство. И, конечно, усилить армию, служба в которой являлась смыслом существования старого дворянства «шпаги». Но наверху был пусть даже, как утверждает известный французский историк Мишель Антуан, очень образованный, знакомый с бюрократической рутинной работой, но, увы, совершенно неспособный повести за собой нацию король.
Кризис традиционной идеологии затронул не только аристократов. Отныне грамотные подданные, читая Монтескье и Вольтера, стали задавать себе вопросы о справедливости установленного порядка. Материальные и моральные трансформации ХVIII века снизили до самого низкого уровня желание идти под знамена для среднестатистического крестьянского парня. «Легко оторвать от земли и повести на смерть людей, которые не знают, что сделать со своими жизнями, – писал знаменитый военный теоретик ХVIII века граф де Гибер, – просвещение и благосостояние изменили в этом смысле облик населения. Они создали тысячи новых профессий и занятий…, открыли дорогу для разного рода деятельности, расслабили дух и тело, дали почувствовать ценность жизни. Теперь напрасно будет призывать граждан на защиту страны: кроме дворянства, которое пойдет сражаться из чувства чести, нельзя надеяться привлечь остальных»[6].
Так, кризис охватил всю армию, а высшее дворянство, вместо того чтобы сосредоточить свои усилия на спасении страны и армии, занималось лишь интригами. Знаменитый военный теоретик и практик эпохи Наполеона полковник Барден справедливо написал: «Ошибки Людовика XV в период его правления, его неумелое руководство и неудачные войны, отсутствие какого-либо внятного плана у его министров… развалили военную машину так же, как и политическую систему. Ничтожество власти и унижение армии приготовили революционный взрыв»[7].
Приход к власти в 1774 году нового короля, Людовика XVI, уже не спас ни монархию, ни её армию. Впрочем, подобный король никак не мог стать лидером и взять в руки страну, всё более терявшую свои ориентиры. Как вспоминал один из современников: «Это был человек доброго сердца, но незначительного ума и нерешительного характера… Наибольшую склонность выказывал он к физическим занятиям, особенно к слесарному мастерству и к охоте. Несмотря на разврат окружавшего его двора, он сохранил чистоту нравов, отличался большой честностью, простотой в обращении и ненавистью к роскоши. С самыми добрыми чувствами вступал он на престол с желанием работать на пользу народа и уничтожить существовавшие злоупотребления, но не умел смело идти вперед к сознательно намеченной цели. Он подчинялся влиянию окружающих, то теток, то братьев, то министров, то королевы, отменял принятые решения, не доводил до конца начатых реформ».
Правда, некоторые пороки армии удалось излечить военному министру Клоду-Луи де Сен-Жермену. Сен-Жермен пробыл на министерском посту с октября 1775 г. по сентябрь 1777 г., так как король, находящийся постоянно под чьим-то влиянием, уволил талантливого реформатора, едва тот начал свою деятельность.
Впрочем, министр успел немало сделать для армии. Прежде всего он вступил в отчаянную борьбу с продажей офицерских должностей – пережитком старых времён, согласно которому за командные посты необходимо было платить порой огромную сумму денег. Не все офицерские должности продавались, и купить их могли не все, кому вздумается. Однако эта архаичная практика приводила к тому, что на ответственные командные посты попадали не сколько за заслуги, сколько за знатность и за деньги. Сен-Жермену, несмотря на отчаянное сопротивление придворной аристократии, удалось провести в жизнь свою идею и начать процесс постепенной ликвидации этого пережитка прошлого.
Министр-реформатор стремился укрепить всеми силами дисциплину, ввести в армии строгий принцип пирамидальной иерархии, искоренить коррупцию. «Распущенность на службе, неподчинение, расхищение королевских финансов, трусость – вот преступления, которые нельзя терпеть в воинском состоянии, – утверждал министр-реформатор. – Они должны быть наказаны со всей строгостью»[8].
Особое внимание Сен-Жермен отвёл реформам в области тактики и материальной части. Новая передовая система артиллерии была введена в 1776 г. Именно пушки этой системы, прозванной по имени её создателя «Системой Грибоваля», будут греметь на всех полях сражений эпохи революции и Империи. В целях экономии Сен-Жермен решил сократить численность дорогостоящего «Королевского дома». Были упразднены знаменитые роты Королевских мушкетёров и конных гренадеров, а оставшиеся отряды значительно сокращены. В общей сложности численность элитной конной гвардии сократилась с 2518 человек до 1527. Однако эта, казалось бы, малозначительная реформа вызвала особое недовольство придворной аристократии и послужила одним из главных поводов к отставке министра.
Несмотря на уход Сен-Жермена со своего поста, проведённые им реформы улучшили качество армии. В ходе войны за независимость США (1775–1783 гг.), в которую королевство трёх лилий вступило в 1778 г., французские полки снова почувствовали вкус побед. «Наши воины сухопутных и морских сил выказали такую отвагу и такую добрую волю, что настоящие патриоты с гордостью взирают на них»[9], записал в своём журнале в марте 1778 г. аббат де Вери, известный политический деятель эпохи Людовика XVI.
Тем не менее общий кризис, нараставший во французском обществе, отразился и на армии. В тот момент, когда идеи энциклопедистов всё больше проникали в самую толщу солдатской массы, консервативно настроенный военный министр генерал де Сегюр подписал в мае 1781 г. эдикт, предписывающий необходимость доказательства четырёх поколений дворянства для получения первого офицерского чина.
Эдикт Сегюра не закрывал совсем дорогу для недворян к офицерским эполетам, а лишь указывал, что получить офицерские эполеты, не служа до этого, или поступить в военную школу, могут только дворяне. Основное острие этого эдикта было направлено не против простолюдинов, выслужившихся из солдат, а против богатых буржуа, которые благодаря деньгам и протекции могли добиться получения офицерского патента без всяких заслуг. Реально накануне революции количество недворян в офицерском корпусе продолжало оставаться довольно значительным – примерно 20 % от общего числа. Половина из этих офицеров была выслужившимися из солдат простолюдинами, но половина – были теми, кто получил офицерский чин сразу. Таким образом, можно сказать, что «эдикт Сегюра» выполнялся плохо. Тем не менее новый закон был отрицательно воспринят в обществе, в котором зрели эгалитаристские настроения.

Э. Детайль. Пехота королевской армии (1789 г.)
Несмотря на всё, королевская армия в 1789 г., в самый канун революции, представляла собой внушительную силу. В полках Королевской гвардии (конный «Королевский дом», полк Французских гвардейцев, полк Швейцарских гвардейцев) состояло 7278 человек. В 102 пехотных линейных полках (из которых 79 были французскими, а 23 иностранными) было 113 тыс. человек. В конных полках было в наличии по спискам 32 тыс. человек, в артиллерии и инженерных войсках около 10 тыс. человек. Итого более 162 тыс. человек по спискам, или в реальности около 150 тыс. человек.

Э. Детайль. Братание солдат полка генерал-полковника и Парижской национальной гвардии (1789 г.)
В теории эти войска в период военной угрозы могли быть усилены ополчением (milice), которое собиралось время от времени для воинских упражнений. Ополчение насчитывало теоретически около 75 тыс. человек. Но так как одним из первых постановлений новой власти (декрет Национальной Ассамблеи от 4 марта 1791 г.) будет отмена этого непопулярного в народе учреждения, оно не сыграло никакой роли в дальнейших событиях.
Королевская армия 1789 г. была дисциплинирована, хорошо обучена, хорошо обмундирована, хорошо вооружена. Солдаты были людьми в расцвете сил, добровольно вступившими в армию. 90 % личного состава были в возрасте менее 35 лет, а 50 % – от 18 до 25 лет.
Несмотря на эти достоинства, армия последних лет Старого порядка была армией мирного королевства, совершенно не нацеленного на большую войну. Военный бюджет королевства в 1788 г., последнего спокойного года монархии, был более чем умеренным и составлял всего 165,5 млн ливров. Мы говорим всего, ибо общие расходы королевства составляли 629,6 млн ливров. Таким образом, расходы на оборону составляли 26,2 %, в то время как в эпоху Людовика XIV они равнялись примерно 90 % всех расходов. Кроме того, ливр конца XVIII века был вдвое меньше по содержанию серебра, чем ливр конца XVII века. Наконец, общий национальный доход несравненно вырос со времён Короля-Солнца, а количество населения увеличилось с 21 млн в 1700 г. до 28,6 млн в 1788 г. Таким образом, королевская Франция явно не собиралась воевать с крупной европейской коалицией, её армия была армией, вполне достаточной для поддержания внутреннего порядка и для ограниченной войны против одной из держав, но не более.
Однако события Великой французской революции перевернули все расчеты военных и дипломатов. Грохот пушек, возвестивший о взятии Бастилии, был предвестником пожара мирового значения для европейского континента, жившего в относительной стабильности, нарушаемой лишь ограниченными локальными войнами.
Вначале, как ни странно, реакция на революционные события у большинства монархических государств, была отнюдь не враждебной. Еще не подозревая, какую опасность таит для них гигантский революционный взрыв, коронованные особы видели во французских событиях лишь ослабление конкурента, каким было для них на международной арене королевство Бурбонов. Тем более подавляющее большинство лидеров революции на первоначальном этапе и подавно не помышляли о войне.
Однако очень скоро это отношение стало изменяться с обеих сторон. Огромная пропагандистская сила революции начала всерьез беспокоить монархов, тем более что вся просвещенная Европа читала по-французски и так или иначе находилась под воздействием французской культуры. А первыми действиями, которые уже не на шутку взволновали правительства иностранных держав, стали акты Национальной Ассамблеи, декретирующие присоединение к Франции Авиньона и земель немецких князей в Эльзасе. Население этих крошечных владений, окруженных со всех сторон французской территорией, было охвачено революционным брожением и в подавляющем большинстве требовало свержения своих сеньоров и присоединения к Франции.
Тысячи французских эмигрантов, хлынувших за границу в связи с радикализацией революционного процесса, готовились к активным действиям. Они собирали свои полки, проникали повсюду ко дворам европейских монархов, запугивая их надвигающейся революцией и требуя от них активных действий. Из-за границы раздались первые угрозы в адрес Франции и бряцания оружием, ставшие уже нешуточными после эпизода с Авиньоном и владениями немецких князей в Эльзасе. 29 августа 1791 года в замке Пильниц император Леопольд II и прусский король Фридрих-Вильгельм подписали декларацию о совместных действиях и помощи французскому монарху. Людовик ХVI и Мария-Антуанетта просили у своих коронованных родственников хорошенько припугнуть чернь. Но все же никто еще всерьез не думал о войне, речь шла скорее об угрозах и политических декларациях.
Однако сбор войск на границах и угрозы вызвали не страх среди политических деятелей революции, а, напротив, дали им пищу для громоподобных речей. Именно тогда в их головах стали рождаться планы превентивного удара. В ослеплении они считали, что борьба будет легкой. С трибуны Ассамблеи Бриссо восклицал: «Французская революция будет священным очагом, искры которого воспламенят все нации, властители которых задумают к ней приблизиться!» Ему вторил Инар: «Твердо скажем европейским кабинетам: если короли начнут войну против народов, мы начнем войну против королей!», а депутат Фоше заявлял: «Посылайте же, глупые тираны, всех ваших глупых рабов, их армии растают, как глыбы льда на пылающей земле!»
В результате 20 апреля 1792 года подавляющим числом голосов Ассамблеи война была объявлена.
В этот момент старая армия, ещё недавно подтянутая и дисциплинированная, находилась в процессе разложения. Генерал Рошамбо, герой войны за независимость США, вспоминал, что идеологи революции «сделали всё, чтобы вызвать всеобщее недоверие солдат к офицерам. Последние же ещё недавно приветствовали декреты Законодательной Ассамблеи, которые, как им казалось, были направлены только против придворной аристократии. Теперь же они стали ярыми врагами революции, ибо увидели, что уничтожены почётные привилегии дворянства. Отсюда в войсках возникли повсюду раздоры и воцарилось непослушание… Солдат стали допускать в политические клубы… их доминирующим настроением был дух, враждебный дисциплине и субординации… отсутствие дисциплины и неподчинение, поддержанные открыто народными обществами, дезорганизовали войска»[10].
«Декреты Национальной Ассамблеи, касающиеся армии, расшатали основы дисциплины, – писал капитан де Мотор. – Безнаказанность, которая завелась в ряде полков, дошла до того, что солдаты прогнали своих офицеров. Эмиграция стала повальной… Границы королевства были открыты. Эмигранты ездили взад и вперёд как хотели»[11].
В результате к 1790 г. и без того не слишком большая армия уменьшилась примерно на 20 тыс. человек. Под ружьём осталось не более 130 тыс. Но самое главное – из полков повально убегали офицеры и вступали в контрреволюционные отряды, собиравшиеся на Рейне. Отсюда всё то, о чём писали Рошамбо и де Мотор: недоверие к командирам, недисциплинированность, развал…
Утром 29 апреля 1792 г. авангарды французских войск под командованием генерала Теобальда Диллона двинулись в наступление на Турне. Но, едва встретившись с первыми отрядами австрийцев, морально разложившиеся войска начали отступать. «Противник едва дал несколько пушечных выстрелов, которые не задели даже стрелков арьергарда, – вспоминал Рошамбо, – как началось бегство, которому нет примеров»[12].

Вступление французов в Савойю. Гравюра из газеты Révolutions de Paris
Но неудачи и вступление неприятельских войск на французскую территорию не запугали мятежную столицу, напротив, весь Париж всколыхнуло мощным импульсом. «Отечество в опасности!» – провозглашали юные ораторы, опоясанные трехцветными шарфами, под звон набатов и гром орудий, стоявших на Новом мосту. Тысячи добровольцев зашагали к границам. Они были еще не обучены, плохо вооружены, но полны решимостью и энергией. Король, королева, а также эмигранты, не понимавшие всей силы этого поднимающегося шквала, требовали от командования коалиции хорошенько пугнуть мятежников. Под их давлением герцог Брауншвейгский, в общем довольно мягкий и совсем не жестокий человек, подписал манифест, где он обещал, что от Парижа не останется камня на камне, если хоть один волос упадет с головы монарха.
Вместо испуга этот манифест, попавший в раскаленную страстями столицу Франции, вызвал взрыв. 10 августа, спустя три дня после того, как о нем узнали парижане, монархия была свергнута. Невиданный дотоле порыв охватил сотни тысяч людей. С трибуны Национальной Ассамблеи Дантон громовым голосом произнес обессмертившие его слова: «… Набат, который звучит, – это не сигнал тревоги, это марш к атаке на врагов Отечества. Чтобы их победить, господа, нам нужна отвага, еще раз отвага, снова отвага, и Франция будет спасена!»
Для французов с этого мгновения война стала войной не на шутку. Монархия была низвергнута 21 сентября 1792 г. декретом новой революционной ассамблеи Конвента, а всего за день до этого, 20 сентября, в битве при Вальми французы остановили прусскую армию и скоро сами перешли в наступление на всех фронтах. На севере, разбив австрийцев под Жемаппом, республиканцы заняли Бельгию. На востоке, тесня пруссаков, вошли в Майнц. На юге при ликовании народа вступили в Ниццу и Савойю. Эти успехи вскружили голову правительству республики. Радостный прием, который встретили французские войска в Савойе и в части германских земель, кажется, подтверждал самые фантасмагорические прожекты освобождения человечества. С трибуны Конвента Грегуар провозгласил: «Жребий брошен! Мы кинулись в борьбу! Все правительства – наши враги, все народы – наши союзники! Или мы будем уничтожены, или человечество будет свободным!» Так полушуточная война превращалась в мировой пожар.
Теперь настало время и коалиции задуматься о том, чем она рискует. Англия, Пруссия, Австрия, Голландия, Испания, Неаполь, Сардиния, множество мелких государств Германии – все поднялись на борьбу. Отныне они понимали, что силы республики велики, и готовились теперь не к военной прогулке, а к битве не на жизнь, а на смерть. Весной 1793 года коалиция перешла в наступление. На удесятеренный натиск врага, на сплошные неудачи на фронтах республика ответила, помножив на сто свои энергию и решимость. К лету 1794 года, если верить официальной статистике того времени, французские войска были доведены до небывалой доселе численности: миллион человек![13] Хотя современные исследователи считают, что эти данные завышены и под ружьём реально находилось не более 750 тыс. человек[14], нет сомнения, что столь многочисленной армии ещё не существовало в истории. Теперь французские войска обрушились на врага с неукротимой энергией и вскоре вновь добились побед. Однако отныне уже никто не мог остановиться, война стала яростной, отчаянной, идеологизированной. Революционные армии снова повсюду пересекли границы Франции, устанавливая везде новые порядки.
Конечно, не стоит модернизировать войны Великой французской революции. Они были далеко не столь жестокими и кровавыми, как мировые войны XX века. Еще не были изжиты замечательные «пережитки прошлого»: красочные мундиры, военная музыка, любезности между офицерами воюющих сторон и рыцарские жесты по отношению к поверженному неприятелю. Однако революция до предела идеологизировала войну, выпустила из бутылки джина национальных страстей, ослабленных в космополитический век Просвещения. Перехлестнувшись через границы Франции, война становилась необратимой. Коалиция отныне не могла уступить, ибо победный марш республиканских войск заставлял шататься все европейские троны. С другой стороны, для республики невозможно было отдать свои завоевания, ибо это означало бы усиление неприятеля, поставившего себе целью не только во что бы то ни стало реставрировать французскую монархию, но и заставить Францию заплатить за все потери и расходы коалиции.
Войну в 1789–1791 годах не планировали и не хотели ни идеологи революции, ни правительства монархических стран Европы. Она началась вне зависимости от чьей-либо воли и благодаря неумолимому воздействию обстоятельств превратилась в ожесточенный всеевропейский конфликт, пламя которого все более разрасталось и остановить который могла только окончательная победа одной из сторон.
В этой борьбе родилась новая армия. Как было сказано, старые королевские войска подверглись процессу разложения. Солдаты дезертировали, офицеры эмигрировали или ушли в отставку. Даже самые ярые оптимисты понимали, что с этими ослабленными полками нечего было и думать противостоять силам складывающейся коалиции. Поэтому было принято решение о создании новых сил – батальонов добровольцев (волонтеров). Декрет о создании этих частей был утвержден Национальной Ассамблеей 12 июня 1791 года. Запись в батальоны должна была быть добровольной, а сами добровольцы – выходцами из Национальной гвардии, последнее условие означало, что это должны быть «почтенные», «благонадежные» люди, ибо только они допускались в Национальную гвардию.
В приграничных департаментах, где опасность иностранного вторжения ощущалась как нечто весьма реальное, формирование батальонов волонтеров происходило быстро и дало наибольшие результаты. Много добровольцев было и в охваченном революционным порывом Париже. Зато некоторые департаменты, где сильны были клерикальные и консервативные слои, не выставили вообще ни одного батальона. Несмотря на все трудности к 1791 году было сформировано более полутора сотен батальонов общей численностью около 100 тысяч человек.
Батальоны волонтеров резко отличались от линейных войск. Здесь все было иное, начиная от менталитета, пронизанного революционной идеологией, кончая униформой, которая у добровольцев была национальных цветов (т. е. синий мундир с белыми и красными декоративными деталями), а у старых королевских пехотных полков белого цвета. Отсюда насмешливые прозвища: «васильки» – так называли волонтеров старые солдаты, и «белозадые», как, недолго думая, окрестили их добровольцы.
Особенно отличался порядок формирования командных кадров волонтерских батальонов. Он был поистине «революционным». Всех командиров, от капрала до полковника, избирали сами добровольцы.
Однако здесь нужно сразу сделать важное замечание. Еще до конца 1791 года появился закон, согласно которому офицерами могли быть выбраны только те, кто уже служил в армии, или, за их неимением, был офицером в Национальной гвардии, что фактически означало принадлежность к зажиточной буржуазии. Наконец, выборы проходили непосредственно в департаментах под контролем местных властей во главе с буржуазной верхушкой, опиравшейся на свои клиентелы. Так что в результате командовали в батальонах волонтеров не лихие неграмотные мужланы, а скорее наоборот, почтенные граждане. Впрочем, были, конечно, и исключения.
Батальоны волонтеров 1791 года были крайне разнообразны по своему качеству. Вероятно, поэтому столь противоречивы высказывания о них, колеблющиеся от самых восторженных до самых презрительных.
Вот что писал, например, генерал Монтескье военному министру Сервану по поводу качества частей своей армии: «Полки (линейные войска), которые прислали из Эльзаса, находятся в жалком состоянии. Во всей армии нет ничего приличного, кроме нескольких батальонов волонтеров. Я хотел бы от всего сердца, чтобы вы прислали больше этих батальонов, и уверен, что из них можно извлечь пользу. Они обычно лучше обучены, лучше дисциплинированы и более подвижны, чем полки. Если бы эти батальоны были более многочисленны, я охотно согласился бы не иметь других войск»[15].
Генерал Дампьер с большой похвалой отзывался о поведении волонтеров в битве при Жемаппе: «Три первые батальона Парижа стояли слева от Фландрского полка, эти три батальона вели себя очень достойно. 1-й Парижский батальон под командованием храброго Баллана отбил атаку эскадрона Кобурга, поддержанного гусарами, уложив перед собой впечатляющий вал из людей и лошадей. 2-й и 3-й вели огонь по венгерским гренадерам, эти батальоны находились под командованием двух командиров, известных своей отвагой: граждан Мальбранша и Лака…»[16].
Равным образом имеются и противоположные свидетельства. Вот что доносил, например, военному министру генерал Ламорисьер 9 октября 1791 года: «Я имею честь донести Вам об отсутствии дисциплины, которое царит в этих частях, и прошу Вас сообщить, есть ли эффективный способ наказаний, который позволил бы внедрить среди волонтеров подчинение и субординацию, необходимые для каждого солдата. Их командиры неоднократно приказывали им построиться как для того, чтобы изучать военные упражнения, так и для других целей. Значительная часть волонтеров отказалась явиться в открытую, другие же не явились молча. Со всех точек зрения граждане желали бы убрать отсюда эти войска, дурное поведение которых их беспокоит»[17].
Наконец, генерал Вимпфен писал 31 декабря 1791 года из Кольмара: «…Вы поймете, что батальонам волонтеров Верхнего Рейна, а также Верхней Саоны и Дуба многого не достает, чтобы быть использованными в качестве воинских частей. Это отставание связано с двумя пороками в их организации, о которых я предупреждал военного министра еще в момент их формирования. Первый – это способ производства офицеров, который вызвал дурные и даже просто смешные результаты. Интриганы, болтуны и особенно выпивохи победили на выборах способных людей. Второй – то, что департаментам поручено обмундировывать и экипировать волонтеров, в то время как у этих департаментов нет ни су, да и к тому же это не их сфера деятельности…»[18].
Так или иначе, волонтеры 1791 года быстро приобрели выправку. Из писем волонтеров мы видим, что воинские упражнения проводились регулярно и зачастую почти каждый день[19]. С началом войны они хладнокровно приняли боевое крещение и скоро стали достойными солдатами.
Хотя волонтеры 1791 года пополняли силы армии, но все-таки объявление войны застало Францию недостаточно готовой к борьбе. Необходимы были новые контингенты. И решили снова прибегнуть к методу, давшему положительные результаты.
11 июля 1792 года Законодательная Ассамблея провозгласила: «Граждане! Отечество в опасности! Пусть те, кто получат честь отправляться первым, чтобы защитить все, что у них есть дорогого, помнят, что они французы и свободны; пусть их сограждане поддерживают у очагов безопасность личности и собственности, пусть магистраты народа будут бдительны, пусть все в спокойствии и отваге, характеризующих истинную силу, ждут для действия слова закона, и Отечество будет спасено!»[20].
12 июля закон провозгласил первый набор в 50 тысяч человек для пополнения линейных войск и формирования 42 новых батальонов (около 33 600 человек) волонтеров.
В Париже, раскаленном энтузиазмом, и в восточных департаментах, находящихся под непосредственной угрозой, набор происходил активно. 22 июля по улицам прошли кортежи национальной гвардии, неся огромные панно с надписью: «Отечество в опасности!» На Новом мосту каждый час грохотали орудия, отовсюду раздавался треск барабанов, звуки труб, призывы ораторов, стук копыт по мостовой и лязг оружия. В этой насыщенной подъемом и энтузиазмом атмосфере набор осуществлялся быстро. Только за неделю записалось 15 тысяч добровольцев. Не меньше желающих было и в приграничных департаментах. Только один департамент Верхней Сены дал сразу 8 батальонов. Что же касается контрреволюционных районов, здесь противодействие было еще острее, чем в 1791 году. В общем же призыв 1792 года поставил в строй огромное пополнение, причем необходимо отметить, что на этот раз наряду с городами значительный вклад внесла и деревня. В то время как 15 % волонтеров 1791 года были выходцами из сельской местности, в 1792 году таковых было 69 %.
Это пополнение необходимо было снабдить командными кадрами. Как и в 1791 году, офицеры избирались непосредственно волонтерами. Однако условия выборов, да и сам контингент избирателей были другими. Революция вступила в новый, более радикальный период. Выборы на командные посты проходили на этот раз вне контроля местной элиты. Результат поэтому оказался соответствующим. Среди офицеров практически не осталось дворян (лишь 0,7 % вместо 4,0 % в 1791 году), уменьшилось количество буржуа, зато вырос процент ремесленников с 22,8 до 32,9 %; наконец до 13–15 % младших офицеров были сыновьями крестьян[21].

Неизвестный художник. Луи Сен-Жюст (1767 – 1794)
Знаменитый деятель Революции Сен-Жюст был комиссаром при Рейнской армии с 16 октября 1793 г. по 4 января 1794 г. Суровыми мерами террора ему удалось восстановить дисциплину, обеспечить снабжение войск и освободить город Ландау от вражеской блокады
Офицеры волонтеров 1792 года были людьми, имеющими немало доброй воли и отваги, но их образовательный уровень был значительно ниже, чем у их предшественников в 1791 году. Наконец, полностью «демократические» выборы привели к тому, что командиры оказались в значительной степени зависимы от своих солдат.
В результате, в данном случае свидетельства современников почти единодушны: волонтеры 1792 года, несмотря на свой патриотический дух, были недисциплинированны, слабы в воинской выучке, подвержены панике. «Парижские батальоны старого набора (т. е. 1791 года) были великолепны, но мне кажется, что новые отвратительны, – рассказывает очевидец. – Я не могу дать вам полной картины, сколько плохого можно о них рассказать. У этих парижан высокомерный вид… Они, кажется, презирают остальную часть армии и желают везде командовать…. тем не менее, что касается военных эволюций и ружейных приемов, они находятся в самом грубейшем невежестве, так что на них больно смотреть»[22].
Создание батальонов волонтеров, а затем полурегулярных частей под названием легионов и вольных рот, быстрый численный рост батальонов за счет новых, уже принудительных наборов, привели к резкому возрастанию армии нового типа, которая, как уже отмечалось, параллельно сосуществовала с линейными войсками в 1791–1793 годах. Численность войск обеих категорий к концу 1792 – началу 1793 года привел в своем раппорте Конвенту Дюбуа-Крансе. Согласно этому рапорту в вооруженных силах Республики было 98 линейных полков, которые, несмотря на потери от дезертирства и эмиграции, вновь пополнили свои ряды и вместе с егерскими батальонами насчитывали около 133 тысяч человек пехоты. В строю было также 35 тысяч кавалеристов и около 10 тысяч артиллеристов. 517 батальонов волонтеров, существовавших в этот момент, насчитывали по спискам 289 114 человек. В общей сложности предполагалось, что под ружьем было около 460 тысяч человек[23]. В дополнение к этим войскам 24 февраля 1793 года Конвент объявил набор 300 тысяч новобранцев, и, наконец, 23 августа было провозглашена «levée en masse» – всеобщая мобилизация, которая вылилась, впрочем, в очередной большой набор.
В этих условиях существование двух параллельных армий становилось невозможным, как с точки зрения организационной, так и с точки зрения политической. Необходимо было немедленное решение проблемы. «Единство республики требует единства армии, у Отечества есть только одно сердце», – провозгласил Сен-Жюст с трибуны Конвента[24]. В результате 21 февраля 1793 года был принят декрет об «амальгаме» – слиянии войск. По мысли авторов декрета один батальон линейных войск сливался с двумя батальонами волонтеров в часть, которую во всех армиях принято называть полком, но которую для отличия от старых королевских войск назвали полубригадой.
Процесс по образованию полубригад происходил зимой 1793–1794 года и в основном завершился к концу 1794 года. Разумеется, крайняя распыленность частей, сложность осуществления слияния прямо в ходе кампании привели к тому, что далеко не везде амальгама произошла в точности так, как было постановлено, некоторые полки и батальоны были «амальгамированы» только в 1795 г. Однако общий результат был очевиден. Отныне армия Великой французской революции представляла собой единое целое с общими для всех регламентами, законами, правилами чинопроизводства.
Еще до того, как процесс амальгамы был завершен, Париж потрясли новые революционные события. 2 июня 1793 года пали жирондисты, и к власти пришли якобинцы – радикальное крыло революционеров. Однако еще раньше правительство приняло ряд решительных мер, продиктованных военной необходимостью и имеющих самое непосредственное отношение к армии.
5 и 6 апреля 1793 года был создан знаменитый Комитет общественного спасения из девяти членов, 9 апреля был учрежден институт представителей народа. К каждой из 11 армий республики было направлено по три представителя, наделенных чрезвычайной властью. Они осуществляли «самый бдительный контроль за действиями агентов Исполнительного совета, за всеми поставщиками и подрядчиками армии, за поведением генералов, офицеров и солдат»[25].
30 апреля Конвент принял новый текст постановления, где еще более расширялись права «представителей в миссиях при армиях». Они получили право арестовывать и отстранять от службы генералов (не говоря уже о простых офицерах). Каждый день они должны были направлять в Комитет общественного спасения дневник своих действий и каждую неделю отчет Конвенту.

Э. Детайль. Представитель народа при армии (1793 г.)
Наконец, после прихода к власти якобинцев обострение внешней и внутренней обстановки вызвало к жизни еще более радикальные меры. В офицерском корпусе начались жесточайшие чистки. Еще 27 января 1791 года Марат заявлял, что не будет победы революции до тех пор, пока во главе войск не будет «настоящих санкюлотов». После 2 июня эта тема стала лейтмотивом посланий, с которыми обращалась к Конвенту Коммуна Парижа. Основным объектом гнева крайних левых сил были представители высшего командования, и это вполне понятно.
1 апреля 1793 года главнокомандующий Северной армией генерал Дюмурье арестовал комиссаров Конвента Камю, Кинетта, Ламарка, Банкаля, посланных в его ставку вместе с военным министром Бернонвилем. Вечером того же дня Дюмурье выдал их врагу. Затем он безуспешно пытался поднять своих солдат против Республики, но, убедившись в тщетности своих попыток, бежал к австрийцам в сопровождении принца Шартрского, герцога Монпансье и нескольких офицеров.
Эта измена послужила поводом к существенным изменениям в кадровой политике Комитета общественного спасения, ибо с радикализацией революционного процесса вследствие мероприятий, проводимых якобинцами, большинство дворян вольно или невольно оказались в антиреспубликанском лагере.
Выбирая между «изменой и незнанием»[26], якобинское правительство не колебалось. На все самые высшие посты решительно выдвигались люди, почти не имеющие боевого опыта. Буквально за один-два года командный состав французской армии неузнаваемо переменился. Если 20 апреля 1792 года из 135 генералов, остававшихся на службе, только 18 не являлись дворянами, то после якобинской чистки в армии, к 1 января 1794 года на высших командных постах осталось только 62 дворянина, а 275 генералов были выходцами из третьего сословия[27].

Ж.-Л. Давид.
Портрет Келлермана (1735–1820). Уголь.
Будущий маршал Империи, генерал Келлерман командовал армией, которая остановила нашествие пруссаков в битве при Вальми 20 сентября 1792 г.
Впрочем, дворяне не только не исчезли полностью из штабов, но и продолжали играть там важную роль. Несмотря на яростную кампанию, которую повели «бешеные»[28] против пребывания дворян в армии, несмотря на то, что 5 апреля 1793 года Конвент декретировал, что в генералы и офицеры штаба могли производиться только те, кто не принадлежал к «бывшим»[29], республиканское правительство не отказалось от помощи специалистов старой армии.
5 июня 1793 г. Конвент принял постановление, согласно которому «будет несправедливо исключать из администрации священников, которые женились, и дворян, которые своей революционной деятельностью хорошо послужили отечеству»[30].
Именно поэтому, как уже отмечалось, на службе в 1794 году оставалось более 60 генералов из дворян. Среди них и знаменитый Келлерман (из дворянства мантии), и будущие маршалы Империи – Груши, Периньон, Макдональд, и сам Бонапарт, произведенный в бригадные генералы в 1793 году представителями Конвента Робеспьером-младшим и Саличетти и подтвержденный в своем звании 6 февраля 1794 года.
Однако республиканское правительство, сохраняя представителей «бывших» на командных постах, бдительно контролировало их действия. Поэтому Бонапарт, например, предпочел скрыть свою принадлежность к привилегированному сословию, и в ответе на анкету, предложенную ему 19 января 1794 года, в графе происхождение написал «не дворянин»[31]. Серюрье, будучи произведен сначала в полковники, был отстранен от службы как аристократ, но, обратившись с просьбой взять его в армию просто как рядового гренадера (ему было 50 лет), заслужил уважение представителей народа и вскоре в 1793 году получил эполеты бригадного генерала[32].

Моро-младший. Максимилиан Робеспьер (1758–1794).
Дворянин Этьен-Жак Макдональд, которому в этом же году было 28 лет, был внезапно произведен в бригадные генералы. «Это был удар грома, – пишет он, – хотя я уже в течение нескольких месяцев исполнял обязанности генерала, но, по крайней мере, на мне не лежала ответственность звания. Я напрасно доказывал, что я молод, неопытен – ничего не хотели слушать. Нужно было подчиниться своей судьбе, чтобы не быть объявленным подозрительным и арестованным»[33].
Когда же из Парижа пришли указания о серьезной чистке штабов, молодой офицер сам попросился в отставку, но «мою службу и мое поведение похвалили, – рассказывает Макдональд. – Главнокомандующий попросил оставить меня… Комиссары пригласили меня к себе и там объявили, что в силу своих полномочий они обязывают меня служить. Я ответил: “Хорошо”, – но пусть они письменно подтвердят, что если я потерплю где-нибудь поражение, они не осудят меня за измену… Они отказались… Тогда я заявил, что покидаю армию. “Если ты покинешь армию, мы арестуем тебя и будем судить”. Нужно было подчиниться и оставаться, несмотря на опасность. Только успехи могли меня защитить и спасти»[34].
Беспокойство молодого генерала вполне можно понять, если обратиться к цифрам. Молот республиканского правосудия бил по штабам со всей жестокостью. Немало представителей народа действовали, подобно Мильо, который гордился тем, что «без страха брался за толстую золотую бахрому[35]»[36].
В результате, если за 30 лет Старого порядка (с 1759 по 1789) было только 11 случаев разжалования генералов, а отстранение же (suspension) вообще не применялось, то только за 1793 год было разжаловано 59 генералов и отстранено 275, за 1794 год – соответственно 54 и 77[37]. Всего же за время республиканского правления 1792–1799 гг. было отстранено от должности 420 генералов и разжаловано 167. Причем особенно выделяется вторая половина 1793 года (только за эти шесть месяцев было осуществлено 230 отстранений от должности и десятки разжалований)[38].
Отстранение или разжалование часто означали и арест (за 1793 год было арестовано 198, а за 1794 – 75 генералов). Затем, как естественное продолжение, следовал суд. В 1793 году были преданы суду 31 генерал, а в 1794-м – 63, причем из них осуждены были 61. Большая часть осужденных были приговорены к смертной казни (за период революционного террора были казнены 54 генерала)[39]. Отстранения, разжалования, производства, аресты, суды, снова производства следовали с головокружительной быстротой. Из 36 генералов, командовавших соединениями знаменитой Самбро-Маасской армии, 19 подвергались аресту или были разжалованы, отстранялись от выполнения обязанностей либо увольнялись со службы (нередко то и другое вместе), а иногда и не один раз.
Внезапные падения чередовались со стремительными взлетами. В течение 1793–1794 гг. зафиксировано 43 случая производства в генералы сразу из… лейтенантов или капитанов![40]
В результате такой сильной встряски облик командных кадров резко изменился.
Большую роль в этих переменах сыграл военный министр, ярый якобинец, Бушотт. Бушотт правда отклонял требования крайнего революционера Эбера о поголовном увольнении дворян из армии и прохладно относился к солдатским петициям, в которых требовалось, как, например, в письме канониров армии Пиренеев, чтобы были отстранены все генералы и заменены добрыми патриотами, «такими, как наш капитан»[41]. Но министр был неумолим в отношении всех «подозрительных», и стремительно выдвигал людей на командные посты, если они отвечали критериям политической лояльности.
Отношение профессиональных военных, искренне вставших на сторону Революции, к этим порой малообъяснимым чинопроизводствам ярко отражает письмо генерала Крига, коменданта Меца, к военному министру. Старый воин писал: «До тех пор, пока я буду видеть во главе войск людей, которые всю жизнь занимались лишь ремеслом, или коммерцией, или мелочной торговлей, я буду оплакивать судьбу армий республики… Ваш метод чинопроизводства, гражданин министр, не может быть таковым, если Республика должна существовать. Сердце у меня обливается кровью, когда я вижу старых пьяниц, непригодных, наделенных всеми недостатками, которые вышли из кабаков, из грязи, из всех социальных пороков и поднялись до командиров, начиная от роты и кончая армией. Как Вы надеетесь, что солдаты будут иметь доверие к командирам подобного типа, если в течение 30–40 лет им не осмеливались доверить артельную кассу четырех рядовых?»[42].
Опасения Крига не были безосновательными, и благодаря Бушотту среди генералов оказались такие военнослужащие как Сюзамик, который, пробыв 14 лет унтер-офицером, ушел в отставку, но затем вернулся в строй батальона волонтеров, был избран капитаном, а 4 октября 1793 года стал командиром батальона. На следующий день Бушотт внезапно сделал его бригадным генералом, несмотря на протесты представителей народа. Как раз в этот момент Сюзамик попросил отставки, так как почти ослеп и был неграмотным. Тем не менее он все-таки был произведен в генералы… чтобы через два месяца быть разжалованным за неспособность[43].
Ну, и совсем уже комичный случай с другой креатурой Бушотта, генералом Анри Латуром, который был арестован Гошем за то, что, «прибыв к армии Запада, нарушил линию аванпостов, пил и пел с гренадерами, целовался с негром и заснул вместе с мясниками армии»[44].
Однако не Сюзамик и Латур представляли типичный облик вождя республиканской армии. Наряду с досадными просчетами в период якобинской диктатуры выдвинулась целая плеяда талантливейших полководцев, столь многочисленная, что, пожалуй, трудно найти другую армию, где в течение нескольких лет перебывало бы столько блестящих дарований на командных постах.
Это знаменитые Гош, Марсо, Дезе, Клебер, Дюгоммье, Бонапарт, Массена, Лекурб, Моро, Жубер и многие другие. В большинстве своем эти звезды первой величины полководческого искусства были молоды. Они опирались на прочную фалангу генералов солидного возраста, имевших огромный военный опыт и вышедших с низших командных должностей, из среды тех, кто, несмотря на всю безупречную и преданную службу, едва ли мог раньше мечтать о более высоком командном посте, чем командир роты гренадер.
Уже в начале 1793 года 80 % генералов уже имели в своем послужном списке не менее 25 лет службы, и только 4 % служили не более 15 лет[45].
Среди этих испытанных командиров, возможно, не оставивших столь яркого следа в летописи побед Республики, – Монсей, Периньон, Серюрье, Дагобер, Дюбуа, Бейран, Косс, Шарле, Фюзье, Ла Барр, Соре и сотни других.
В период якобинской диктатуры происходила и глобальная чистка «остатков» младшего и среднего звена командных кадров королевской армии. Если с 10 августа 1792 года по 2 июня 1793 насчитывалось всего 150 отстранений со службы офицеров, то после установления якобинской диктатуры подобные факты стали обычным явлением. Только за период со 2 июня 1793 года по 20 апреля 1794 года около 600 офицеров были отстранены по причине дворянского происхождения или недостаточного «цивизма» (гражданственности)[46].
Интересно, что причиной отстранения офицеров от исполнения обязанностей не всегда были лишь особо рьяные комиссары Конвента.
Известно немало случаев, когда инициатива исходила и снизу. Причинами этого были и республиканский пыл солдат, подогретый якобинскими клубами, и страх измены, и просто сведение личный счетов.
Ярким примером подобной пертурбации командных кадров является эпизод с 23-м линейным полком[47], произошедший зимой 1793–1794 гг. и ставший объектом разбирательства со стороны командования и комиссаров Конвента.
Документы, хранящиеся в Архиве исторической службы сухопутных войск в Венсенне, позволяют восстановить обстановку этого своеобразного события, произошедшего в 1-м батальоне полка, расположившегося отдельно на зимних квартирах в небольшом селении Модан недалеко от Гренобля. Строгость командира батальона и ряда офицеров, всех бывших дворян, вероятно, возбудила недовольство солдат, чем не преминули воспользоваться то ли беспринципные карьеристы, то ли фанатичные якобинцы, а скорее всего, и те и другие. Обвинения, которые выставил один из них против офицеров из «бывших», смотрятся, мягко говоря, как недостаточно мотивированные, да и заголовок у документа, где они сформулированы, тоже своеобразный: «Старое бельё, которое надо выкинуть на помойку». В первой графе написаны… «имена сволочей»(!), во второй «замечания». В первой графе значится: «Дютей, подполковник 23-го пехотного полка». Во второй написано: «дворянство и старая глупость…».
Ну и далее в таком же стиле:
«Удан, капитан в том же полку – мюскаден, хороший патриот конституции 1789 года, но не любящий ту, которая сейчас, дворянин.
Пэнтандр, капитан в том же полку, – мюскаден до крайности, аристократ, трус, который идет в бой, как собака, которую гонят хлыстом на охоту…
Дионис, капитан в 23-м пехотном полку – аристократ, гад и сволочь как человек, дворянин.
Д’Энград, су-лейтенант в том же полку – дворянин, очень дворянин, бесконечно дворянин, мюскаден. Аристократ… Был в плену в Пьемонте, а потом выпущен под честное слово. Занимался тем, что корчил шута перед Сардинским тираном и его сателлитами. Похвалы, которыми он его осыпает, не оставляют сомнений в этом…»[48].
Эти абсурдные поклепы нашли, очевидно, своих сторонников, и когда некто Шеврийон, агент Исполнительного совета, прибыл к батальону и заявил о том, что все, кто принадлежат к «…бывшей дворянской касте, не заслуживают более того, чтобы занимать посты настоящих санкюлотов»[49], было решено провести собрание батальона, о котором рассказывает другой курьёзный документ:
«Модан, 16 нивоза II года (5 января 1794 г.) Французской республики, единой, неделимой и демократической.
Офицеры, унтер-офицеры и солдаты 1-го батальона 23-го полка генералу Пеллапра, командующему армией Альп.
Гражданин генерал, мы спешим сообщить тебе результаты обсуждения, которое мы провели в отношении офицеров нашего полка, запятнанных пороком дворянства(!). Оно было продиктовано нам самым чистым патриотизмом и санкюлотизмом, кроме того, оно основано на декрете Конвента. Мы посылаем тебе копию протокола нашего собрания, и мы уверены, что, как истинный санкюлот, ты одобрить наше поведение.
Настоящие республиканцы не должны иметь ничего более важного и спешного, как исторгнуть из своей груди людей, которые принадлежат к касте, желающей обратить в пепел цветущую республику и снова взять в руки свою тираническую власть.
Мы уверены, что, имея настоящих санкюлотов на посту командиров, мы разрушим все проекты изменников, и что мы уничтожим их всех до самых корней.
Салют и Братство. Подписано председателем собрания Сан-Шагреном[50]»[51].
После изгнания офицеров-дворян: командира батальона дю Тея, капитанов Удана, Диониса и Окара, а также су-лейтенанта Моранжье, были тотчас произведены выборы командиров на их вакантные места. Командиром батальона был избран некто Анри Вампук, пятидесятитрехлетний офицер, выходец из семьи кожевенника, который прослужил 32 года солдатом и унтер-офицером, и только и 1791 году получил эполеты. О нем даже автор записки о «старом белье» пишет, что он «не может командовать, ибо, хотя он храбрец и добрый санкюлот, но без всякого образования и военных талантов…»[52].
Нужно отметить, что командование весьма прохладно, отнеслось к инициативе 1-го батальона 23-го линейного. Сразу по получении известия о случившемся, командующий армией Альп Пеллапра послал рапорт в Париж военному министру Бушотту… Реакция последнего была не восторженной, равным образом как и представителя народа при армии Альп Гастона, который указом от 13 жерминаля II года объявил незаконным собрание батальона и не имеющими юридической силы все новые назначения командиров. Тем не менее он не решился вернуть изгнанных офицеров, обещав лишь проводить их в почетную отставку[53].
В данном эпизоде наиболее интересным является уверенность солдат и унтер-офицеров в том, что они действуют в соответствии с декретом Конвента об изгнании дворян из армии, который «враги народа» сокрыли от масс: «Согласно изложенному участвующие в собрании постановили, что они не сомневаются, что декрет (об изгнании дворян) был принят Конвентом, и если он еще не послан в эту армию (Альп), то возможно, что эта задержка происходит по вине чиновников… из-за их злых намерений скрыть от истинных санкюлотов основополагающие декреты республики»[54].
Наряду с чистками, отстранениями, разжалованиями, казнями и т. д. якобинцы усиленно пытались политизировать армию. В войска отправляется большое количество пропагандистской литературы. Военный министр распорядился выплатить Эберу 118 600 ливров за миллион экземпляров крайне левой газеты «Пер Дюшен», которые предназначались для солдат и офицеров[55]. Именно через эту прессу солдаты воспитывались в духе бдительности по отношению к их командирам. «Пер Дюшен» был для армии до ареста Эбера, т. е. до марта 1794 года, одним из основных источников информации о событиях в Париже, а также средством идеологического воздействия.
Наряду с газетой Эбера военный министр закупил для армии и другие издания, в частности ультрареволюционное «Ле ружиф или Франк на аванпостах», исходившие от Армана Гюффруа, члена Комитета общей безопасности.
Наиболее решительные «представители в миссиях» самыми строгими мерами добивались того, чтобы в войска поступала республиканская пресса. Мильо и Субрани, представители народа в Армии Восточных Пиренеев, особенно обращали внимание в этом смысле на командный состав. Те из офицеров, кто не зачитывал войскам «Бюллетень Конвента», газеты, прокламации и т. д., должны были быть разжалованы и, как «подозрительные», отправлены в тюрьму[56].
Конечно, не всегда и не всюду солдаты и офицеры получала эту прессу, не всегда она находила положительный отклик. Тем не менее отрицать ее воздействие на войска невозможно. Некоторые фразы из газеты «Пер Дюшен» настолько вошли в обиход солдат и офицеров, что десятилетие спустя, в 1805 году под Аустерлицем пехотинцы дивизий Сент-Илера и Вандамма, наступавшие на Праценское плато, пели во все горло «Пробуждение Пера Дюшена»[57].
Неслучайно поэтому якобинцы в качестве еще одного метода воздействия на войска широко использовали музыку и песни как пропаганду, легко воспринимаемую и заучиваемую наизусть часто неграмотными солдатами. Поэты писали слова песен, в том числе и по заказу военного министра Бушотта. В его счетах, можно найти сумму 80 тысяч ливров, выплаченную гражданину Руссо. Руссо был членом Комитета по народному образованию при Конвенте и написал для Шометта, прокурора Коммуны Парижа, сборник из 17 песен, который был отпечатан в сентябре 1793 года. Каждый волонтер, отправлявшийся на войну, получал подобный сборник[58].
Разумеется, «Марсельеза» была одной из самых знаменитых песен и одновременно мощным средством психологического воздействия. Гувийон Сен-Сир рассказывает в своих мемуарах, какой мощный эффект производила эта песня в бою…[59].
Конкретные политические идеи сообщались армии посредством праздников, организованных таким образом, чтобы добиться наибольшего психологического эффекта. Вот, например, как согласно описанию Дюбуа-Крансе выглядело одно из этих празднеств, данное 20 мессидора II-го года (8 июля 1794-го) в честь «амальгамы»: «…После того, как снова был произведен смотр всем войскам, которые должны были составлять полубригаду, был дан сигнал барабанным боем, и три знамени были составлены в пирамиду в центре площади. Оружие было также составлено в пирамиды перед фронтом каждой роты, после чего солдаты заняли свои места в строю. Тогда представитель народа обратился к войскам, он описал им блага братства и ужасы деспотизма, силу и праведность республиканского правительства. После этой речи солдаты, офицеры и унтер-офицеры смешались в одной массе, обнимаясь с представителем народа, тысячу раз повторяя: “Да здравствует союз всех французов! Да здравствует республика!”
Было дано время излиться чувствам братства, после чего была снова подана команда барабанным боем. Каждый занял место в строю, разобрав оружие. Представитель народа назначил офицеров, которые должны были составить штаб полубригады. Закончив эту операцию, он приказал поставить знамена в соответствующие батальоны. После этого раздался барабанный бой, и представитель народа произнес следующую клятву: “Клянитесь сражаться за Свободу, Равенство и Французскую республику – единую и неделимую. Клянитесь подчиняться законам и уважать собственность, поддерживать воинскую дисциплину. Клянитесь ненавидеть тиранов и их сообщников!” Войска многократно повторили: “Клянемся!” при самых бурных овациях. Затем войска прошли парадом перед своими новыми командирами»[60].
Уже упоминавшиеся Мильо и Субрани рассматривали праздник как важное средство пропаганды, последний говорил: «Фанатичному и суеверному народу нужны процессии и праздники, ну что ж, мы будем их часто отмечать»[61].
В январе 1794 года в Перпиньяне силами армии был дан огромный праздник в честь победителей под Тулоном, 8 февраля был организован праздник в честь местного якобинского клуба. Наконец, большим праздником для военных и для гражданского населения был праздник разума, который торжественно отмечали во всей Франции. В армии Восточных Пиренеев его праздновали с помпой:
«7 марта отряды гарнизона и различных частей армии… собрались на площади и двинулись, предшествуемые национальной жандармерией и эскадроном гусар, к резиденции Дюгоммье (командующего армией), в то время как музыка играла повсюду “Марсельезу” и “Ça ira”. В таком сопровождении Дюгоммье и его штаб присоединились к представителям народа и представителям местных властей. Кортеж направился к храму Разума. В голове его шли двести девушек и женщин, одетых в белые платья, перехваченные на талии трехцветным поясом; шли дети, которые держались за руки своих матерей; старики. Многие ораторы поднялись на кафедру храма. Среди них Мильо, Дюгоммье…. который говорил с пылом юности и захватил собравшихся… Церемония закончилась народным ужином и танцами. Столы были выставлены перед каждым домом. Хорошо угостившись, республиканцы и республиканки исполнили огромную фарандолу, которую вели генералы Ла Бар и Мика…»[62].
Отметим, что во всех этих церемониях и празднествах подчеркивалась неразрывная связь республиканской армии с гражданским обществом. По сути дела, не было чисто гражданских или чисто военных праздников. Все гражданские торжества обязательно сопровождались отрядами войск, оркестрами и т. д., и наоборот, военные церемонии организовывались подобно гражданским, стараясь также привлечь население, местные патриотические клубы и т. д.
Одним из средств идеологического воздействия якобинцев на армию стал также культ «мучеников свободы», т. е. солдат и офицеров, павших на поле боя. Этот культ, спонтанно родившийся в войсках, был поддержан якобинцами, ибо перекликался с идеей культа Высшего Существа. Правительство распорядилось выпустить сборник, где описывались героические деяния республиканцев.

Э. Детайль.
Знаменосец 23-й линейной полубригады и солдаты, разглядывающие знамя
Наконец, немаловажным способом идеологической пропаганды в войсках была республиканская символика. Нужно сказать, что в разработке рисунков знамен, мундиров войск, костюмов магистратов, декоративных композиций на экипировке участвовали виднейшие художники своего времени и, в частности, знаменитый Жак-Луи Давид.
Праздничность, красочность и прекрасный художественный вкус, с которым были выполнены эти атрибуты, также должны были оказывать соответствующее воздействие на войска. В этих эмблемах и атрибутах отразились, как в зеркале, не только политическая борьба, но и воззрения якобинцев на организацию войск. Так, например, батальоны волонтеров имели каждый свои собственные знамена, сильно отличающиеся по рисунку и символике, нередко можно было видеть на них девизы и символы, связанные с местностью, в которой формировались батальоны, позже на них появились также и надписи, связанные с участием батальона в боях и походах. Для якобинцев это было недопустимым партикуляризмом, подчеркиванием отличия от других, проявлением «ésprit du corps» (духа части), так усиленно изгоняемого радикальными республиканцами из армии. Поэтому в 1794 году для всех полубригад были установлены знамена одинакового образца; единственное, что отличало полубригады, был номер и расположение национальных цветов, которое могло быть самым неожиданным. По поручению Конвента это расположение было разработано в марте 1794 года художником Шальо де Прюс[63].
Что же касается надписей на знаменах и центрального мотива, они были одинаковы для всех полубригад. Надписи были по-республикански лаконичны и строги: на одной стороне «Дисциплина и подчинение воинским законам», на другой «Французская республика». Наконец, знамена вторых батальонов всех полубригад были почти полностью одинаковы, различаясь только номерами. Эти знамена были символом единства, подчеркивая спаянность и гомогенность армии.
Меняется и вся система символики в обмундировании, амуниции и эмблемах на официальных бумагах.
На смену белому мундиру королевской пехоты приходит сине-бело-красный республиканский мундир и трехцветная кокарда. А лилии и короны на бляхах гренадерских шапок и патронных сумок, пряжках ремней и на нагрудных знаках заменяются революционными символами: фригийским колпаком, ликторскими пучками, гениями свободы и т. п. Повсюду отныне призывные надписи: «Жить свободным или умереть», «Война тиранам», «В нашем союзе – сила», «Победа или смерть»[64].
Все это вместе взятое: революционная пресса и действия представителей народа в армии, военные празднества и музыка, культ «мучеников свободы» и высокохудожественная республиканская символика – все призвано было создать солдата и офицера нового типа, человека новой эпохи.
Каким видели якобинцы новый идеал воина и прежде всего офицера? На эти вопросы можно найти ответ в речах Сен-Жюста и других лидеров монтаньяров, а также в республиканской прессе.
Командир – это первый среди равных, и его задача – брать образец поведения с народа. Комиссары Конвента исходили из следующего принципа: народ добродетелен, солдаты – это народ, следовательно, солдаты добродетельны. Именно в их среде можно найти воплощение таких идеалов как мужество, бескорыстие, любовь к Отечеству. Подражая солдатам, офицер будет жить жизнью народа. Офицер должен быть скромным в одежде и отличаться строгостью нравов. Он не должен предаваться порокам, обязан избегать падших женщин и чрезмерности в употреблении вина. Офицер должен принимать солдат как своих братьев, в тоне и манере разговаривать избегать всего, что может походить на высокомерие, быть выдержанным и корректным с подчиненными. В лагере и за его пределами должен читать патриотическую прессу, особенно интересоваться законами и информировать о них своих солдат. Каждый день офицер должен готовиться к бою, изучая все необходимое в его деле. Наконец, на поле сражения он должен подавать пример отваги и хладнокровия, биться, не отступая ни на шаг назад.

Э. Детайль
Солдаты Революции на походе
На того, кто не следует в своём поведении этому образцу, его подчиненные должны были донести властям, ибо не следует забывать, что якобинцы рассматривали доносительство как гражданскую добродетель. Однако нужно заметить, что предполагалось, что за клевету солдат мог быть сурово наказан. Наконец, необходимо добавить, что в отличие от левацкого подхода парижских санкюлотов к вопросу кадров, якобинцы предполагали не только ответственность командира перед подчиненными, но и строгое подчинение солдат офицеру-патриоту.
Будет справедливо отметить, что якобинцам удалось в немалой степени реализовать свою задачу воспитания армии на новых идеалах…
Последнее время в популярной исторической литературе модно описывать великие революции (и, разумеется, французскую) как продукт деятельности неполноценных личностей, маньяков, а то и просто уголовников, обращать внимание на самые темные и грязные стороны революционных событий, патологически упиваясь описанием казней или кровавых погромов. Нам никоим образом не хочется ни вступать в полемику об облике Дантона, Робеспьера или Марата, ни вести дискуссию о причинах революции, до глубины потрясшей Францию и Европу, споря о том, являлась ли она неизбежным продуктом естественного исторического процесса или была сделана кучкой заговорщиков. Все это слишком удалило бы от темы нашего исследования.
Нам важно констатировать лишь один абсолютно очевидный для нас факт – люди, ушедшие ценой своей жизни защищать революцию в рядах новой армии, к числу политических проходимцев и маньяков с патологическими отклонениями не относились. Армия, слившаяся в единое целое благодаря «амальгаме», была охвачена волной искреннего, идущего из самой глубины сердца энтузиазма и порыва. Этот порыв, это необычайно приподнятое состояние духа наивной веры в то, что солдаты и офицеры, сражаясь с врагами, открывают новую эру в истории человечества, воюют за «светлое будущее», причем не только Франции, но и всего мира, надолго оставили след в сердцах и умах тех, кто в этот момент дрался под знаменами Республики.
Позже бывшие офицеры Революции, став генералами и маршалами Империи, а затем Реставрации, познав за свою бурную жизнь смену многих режимов, будут очень обтекаемо писать в мемуарах о своем участии в революционных войнах, сосредотачивая внимание на сухих перечислениях маневров и чисто военных аспектах операций. Но даже сквозь страницы этих намеренно лишенных эмоций и политически осторожных произведений нет-нет да и прорываются фразы, выдающие чувства, которые некогда испытали их авторы, в молодости ушедшие сражаться во имя новой веры.
«Вся страна взялась за оружие, все, кто был в состоянии выдержать тяготы войны, ушел сражаться. Молодой человек почувствовал бы себя неловко, если бы остался в такой момент дома… Война, которую я пытаюсь описать, была войной, участием в которой я горжусь, потому что она была одной из самых справедливых»[65], – вспоминал о революционных войнах военный министр Людовика XVIII и, конечно, благонамеренный «роялист» маршал Гувийон Сен-Сир.
А другой маршал, и по иронии судьбы также королевский военный министр (при Луи-Филиппе), Жан-Де-Дье Сульт так писал о солдатах и офицерах французской армии 1794 г.: «Офицеры подавали пример преданности, с ранцем за спиной, без жалованья… они принимали участие в раздачах, как солдаты, и получали, как рядовые, свое обмундирование со складов… Никто, однако, не жаловался на трудности и не отвлекал свое внимание от службы, которая одна была предметом соревнования. Во всех чинах тот же порыв, то же желание идти далее того, что предписывает долг; если один отличился, то другой старался превзойти его своей храбростью, своими талантами, своими делами; посредственность нигде не находила поддержки. В штабах – бесконечная работа, охватившая все области службы, и тем не менее считалось, что ее недостаточно. Мы желали принять участие во всем, что происходит. Я могу сказать, что это период моей службы, когда я более всего работал и когда начальники казались мне более всего требовательными… Что касается солдат, здесь была та же самая преданность, то же самое самоотречение. Завоеватели Голландии переходили замерзшие реки и заливы при 17 градусах мороза босыми и в лохмотьях, и это в то время, когда они находились в самой богатой стране Европы. Перед ними были все соблазны, но дисциплина соблюдалась неукоснительно. Никогда армии не были столь послушными и наполненными таким пылом. Это была эпоха, когда я видел больше всего добродетелей среди воинов»[66].
В этой армии сыновья пахарей и ремесленников шли в одном строю с сыновьями буржуа и художников, вчерашние студенты соседствовали с бывшими маркизами. Многие из них горячо приветствовали Революцию, и это была не только молодежь, как, например, Бонапарт, который написал в едином порыве брошюру «Ужин в Бокере», где выступил как ярый республиканец. Здесь были люди и старшего поколения, такие как Дюгоммье, афишировавший свои революционные убеждения и безжалостно приводивший в действие закон о казни эмигрантов, взятых с оружием в руках.
Но необходимо еще раз заметить, что армия всегда оставалась средой, несколько более консервативной, чем гражданское общество. К этому вынуждает особенность военного ремесла с его неизбежным командованием и подчинением, внешними различиями чинов и их иерархией. Солдаты, а особенно офицеры, нередко проявляли оппозицию, иногда открытую, чаще пассивную, к санкюлотским попыткам превратить армию в политический клуб, блокировали активное проникновение крайне левой прессы, и не руководствуясь какими-то конкретными политическими убеждениями, а потому что это мешало исполнению ими служебных обязанностей.
Выше уже было отмечено, насколько высок был процент офицеров – выходцев из рядов командного состава королевской армии, было обращено внимание и на значительное количество дворян среди офицеров республиканских войск. Все это приводило к тому, что, несмотря на чистки и репрессии, в армии порой представлялось больше возможностей для самосохранения дворян (особенно тех, чьи родственники были в эмиграции), чем в гражданском обществе.
Потому, подчеркивая высокую степень политизации армии, необходимо все же признать, что тезис авторов начала XIX века об армии, стоявшей за пределами политических схваток внутри страны, об «облаке славы, которое словно окутывало границы, мешая врагу видеть внутреннюю борьбу», не лишен основания.
Как известно, 9 термидора II года Республики (27 июля 1794 г.) произошел государственный переворот, свергнувший власть якобинцев. Робеспьер, Сен-Жюст и ряд их сторонников были казнены. Этот переворот поставил точку в утопическом периоде Великой французской революции.
На место кровавых романтиков к власти пришли те, ради кого, собственно, и делалась революция, а именно, представители буржуазии.
Однако в бурный, полный опасностей и неожиданных поворотов фортуны момент обогатиться сумели не тихие почтенные коммерсанты и талантливые организаторы производства, а деляги и жулики всех мастей, нажившиеся на скупке и перепродаже земель фонда «национальных имуществ», на спекуляции продовольствием и поставке в армию некачественных предметов амуниции и гнилого хлеба. Именно эти «новые богачи»[67] стали хозяевами жизни, именно они отныне определяли вкусы, нравы, внутреннюю и внешнюю политику страны.
В то время как народ нищал, спекулянты сколачивали фантасмагорические состояния. Невиданная коррупция охватила весь чиновничий аппарат, стремительная инфляция ассигнатов свела на нет доходы всех зарабатывающих честным трудом людей, бандиты властвовали на дорогах. «Деньги стали богом, единственным предметом поклонения и предметом стремлений, – писал современник, – политика – базаром, где все продается». Перо свидетелей тех лет постоянно выводило слова: цинизм, пошлость, отсутствие всякой морали, развал государства, а в отношении народных масс эпитеты: разочарованность, безразличие к политике, апатия…
Антиякобинский переворот 9 термидора, результаты которого незамедлительно сказались в гражданском обществе, далеко не сразу отразился на армии. Мощный импульс II года продолжал воздействовать на войска. Вслед за победой под Флерюсом 26 июня 1794 года французская армия снова заняла Бельгию, 27 декабря республиканские войска форсировали Маас и 20 января 1795 г. вступили в Амстердам. Голландский флот, вмерзший в лед бухты Тексель, был взят стремительной атакой французских кавалеристов, поддержанных горсткой пехотинцев и артиллеристов. Самбро-Маасская армия перешла Рейн и заняла Кёльн и Кобленц, осадив Майнц. На юге войска под командованием Периньона теснили испанцев и оккупировали часть Наварры и Каталонии. Армия Альп двигалась на Турин. Повсюду войска республики одерживали победу за победой.
Под этими ударами антифранцузская коалиция начала разваливаться. 9 февраля 1795 года в стане неприятеля наметились первые политические потери: великий герцог Тосканский подписал мир с республикой. Пруссия 5 апреля 1795 г. также вышла из борьбы, подписав мирный договор в Базеле, где она признала оккупацию левого берега Рейна французами, наконец, 22 июля того же года был заключен мир и с Испанией…

Э. Детайль.
Дивизионный генерал и капитан штаба
Однако, хотя армия продолжала одерживать успех, ее внутреннее состояние стало серьезно осложняться. Прежде всего начала падать численность войск. Обычно это снижение связывают с отсутствием притока свежих сил. Это не совсем так. Хотя, разумеется, войска получали меньше пополнений, чем в период якобинской диктатуры, численность вновь прибывших оставалась существенной. С августа 1794 года по август 1795 было призвано 29 210 человек, а до лета 1796 – еще 30 550[68].
Несмотря на это пополнение, согласно рапорту министра Петие из 732 474 человек, стоящих в строю (по документам) на август 1794 года, к августу 1795 осталось (также по спискам) 484 363 человека, а еще через год это число уменьшилось до 396 016 человек[69]. Разумеется, реальная численность была еще меньше.
Эти катастрофические потери нанесли прежде всего не ядра и пули неприятеля и даже не болезни (которые, как будет видно из последующих глав, в армиях того времени являлись основной причиной смертности), а повальное дезертирство, которое охватило войска в период термидорианского Конвента и Директории. Только из одной армии Альп в мессидоре III года дезертировало около трех тысяч человек, что составляло почти 10 % ее численности[70]. Не многим лучше обстояли дела в других армиях Республики, которые буквально захлестнуло дезертирство.
Велика была также убыль среди призываемых на службу. Из 1300 набранных в департаменте Крез в VII году только 300 присоединились к своим частям. В департаменте Верхней Луары из 1400 солдат 1-го вспомогательного батальона 1100 отсутствовало. В VII году из 1200 новобранцев, призванных в департаменте Ланды, осталось только 60 в конце первого дня дороги. В следующем году из 333 юношей, покинувших Ардеш, чтобы присоединиться к своей части в Дижоне, только 6 явились на место назначения[71].
Без сомнения, главой причиной этого колоссального дезертирства является ужасающее материальное положение солдат и офицеров. Дивизионный генерал Александр Бертье, будущий знаменитый начальник штаба Великой Армии, в 1795 году писал в Париж генералу Кларку о состоянии Итальянской армии Шерера: «Я нашел все в полной дезорганизации, я еще никогда не видел столь разваленную армию»[72]. Капитан Бернье из той же армии писал военному министру: «Уже пятый день как армия получает только хлеб, за исключением вчерашнего дня, когда мы получили унцию мяса… Если бы это было только временным явлением, мы бы не жаловались, но это случается слишком часто, и мы заболеваем»[73].
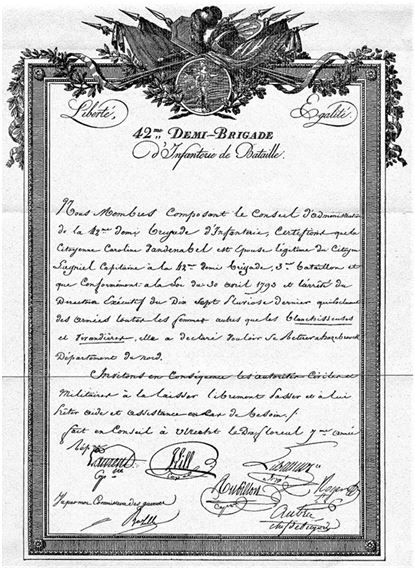
Документ на бланке административного совета 42-й линейной полубригады (VII г.)
Подобное положение было и в других армиях. Мармон рассказывает в своих мемуарах о том, как жили командиры Рейнской армии в 1795 году: «Судьба офицеров была ужасной; ассигнаций больше никто не принимал, и потому всем офицерам, от лейтенанта до генерала, выплачивали восемь франков серебром в месяц – ровно 5 су в день…»[74]. И снова письмо из Итальянской армии: «В течение всей кампании (1795 года) можно было видеть офицеров, идущих во главе своих рот на мародерство, часто бывает так, что, когда выдают жалованье солдатам, офицеры занимают у них су, чтобы побриться»[75].
Было бы, конечно, явным преувеличением говорить, что реальное положение солдат и офицеров во много раз осложнилось по сравнению с эпохой якобинской диктатуры. Хотя определенное ухудшение имело место, оно не было, вероятно, уж столь значительным. Но теперь оно стало куда менее терпимым. Если еще год назад солдаты и офицеры видели, что о них заботятся, что, если они не дополучают свои рационы, то и фанатичные представители народа, такие как Сен-Жюст, жили их жизнью. Теперь же военные комиссары, как писали офицеры: «…роскошествуют в пище, в то время как солдатам не хватает хлеба, и ездят на шикарных лошадях, когда в кавалерии нет и плохих»[76].
Если недавно солдаты знали, что, несмотря на трудности, для них стараются сделать все, что возможно, то теперь они все больше ощущали себя париями нации. Одновременно и цели войны становились для многих менее и менее понятными. У солдат протест против подобного положения выливался в дезертирство, катастрофически уменьшавшее численность войск. В результате, полубригады постепенно ослабли до такой степени, что на поле боя они уже не могли действовать в соответствии с регламентами. Возникла необходимость переформирования, ибо возможность заполнения вакансий в рядах за счет призыва новых рекрутов стала весьма сомнительной.
Это переформирование, или так называемое «второе сведение в полубригады» (Second embrigadement), было декретировано 7 января 1796 года и осуществлено весной того же года. В результате, около двухсот существовавших к этому времени полубригад пехоты, а также еще остававшиеся «неамальгамированными» батальоны волонтеров, были сведены в 110 новых полубригад линейной и 30 полубригад легкой пехоты с одинаковыми структурой и организацией[77].
Заметим, что, несмотря на все пертурбации в пехоте, кавалерийские полки претерпели лишь незначительные изменения и оставались в большинстве своем такими, какими они были при Старом порядке, и даже сохранили почти полностью свою униформу.
О степени серьезности переформирования пехоты говорит тот факт, что многие новые части были созданы из 5-10 и более старых. Так, например, 70-я линейная полубригада была сформирована в 1796 году из 50-й, 134-й, 157-й полубригад, 73-го, 74-го полков (т. е. еще «неамальгамированных» частей старой армии), батальонов волонтеров Кальвадоса, Дордони, Эро, Лота-и-Гаронны, батальона «Равенство» и депо 12-го батальона парижских волонтеров. Впрочем, рекорд в этом смысле принадлежит 4-й линейной и 28-й легкой полубригадам, которые были сведены из 22 батальонов каждая, 63-я линейная была образована из 19 батальонов, 70-я – из 17 и т. д.[78]
Армия в результате переформирования стала еще более гомогенной, и с этого времени можно говорить об ее окончательном становлении в новой форме. Необходимо отметить, что, несмотря на резкое падение численности войск, боевые качества тех, кто оставался под знаменами, не падали, а скорее улучшались. Армия, ряды которой сильно поредели, закалилась в боях и лишениях. Остались те, кто имел достаточно доброй воли, те, кто верил еще в справедливость войны Республики против «тиранов», и те, кто надеялся отличиться и подняться по ступеням военной иерархии.
Рапорты инспекций, подробно характеризующие качества частей в эту эпоху, очень неодинаковы. Наряду с удручающими, есть и такие: «Инспектор увидел с большим удовлетворением те положительные изменения, которые произошли в 24-й полубригаде по сравнению со смотром, который он провел 19 мессидора IV года… Он нашел, что униформа офицеров в общем регулярна, что униформа унтер-офицеров и солдат настолько хороша, насколько позволяют обстоятельства… Офицеры в общем проявили много старания, чтобы экипировать и обучить часть. Солдаты показали точность в упражнениях и умение. Регулярность, с которой они действуют оружием, показывает, что с ними постоянно занимались…»[79]. В общем, степень подготовки офицеров в 1797 году оценивалась инспекторами как «хорошая» или «достаточно хорошая»[80].
Однако лучшим критерием качества войск является практика, умение солдат и офицеров действовать в боевой обстановке. В этом смысле документы показывают явные изменения по сравнению с эпохой создания республиканской армии.
Даниэль Решель в своем исследовании, посвященном маршалу Даву, приводит отчеты о действиях на поле боя различных французских воинских частей в период Директории. Особенно он обращает внимание на дошедшее до нас подробное описание боя при Ротенсоле в кампании 1796 года, где отчетливо видны практические приемы, в совершенстве применяемые французскими войсками.
Решель делает вывод: «Исполнение пяти фаз боя в течение нескольких часов, где с гибкостью переходят от наступления к обороне, где под огнем врага по желанию выказывают то спокойствие, то поспешность, где выделяют и снова вводят в батальоны стрелков с их взводами поддержки, где командующий с уверенностью по неуловимым признакам определяет состояние неприятеля – все это показывает высокое боевое мастерство, которым овладела эта армия…»[81].
Генерал Моро в своем письме от 5 мая 1797 года подтверждает данную мысль: «…Отброшенная часть (французская) не отходит в беспорядке и двухсот шагов; она снова строится и идет на неприятеля»[82].
Но если чисто боевые качества войск скорее улучшились, чем ухудшились, то связь армии с гражданским обществом была потеряна полностью.
Как уже было показано выше, якобинцы стремились до предела политизировать армию, и, следовательно, держать ее в курсе политической борьбы, распространять в среде солдат и офицеров свои идеи и, как необходимое средство этого, не только держать командование в узде, но и пытаться морально вознаградить воинов, воздать должное тем, кто на поле брани проливал кровь за Республику.
Новые властители Франции, быть может, менее жестокие, но в то же время более эгоистичные, были лишены пыла и энтузиазма, которые были свойственны якобинским «пассионариям». Они не могли зажечь и воспламенить сердца, но, как уже упоминалось, не обладали и возможностью удовлетворить желудки. Оставшиеся на передовой должны были сражаться, не чувствуя за собой поддержки страны, и не надеясь, как в первые годы революционных войн, на радостный прием в чужих краях.
Мысль о том, что «отечество коррумпировано», что республика продается с молотка, стала распространяться в войсках. На бивуаках говорили, что аристократы, возвратившиеся из эмиграции, готовятся уничтожить завоевания Революции, что им помогает аристократия богатства. Солдаты и офицеры, вернувшиеся после краткого отпуска, рассказывали, что в городах властвуют «мюскадены», что золотая молодежь избивает и убивает «патриотов» и особенно тех, кто носит военную форму. Приходилось собираться группами, чтобы отбиваться от нападений. На юге страны банды роялистов, к которым присоединились дезертиры и уклоняющиеся от военной службы, нападали на дилижансы, путников, изолированные фермы и деревни; убивали не только якобинцев, но и всех, кто носил трехцветную кокарду и, разумеется, униформу. Генерал Тьебо, в эту эпоху молодой офицер, рассказал в своих мемуарах, с какими опасностями было сопряжено его путешествие из Парижа в Итальянскую армию: «…Бастид был притоном сотни роялистов, составлявших одну из самых страшных банд этих краев… Разумеется, эти негодяи грабили и убивали всех тех, в ком они видели надежду на добычу, но самым главным для них была беспощадная война тем, кто служил Франции… Наша униформа была бы для нас смертным приговором»[83].
Алан Форест в своем фундаментальном исследовании «Дезертиры и уклоняющиеся в эпоху Революции и Империи» показал, сколь значительным был размах действий шаек роялистов на юге Франции, а также отразил ту особо важную роль, которую играли в них дезертиры, что придавало действиям этих банд ярко выраженный антиармейский характер[84].
Еще недавно рассматриваемые как «лучшие граждане», солдаты, и в особенности офицеры, превратились в отвергнутых, которым отказывали в самом элементарном. С горечью писал об этом сублейтенант французской армии в 1796 году: «Едва вы покидаете военный лагерь, чтобы отдохнуть на квартирах или, победив в одном месте, вы направляетесь в другой конец страны, то вместо уважения со стороны граждан вы испытываете только унижения и даже оскорбления. Можно все вытерпеть, но не публичное презрение. Нас помещают в самые плохие, самые отвратительные места. Можно ли давать право аристократам унижать нас?..»[85].
Директория не выполняла и материальных обещаний, данных войскам в эпоху якобинской диктатуры. Как известно, декрет от 6 июня 1793 года предполагал выплату значительной пенсии солдатам и офицерам, покинувшим службу из-за ранений, причем даже для младших чинов ее размеры были немалые. В войсках также был широко известен декрет о так называемом «миллиарде для ветеранов». Первоначальный его вариант, изданный 21 февраля 1793 года, гласил в своей V статье: «Национальный Конвент, желая добавить еще один знак внимательности к уже обещанным и дать почувствовать это, насколько возможно, семьям храбрых защитников Республики, провозглашает, что имущество эмигрантов в сумме до 400 миллионов будет передано для выплаты пенсий и наград для военных, их вдов и детей…»[86]. В скором времени имущество эмигрантов, которое должно было быть использовано для этой операции, было зафиксировано в сумме 1 миллиард франков. В действительности же закон остался на бумаге, и огромное количество ветеранов либо вообще не получили пенсий, либо получили ничтожные, нерегулярно выплачиваемые суммы.
Нищета, а порой даже голод, рваные мундиры и истертые эполеты, невыполненные обещания правительства и бюрократические проволочки, угрозы «мюскаденов» и презрение нуворишей – вот судьба солдата и офицера в эпоху Директории, причем последние обстоятельства действовали, быть может, сильнее, чем материальные лишения. Армия большей частью готова была переносить лишения и трудности, но никак не унижения.
Начиная с 1796 года солдаты и офицеры начинают воспринимать гражданское общество как противостоящую им силу. Гражданское общество – это пороки, грязь, эгоизм, трусость и лицемерие, их же социум – это самоотречение во имя общего блага, храбрость, честность, преданность дружбе и долгу. Наряду с презрительными кличками по отношению к гражданским в лексикон французских солдат прочно входит слово «аристократ». Разумеется, здесь не следует понимать это слово ни в своем непосредственном значении (как термин, обозначающий представителя высшего дворянства), ни даже в том смысле, в котором его употребляли в эпоху якобинской диктатуры – дворянин, контрреволюционер, пособник эмигрантов. Слово «аристократ» отныне употребляется военными для обозначения всех «плохих», вне зависимости от их происхождения и убеждений, всех тех, кто не исповедует моральных ценностей военной среды, ибо последняя является, по их мнению, истинным воплощением идеалов Революции, единственным прибежищем настоящих республиканцев.
Войска, отрезанные от Франции морально и физически, ибо сражались уже за её границами, все более созревали для того, чтобы повернуть оружие против «прогнившего» гражданского общества, чтобы переделать его в соответствии со своими идеалами. Этому способствовали три фактора: прецеденты использования военной силы внутри страны в политических целях, слабеющий контроль правительства за дисциплиной и состоянием войск и, наконец, появление ряда генералов, и прежде всего Бонапарта, умело использовавших настроения своих полков для создания клиентелы, готовой стать орудием в борьбе за власть.
Сама Директория подала пример использования войск и призванных из Италии генералов, чтобы очистить Совет пятисот от неугодных депутатов.
А в это время в армии то и дело вспыхивают бунты: в первом батальоне 183-й полубригады в Бельгии в июне 1795 года, в 24-й полубригаде в Голландии осенью того же года. В феврале 1796 года начался мятеж в дивизии Серюрье в Италии; в 1797 году взбунтовались 35-я, 36-я и 86-я полубригады в Рейнской армии и 52-я полубригада в Западной армии. Хотя все эти выступления и были относительно быстро подавлены, тем не менее, они очень показательны. Особенно важен для понимания моральной эволюции факт военных мятежей в Риме и Мантуе весной 1798 года.
В феврале 1798 года французские войска оккупировали папские владения в Италии и установили республиканское правление в Риме. Это не помешало наложить на «Вечный город» значительную контрибуцию. В то время как чиновники военной администрации хозяйничали в церквях и дворцах римской аристократии, армия находилась в бедственном положении. Уже несколько месяцев солдаты и офицеры не получали жалованья, часто недоедали, мундиры многих полубригад были вконец истрепаны. Но пока армией командовал Бертье, войска терпели. Когда же на пост главнокомандующего был назначен генерал Массена, храбрец в бою, но известный в армии как человек алчный и нечистый на руку, чаша терпения переполнилась. Младшие офицеры организовали мятеж, поддержанный солдатами и старшими офицерами. Мятеж удалось загасить только тогда, когда Массена покинул армию, передав командование генералу Дальманю.
Правительство вынуждено было отказаться и от попытки наказания виновных, так как это грозило еще большими волнениями.
В прокламациях и петициях возмущенных солдат и офицеров, которые они направляли в адрес командования и распространяли среди жителей, обращает на себя внимание ряд особенностей. Во-первых, в этих документах мы постоянно встречаемся с мыслью о том, что администрация и гражданское общество Франции коррумпированы. Им противопоставляются самоотречение и жертвенность армии: «…На наших глазах, в то время, как войска нуждаются во всем, расхитители громоздят награбленное, выставляя напоказ возмутительную роскошь; игорные дома и места разврата полны чиновниками военной администрации, скандальное расточительство которых и громкие оргии оскорбляют нужду солдат…»[87].
Армия, и прежде всего офицеры, рассматривают себя как единственных носителей чести и достоинства: «Армия в нашем лице требует, чтобы правосудие свершилось над грабителями, которые бесчестят имя француза; она желает, чтобы были возмещены все разорения, содеянные против правил человечности, в домах и церквях, принадлежащих государствам, состоящим в мире с Республикой»[88].
Во-вторых, армия начинает рассматривать себя как силу, которая способна и должна воздействовать на общество. В обращении офицеров 21-й полубригады, находившейся за пределами Рима, к остальным частям говорится: «Молчание, которое армия хранила до сего момента в отношении бесчисленных злоупотреблений, они приняли за оцепенение; пусть же они знают, несчастные, что если мы ждали до сего дня, то по причине нашего удаления, а не из-за незнания или страха»[89]. На реплику Массена: «По какому праву вы разжалуете вашего генерала? Считаете ли вы, что я буду столь малодушным, чтобы признать акты незаконной ассамблеи?» офицеры ответили: «Мы хорошо знаем, что наша ассамблея незаконна, но 18 фрюктидора было не более законным; у нас есть основания делать то, что мы делаем, к тому же с оружием в руках армия – сама закон…»[90].
В-третьих, несмотря на то, что военные мятежи, которые произошли в это время в Мантуе и Фераре, имели в своей основе прозаические мотивы: невыплаченное жалование, плохое питание, отсутствие обмундирования, плохие госпиталя и т. д., они были связаны с восстанием в Риме.
В большом беспокойстве генерал Барагэ д’Илье доносил 22 вантоза VI года (12 марта 1798 года) Бертье: «Между всеми полубригадами существует тайная переписка, которая распространяет дурные советы и примеры и которая устанавливает единство во всех злоумышленных предприятиях, которые они совершают или замышляют. Это единство разрушает все меры, предписываемые благоразумием»[91].
Обращает на себя внимание, наконец, то, что Директория была бессильна воздействовать на армию и к тому же не была способна понять (или делала вид, что не способна) истинные причины выступлений.
В римском выступлении, как в капле воды, отражаются все процессы, происходившие во французской армии в этот период. И если солдаты и офицеры готовы были выступить против коррумпированных чиновников и бесчестного генерала, то равным образом они были готовы пойти за тем полководцем, кто сумеет завоевать их любовь и доверие.
Таким генералом стал прежде всего Бонапарт. Ничто, впрочем, не наводит на мысль о том, что двадцатишестилетний генерал, прибывший к голодной и оборванной итальянской армии, имел твердое намерение сделать ее орудием своих политических замыслов. Однако блистательные победы, одержанные юным полководцем, и зародившаяся тогда на равнинах Италии преданность солдат и офицеров своему любимому военачальнику очень быстро заставили его задуматься о своем политическом будущем: «После Вандемьера и даже после Монтенотте, – пишет на Святой Елене Наполеон, – я еще не рассматривал себя как необычного человека, только после Лоди мне пришла в голову идея, что я могу стать решающим актером на нашей политической сцене. Тогда родилась первая искра великих мечтаний…»[92].
Бонапарт не только смог расположить к себе войска, получив возможность за счет контрибуций выплачивать половину жалованья в звонкой монете, но и создать своеобразный, отличный от других «дух итальянской армии». Суть его в преданности полководцу, смешанной с остатками пылких республиканских убеждений, нескрываемое противопоставление «чистой» армии и нечестивого мира вокруг нее.
Было бы неверно утверждать, что этот дух был творением только лично Бонапарта. Солдаты, и в особенности офицеры, сами подсознательно искали такого генерала. Они желали, чтобы явился кто-то, кто поведет их за собой, силой штыков поставит на место «аристократов», воров – военных чиновников, «мюскаденов» и т. д. Но не вызывает сомнения также, что молодой генерал умело распалил это чувство.
В качестве одного из орудий пропаганды он использовал прессу. 1 термидора V года (19 июня 1797 года) была основана газета «Курьер Итальянской армии, или французский патриот в Милане», редакция которой была поручена Жюльену, бывшему якобинцу и участнику «заговора равных» Бабефа. Успех этой газеты вызвал появление другой: «Франция глазами Итальянской армии» под редакцией Реньо де Сен-Жан д’Анжели, представлявшего умеренное по отношению к Жюльену крыло республиканцев. Раздаваемая бесплатно военнослужащим газета «Курьер Итальянской армии» информировала солдат и офицеров о том, что происходит во Франции, ориентируя их в желательном для Бонапарта направлении, но еще более она привязывала их к особе главнокомандующего.
Вот, что можно прочитать о молодом полководце в номере от 23 октября 1797 года: «Он летит как гром и поражает как молния. Он повсюду и видит все»[93]. Вторая газета прославляла республиканские нравы Бонапарта: «Если вы близко увидите его, то вы увидите простого человека, с удовольствием оставляющего свое величие со своей семьей; но его ум занят обычно какой-нибудь великой мыслью, которая часто прерывает его сон или трапезу. С благородной простотой он говорит своим близким: “Я видел королей у моих ног, я мог бы иметь 50 миллионов в моих сундуках, но я хочу другого. Я французский гражданин, я первый генерал Великой Нации и я знаю, что потомство воздаст мне справедливость”»[94].
Обращения Бонапарта к Итальянской армии, поистине блистательные образцы красноречия, также постоянно подчеркивают ту же мысль: армия отважна и добродетельна, полководец – воплощение ее лучших черт: чистый, справедливый, суровый к негодяям:
«Солдаты! В пятнадцать дней вы одержали шесть побед, взяли 21 знамя, 55 орудий, множество крепостей и завоевали самую богатую область Пьемонта. Вы захватили 15 тысяч пленных, уничтожили и вывели из строя 10 тысяч солдат… Вы выигрывали битвы без орудий, переходили реки без мостов, совершали форсированные марши без обуви, отдыхали без водки и часто без хлеба… Благодарное Отечество обязано вам своим процветанием. Дурные люди, которые смеялись над вашей нищетой и радовались в мыслях триумфам наших врагов, теперь в ужасе и трепещут…
Друзья! Я обещаю вам победу, но при условии, что вы не допустите грабежей, на которые вас толкают негодяи, подкупленные вашими врагами… Наделенный властью от нации, силой справедливости и закона я сумею заставить это малое число бессердечных трусов уважать законы гуманизма и чести, которые они попирают. Я не допущу, чтобы бандиты пачкали ваши лавры… Грабители будут беспощадно расстреляны»[95].
Огромное внимание уделял Бонапарт и «духу части» (ésprit du corps), который особенно сильно разжигает самолюбие солдат и офицеров. Впервые в истории республиканских войн на знаменах полков Итальянской армии появились вышитые золотыми буквами слова главнокомандующего, характеризующие ту или иную часть: «Ужасная 57-я, которую ничто не остановит», «Храбрая 18-я, я знаю, враг не устоит перед Вами», «Повсюду артиллерия покрыла себя славой»[96].
Эти надписи стали предметом гордости и чести. Спустя многие годы после Итальянской кампании солдаты будут повторять эти характеристики бесстрашных полков, брошенные Бонапартом и тут же ставшие крылатыми.
Новые знамена с изречениями полководца были розданы с большой помпой. Вручение этих эмблем сопровождалось тесным контактом Бонапарта с войсками. Возбужденные торжественной атмосферой и опьяняющим ореолом славы командиры и солдаты клялись в верности новому Цезарю. Унтер-офицер 9-й полубригады, приблизившись к Бонапарту, громко сказал: «Генерал, ты спас Францию. Твои сыны, счастливые принадлежать к непобедимой армии, закроют тебя, если понадобится, своими телами! Спаси Республику, и сто тысяч солдат, которые составляют эту армию, сомкнутся, чтобы защитить Свободу!»[97]. С подобными словами солдаты не обращались ни к Журдану, ни к Клеберу, Марсо, Гошу, Моро, ни к другим республиканским полководцам.
Чувства офицеров, одновременно и выстраданные ими самими, и подогретые Бонапартом, ярко раскрываются в тостах, произносимых на патриотических банкетах. Разгоряченные вином, радостью победы, блеском сабель и эполет, они произносят речи, в которых звучит преданность их полководцу и угрозы прогнившему обществу. Эти слова звучали и на банкете 10 августа 1797 года, где они были скрупулезно записаны начальником штаба дивизии Массена полковником штаба Солиньяком. Командир 32-й линейной Дюпюи воскликнул: «Я обращаюсь к меньшинству в Советах, пусть они по нашему примеру станут достойными доверия республиканцев, пусть они соединятся, чтобы, подобно Горе, исторгнуть молнии, которые раздавят это большинство, ведущее заговор против Конституции и Свободы». Батальонный командир 26-й высказывался еще яснее: «За славных генералов Итальянской армии, которые своими талантами и отвагой разгромили внешних врагов Республики, пусть они как можно быстрее поведут нас против внутренних!..»[98].

Э. Детайль. Бонапарт в Первой Итальянской кампании.
Эту задачу, как известно, успешно решил генерал Бонапарт. В мае 1798 года правительство Директории направило его во главе 35-тысячной армии на завоевание далекого Египта. Здесь в августе 1799 г. после многих побед и неудач молодой полководец узнал о том, что кризис Директории достиг своего апогея. К внутреннему развалу и анархии добавились сплошные неудачи на фронтах. Ко второй коалиции против Франции присоединились Российская империя и Турция. Русская армия под командованием А.В.Суворова разгромила на итальянском театре военных действий армии Шерера, Моро, а затем и знаменитого Жубера (в битве при Нови, где сам Жубер был убит), на Рейне австрийские полки под командованием эрцгерцога Карла также теснили французов, в Голландии высадился русско-английский экспедиционный корпус. На дорогах юга Франции хозяйничали банды роялистов, а на улицах Парижа – грабители без конкретной политической ориентации. Экономическая жизнь окончательно впала в маразм. Народ голодал, а спекулянты еще более богатели… Дальше ждать было невозможно.
В ночь с 22 на 23 августа 1799 года Бонапарт с горсткой своих ближайших соратников и небольшим отрядом эскорта на фрегате «Мюирон» (названном так в честь молодого адъютанта, закрывшего своим телом от залпа картечи главнокомандующего у Аркольского моста) и фрегате «Карер» отплыл из Александрии. 9 октября после полного опасностей и тревог почти двухмесячного плавания по Средиземному морю, наполненному вражескими эскадрами, Бонапарт высадился во Франции, а утром 16 октября он уже был в Париже.
Бонапарт вернулся в столицу, овеянный славой новых побед и походов. В то время как другие полководцы республики растеряли свою популярность в поражениях 1799 г., он лишь еще более поднялся в глазах общественного мнения. Тогда как с европейских театров военных действий приходили известия одно хуже другого, из Египта и Сирии доносились отголоски каких-то необычайных, удивительных свершений. Обладая блистательным пропагандистским талантом, Бонапарт сумел представить успехи своей армии не просто в выгодном свете, а придать им эпический размах и ореол легенды. Высадка в Александрии, битва при Пирамидах, победоносная армия, проходящая через древние Фивы, трехцветное знамя, развивающееся на берегах великого Нила, победы под Назаретом, Фаворской горой, Абукиром – все это заставляло вспомнить о походах Александра и Цезаря, подвигах крестоносцев Ричарда Львиное Сердце и Людовика Святого.
Молодому генералу не пришлось ломать голову над тем, стоит или нет попытать счастье в политической борьбе. Восторженный прием населения на всем пути его следования до Парижа, разговоры с офицерами, генералами, политиками и финансовыми тузами – все говорило о том, что власть сама идет к нему в руки. Именно поэтому Бонапарт решил организовать мирный, почти что конституционный переворот, получить бразды правления Республикой и широкие властные полномочия, не прибегая к силе.
Действительно, в день 18 брюмера VIII года (9 ноября 1799 г.) ему удалось добиться, чтобы представители высшей исполнительной власти, три из пяти членов Директории, сами подали в отставку. Дело оставалось за малым – утвердить отставку правительства и получить подтверждение своих полномочий на заседании двух палат парламента – Совета Старейшин (верхней палаты) и Совета Пятисот (нижней палаты). Дабы избежать возможных помех, их собрание было намечено провести на следующий день вне Парижа, в загородном дворце Сен-Клу.
Здесь-то и разыгралась драма, которую обычно принято называть переворотом 18 брюмера, хотя фактически его основные события произошли в день 19 брюмера VIII года (10 ноября 1799 г.).
Общеизвестно, что попытка Бонапарта выступить перед парламентариями окончилась провалом. Уже в Совете Старейшин, который должен был утвердить отставку членов Директории, речь генерала не произвела должного эффекта. Привыкший говорить перед молчаливыми шеренгами боевых соратников, которых он потрясал рубленным стилем своего могучего воинского красноречия, молодой полководец осекся, когда оказался перед лицом целого сонма враждебно настроенных политиканов. Скоро его речь стала сбивчивой и путаной: «Вы живете на вулкане!.. У Отечества нет более преданного защитника, чем я… Меня оклеветали, меня облили грязью… Я не принадлежу ни к одной партии, я принадлежу лишь французскому народу… Если я вероломен, будьте все Брутами!..» – почти выкрикивал он в зал, встретивший его речь все нарастающим ропотом. «А конституция!?» – воскликнул кто-то. «Конституция?! Ведь это вы ее растоптали, изнасиловали, разорвали. Ее больше нет!.. Помните, что со мной идет бог войны и бог удачи!..» Если верить мемуарам Бурьенна, он произнес, обращаясь к Бонапарту: «Генерал, Вы уже сами не понимаете, что говорите», и увлек вон из зала.
Потерявший спокойствие Бонапарт решил было попытать счастье в Совете Пятисот, он вошел туда решительным шагом боевого офицера, но неожиданно его просто-напросто встретил шквал криков и протестов: «Долой диктатора! Вне закона!» Часть депутатов бросилась к нему с кулаками, и только два гренадера, сопровождавших генерала помогли ему выбраться из зала заседаний невредимым.
Казалось, все было потеряно…
Многие историки пишут, что Бонапарт растерялся. «В течение некоторого времени он не мог прийти в себя. Он с трудом переводил дыхание. Его речь была бессвязна»[99], – писал знаменитый советский историк Манфред. По мнению ряда исследователей, только благодаря своевременной помощи Люсьена Бонапарта, брата главнокомандующего и председателя Совета Пятисот, переворот не завершился катастрофой…
Однако нам кажется, что в сложившейся ситуации переворот был практически обречен на успех. Дело в том, что, сосредотачивая внимание на событиях, происходивших в залах заседания парламента, историки порой забывали об одном решающем факторе – дворец Сен-Клу был окружен почти целой дивизией, около 6 тысяч солдат, подчинявшихся генералам, поддерживавшим заговор. Более того, по иронии судьбы, значительная часть пехотинцев и кавалеристов парижского гарнизона, стоявших наготове в этот холодный осенний день, были ветеранами Итальянского похода Бонапарта. В частности, поблизости от дворца находился 8-й драгунский полк, сражавшийся при Лоди, Кастильоне и Риволи, а также 9-й драгунский, солдаты которого помнили битвы при Кальдиеро, Мантуе и Тальяменто. Личный состав всех этих частей разделял, если очень мягко выразиться, антипарламентские настроения. Нет сомнения, что эти люди без особых угрызений совести выполнили бы приказ своего полководца и с больший удовольствием разогнали бы членов обоих Советов.
Впрочем, Люсьен Бонапарт сыграл действительно немалую роль. Хотя он и не спас переворот, однако без сомнения помог сделать его бескровным. Дело в том, что непосредственно вокруг здания, где заседали Советы, находились несколько сот солдат Гвардии Законодательного корпуса и Гвардии Директории (см. гл. XIII), призванных охранять вышеназванные учреждения. Навряд ли, эти войска стали бы отчаянно защищать окончательно дискредитировавшее себя правительство, тем не менее даже их вялое сопротивление могло бы привести к жертвам, чего категорически не желал Бонапарт. Роль Люсьена заключается в том, что он, обратившись со страстной речью к гвардейцам, повернул их штыки против охраняемых ими депутатов.
От грохота солдатских башмаков в коридоре, ведущем в зал заседаний, крики депутатов, готовившихся умирать за свободу, становились все тише и тише, пока двери с гулом не распахнулись, и в воцарившейся тишине Мюрат скомандовал громовым голосом: «Вышвырните-ка всю эту публику вон!» Гренадерам, впрочем, не пришлось орудовать ни штыками, ни прикладами, ни даже кулаками. Обезумевшие от ужаса представители народа ринулись вон из зала, кто через дверь, а кто… через окна, благо оранжерея, где устроили зал заседаний, находилась на первом этаже…
Бескровный переворот, не стоивший жизни, ни даже малейшего ранения, ни единому человеку, завершился в несколько мгновений. Окончательно дискредитировавшее себя алчностью, продажностью и бессилием правительство более не существовало. Наполеон Бонапарт под именем 1-го Консула стал главой исполнительной власти во Франции и очень скоро практически единоличным хозяином страны. В мае 1802 г. его консулат стал пожизненным, а спустя два года политическая эволюция режима достигла своего логического завершения – 18 мая 1804 г. Наполеон был провозглашен «Императором Французов».
О последних события написано столько, что мы ограничились лишь конспективным перечислением. Нам хотелось бы заострить внимание читателей лишь на следующем: конечно, переворот 18 брюмера по своей сути не был чисто военным. Его организатором явился ряд видных гражданских государственных деятелей, а залогом конечного успеха стала полная самодискредитация режима Директории и в тоже время нежелание подавляющего большинства французов реставрации Старого Порядка. Тем не менее исполнительным механизмом и движущей силой переворота явилась армия. Без поддержки штыков бескровная «революция 18 брюмера», как окрестили это событие современники, была бы просто немыслима. Важно также, что поддержка войск была добыта не денежным подкупом, не бесплатной раздачей водки и не дешевыми обещаниями, а родилась фактически спонтанно.
Униженная, оплеванная, презираемая армия, сражавшаяся за независимость своего отечества, взбунтовалась против шайки коррумпированных политиканов, разорявших страну. Армия возненавидела их «рай» – рай для «жирных». Она мечтала о справедливости и видела ее в том, чтобы воздано было хотя бы элементарное уважение к тем, кто проливает свою кровь за родину, и потому с удовольствием пошла за молодым победоносным полководцем. Более того, его действия во многом были инициированы настроениями в самой армейской среде.
Нечего и говорить, что в своих последующих политических мероприятиях Наполеон не консультировался с солдатами и очень редко с офицерами и генералами, однако для нас, несомненно, также, что его режим, установленный, в частности, благодаря движению, спонтанно родившемуся в недрах войск, стал сознательно или бессознательно выразителем этих чаяний воинов, мечтавших о «справедливой республике».
