Пролог
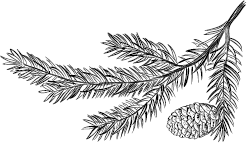
– Прости, серденько мое! И жена-то из меня вышла никудышная, и мать не лучше…
Дочка глядела на нее внимательными желтыми глазами, будто все понимала. А куда ей понять, младенцу невинному? Мать и сама-то не ведала, что творит. Она брела по лесу, качаясь. Сколько уже времени кусок в горло не лезет, сколько во рту ни капли не было? Уже и молоко давно пропало – нечем дочь кормить. А дочь и не жаловалась. Не плакала. Молчала и смотрела. И так смотрела этими своими колдовскими глазищами, что лучше бы вовсе сгинула! Она, а не любимый…
Желана родила поздно, ни отец, ни мать, рано ушедшие в Тень, внуков не дождались. Да и, сказать по правде, не сильно-то кляла за это судьбу. К чему ей, красавице, дитя? Рядом ведь милый был! Души в ней не чаял, на руках носил, белые ручки работой мозолить не дозволял! Но все же не хватало ему чего-то. Нет-нет, а спрашивал, заведут ли ребеночка. Желана и сдалась, да боги посмеялись: столько она молилась, чтобы чрево ненароком не отяжелело, что теперь одаривать ее чадом не собирались.
Где-то совсем рядом завыл волк, и Желана вздрогнула. В ночной тишине далеко разносился скрип деревьев, шептались о чем-то, ей неведомом, листья. Далеко будет слышен и крик несчастной женщины, выскочившей в лес в одной рубахе с младенцем в объятиях.
– Прости меня, кровиночка…
Дочь глядела неотрывно, точно и не живая вовсе. Оттого становилось страшнее, чем когда волк скулил. От этого взгляда Желана ночей не спала, от него кошмарами мучалась, от него же, видно, и умом повредилась. Да и кто бы осудил вдову? Она прикрыла личико младенца краем одеяла.
Пуще Желаны о ребенке молился муженек. Тризны приносил, к бабкам ходил, спать ложился ногами к печи – все, как деды учили, чтобы жена понесла. Никак. Совсем милый ополоумел. Пошел в чащу, упал на колени перед вековым дубом, коснулся теменем бурого, выступающего над землею корня.
– Все возьми, хозяин тонколистный! Все возьми! Ты кормишь зверей и птиц, ты силу родишь невиданную, ты тайны хранишь неслыханные. Все возьми, но одари меня наследником!
И лес взял. Взял все, что предлагал ему проситель, а после взял и еще больше. Не стало хозяйства, сгорел овин, полегли коровы. Не стало и самого Огонька. Сгорел, как лучина. А на другой день после того, как заколотили смертный короб, Желана ощутила под сердцем ношу.
Она брела, не разбирая дороги. Не шарахалась от ночных хищников, притаившихся в зарослях. Не чуяла холода и голода. Да и ничего уже не чувствовала, с самого рождения дочери. С того страшного дня, как увидела лес в ее глазах вместо бесконечной синевы мужниных очей. Дуб стоял на прежнем месте. Что ему, дубу? Он стоял здесь раньше, чем родился прадед Желаны, останется стоять и когда она сама по земле ходить перестанет. Быть может, случится то совсем уже скоро.
Она развернула одеяльце. Дочь не поежилась – ей ночная прохлада была что платок шерстяной. Коснулась губами лба младенчика и опустила в густую траву. Припала на колени, прильнула теменем к выступающему над землей дубовому корню.
– Забери! Забери свой дар! – Казалось, все слезы Желана выплакала, ан нет – покатились по щекам, горючие. – Забери, что дал, и верни мне милого! Не жить мне без него, не радоваться солнышку!
Но дуб ничего не ответил. Молчал и лес, только, кажется, темнота, обступившая женщину, стала гуще. Она до боли закусила себе руку, чтобы не закричать. Потянулась к дочери… отдернула пальцы. Повернулась и пошла, не оглядываясь. Оттого не увидала, как мягкая чернота укутала сверток, как зашевелились, выпутываясь из корней, лохматые нечистики, как устроилась на груди у девочки и завела песнь старая жаба.
Желана брела по лесу, шатаясь, и не чаяла выбраться.