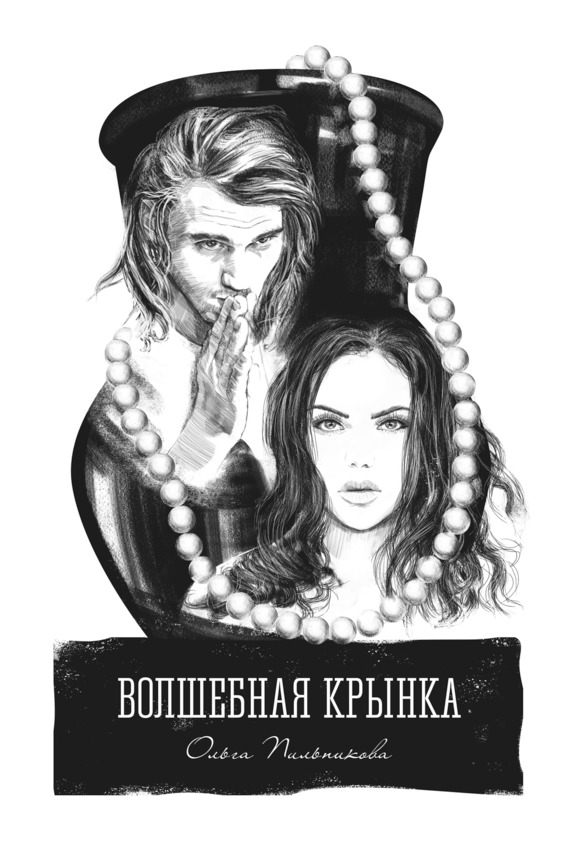Реставратор. Татьяна Архипова
[1]
Как всегда, работала «Культура»: «…На территории Владимиро-Суздальского заповедника реставрируют усадьбу Храповицкого… объектом культурного наследия… утрата живописи… руками Суздальских реставраторов… реставраторы… реставраторы… станковой и темперной живописи… икон…».
В своей динамичной вечерней рутине я остановилась и села на край дивана. С мокрыми руками и чашкой.
«…Реставрация икон и произведений темперной живописи…» Звук понемногу стихал, на экране мелькали иконы: до (в своём плачевном состоянии) и после восстановления. Женщина со светлым лицом что-то рассказывала корреспонденту. Я смотрела сюжет уже без звука, кто-то выключил его внутри меня. Что-то кольнуло, а потом медленно начало ныть, какое-то глубинное чувство чего-то неприятного, недоделанного, смешанного то ли с долгом, то ли со стыдом.
Поставив недомытую чашку на пол, я вытерла руки и обречённо пошла к шкафу. Открыла створку, потянула нижний ящик на себя. Под старым бабушкиным альбомом в коленкоровом красном переплете с золотой окантовкой лежал свёрток такого же размера в мягком выцветшем ситце. Я подержала его пару минут в руках, как будто готовясь, а может, скрывая внутреннюю неловкость, а потом начала медленно разворачивать ситцевое полотно. К горлу подступил комок. На моих руках лежала она – икона.
Деревянная доска выгнулась и совсем рассохлась. Всё больше и больше была видна граница между двумя досками, части иконы еле держались вместе. Лик сильно потемнел. Мелкие трещины паутиной затянули края иконы. Кое-где краска потрескалась и обнажила марлевую основу. Несколько слоёв краски неумолимо осыпались по краям. Я задержала свой взгляд на торце иконы. Торец – точно из тёмного янтаря, только древние крохотные лазы жучков говорят о том, что когда-то это было дерево.
Я её не любила. Да. У нас с ней были сложные отношения. Она досталась мне от бабушки, а ей – то ли от свекрови, то ли ещё от какой-то муромской родни. Историю иконы я особо не знала, да и бабушка вряд ли знала, а то рассказала бы мне.
Икона никогда не стояла у бабушки в красном углу, а тоже лежала в шкафу, с одной только разницей, что шкаф был другой, а ситец, по-моему, тот же. Помню, в детстве я вглядывалась в её потемневший от времени лик и долго, часами рассматривала его. Во взгляде я различала суровость и сдержанность. Бабушка сказала, что это Богородица. Лик был сильно повреждён. Буквы надписей стёрлись. Я видела женщину с ребёнком на руках, склонившую голову. У ребёнка было взрослое лицо.
Я часами рассматривала остатки очертаний глаз, бровей, носа, мягкий овал лица Богородицы. Сильно потемневшая от времени, она смотрела на меня строго и отрешённо. Ещё в юности, когда бабушка была жива, я так же подолгу заглядывала Богородице в лицо, пробуя найти то сочувствие, то одобрение, то поддержку, то помощь. Пробовала с ней говорить тогда ещё, в юности, но она молчала. Наверняка я просила её о чем-то, уже и не помню, а она молчала в ответ.
Открыв икону несколько лет спустя, я заметила во взгляде Богородицы осуждение: мол, ходишь, небо коптишь, ни семьи, ни детей. Показалось. Точно, показалось. Но всякий раз, когда я видела это, мне становилось страшно. Я быстро накрывала её ситцем и убирала обратно в шкаф.
Шли годы. Воздух, сильно пересушенный отоплением, конечно же, не шёл иконе на пользу, она разрушалась. Я время от времени всматривалась в лицо Богородицы, иногда понимающее, иногда сочувствующее, но наши с ней отношения явно были далеки от душевных.
Кто-то сказал мне, или я сама это почувствовала, что надо отнести икону в храм, только вначале хорошо бы позаботиться о ней и отдать реставратору. Но руки так и не доходили, реставратора я не нашла, а каждый раз подойти к ящику, открыть икону и всмотреться в неё было делом нелёгким.
Сон! Точно, сон! Пару дней назад я видела очень странный сон. Будто стою на остановке, на «Чистых прудах» со стороны «Современника», на улице тепло, приходит трамвай, я захожу, смотрю, а внутри никого нет, ни одного человека. И водителя нет. Оборачиваюсь и вижу: на задней площадке во всю высоту трамвайного вагона стоит огромная икона. Богородица с поднятыми к небу руками. Я на неё смотрю, а она – на меня. Так и едем, уже Чистые пруды обогнули, и трамвай идёт вниз, по бульварам, а я все смотрю на неё и не могу оторвать глаз. Так и проснулась. Как же я могла забыть этот сон… Пора. Видимо, пора привести и мою в порядок, раз так. Раз вот так случайно попался сюжет с именами-фамилиями, да и хорошо, что Суздаль, а не Москва. Я ещё со времен 90-х и шумихи всей этой вокруг икон и утвари церковной всегда обходила столичные салоны стороной. На Пречистенке, на Гоголевском в антикварные лавки даже просто зайти не хотелось – уж слишком явный там был фейс-контроль и слишком красивые, лубочные какие-то, одинаковые иконы висели под светом ярких ламп, отливая ну слишком золотыми окладами. Слишком.
[2]
– Грачи прилетели… Не уверена, что грачи, но вороны точно прилетели, – бормотала я про себя, разглядывая суздальский полдень.
Как будто и вправду с этой точки в такой вот день Саврасов писал «Грачей»: март плакал капелью, развесистая голая береза приютила с пяток чёрных гнёзд, на заднем плане виднелась долговязая церковь.
Я стояла во дворе реставрационных мастерских и не представляла, ни что это за место, ни как меня там встретят. Домофон, открытая дверь, второй этаж.
– Сюжет о вас видела по «Культуре». Про Храповицких, про плафон и иконы.
– Проходите, раз приехали. Я Светлана.
Сначала я увидела только глаза. Живые, серо-голубые глаза, в них не мелькнуло ни тени вопроса или оценки.
– Проходите, раздевайтесь, чаем вас напою с дороги.
Большое светлое помещение состояло из двух комнат. Я зашла в первую, побольше, с огромным окном и двумя столами: на одном большой светло-серый микроскоп, на втором – холст и утюг. Я порядком устала с дороги, хотелось согреться, посидеть. Я почувствовала, что попала в другой мир, в другое время. Кто эта женщина? Почему она выглядит счастливой, почему мне не хочется отсюда уйти?
– Вы давно здесь работаете? – начала я разговор.
– Да всю жизнь. Как училище суздальское закончила, так и позвали в бригаду. В первую бригаду художников-реставраторов, тогда ещё, в 90-е. Руководитель у нас был прекрасный, Некрасов Александр Петрович, знаете такого? – начала как будто подготовленный текст Светлана.
– Нет.
– Ну как же, фрески Андрея Рублева в Успенском соборе восстанавливал, Спасо-Преображенский, Рождественский в Суздале. Я девчонкой была, сразу после училища и попала сюда. А у Некрасова учителем Сычёв был, Николай Петрович, директор Русского Музея, умница. Храм Василия Блаженного, Сретенский собор, у вас, в Москве, – как будто подбирая знакомые мне московские образы, продолжала Светлана:
– Вы в Успенском-то были? Сходите обязательно, хоть ненадолго зайдите.
– Хорошо.
– Много у нас народу побывало, всё про историю усадьбы Храповицких расспрашивали. Вы журналист?
– Нет.
– Нет? А зачем приехали?
Я наклонилась с своему бумажному пакету, доставая из него обувную коробку. Пакет хрустел, коробка была неуклюжей, с яркой надписью. Я перенесла коробку на пустой стол, открыла крышку, вынула покрытую ситцем икону. Развернула. При ярком дневном свете икона выглядела совсем разрушенной. За время нашего недолгого пути до Суздаля два деревянных полотна иконы (одно побольше, с ликом Богородицы, второе поменьше) рассохлись ещё сильнее. Я не осмелилась посмотреть на неё.
– Вот, – протянула я икону, поддерживая снизу деревянные полотна.
– Мдааа… – на лице Светланы не появилось ни удивления, ни явного интереса. – Что вы хотите? Мы ведь здесь музейной реставрацией в основном занимаемся.
– А что это?
– Ну, в двух словах, это консервация иконы. Освободим первоначальное изображение от более поздних записей, наслоений, копоти или олифы, а дописывать не будем. Тут у вас правда доска рушится, дайте я посмотрю.
Светлана взяла на руки икону и поднесла её ближе к свету.
– А какая ещё реставрация бывает?
– Антикварная, чтобы образ восстановить, дописать, где надо, да продать побыстрее. Вы подумайте, а мне кое-что доделать надо, хотите, оставляйте свою икону, взгляну на неё часика через два.
Я вышла на улицу. Плана на судьбу иконы у меня не было. На улице похолодало. Я почему-то вспомнила про Успенский собор. До Владимира рукой подать – всего каких-то полчаса.
[3]
В храме было достаточно темно, на входе церковная лавка. Всё как обычно. Чей-то голос монотонно бубнил:
– Билетики, билетики предъявляем.
Я подняла голову – яркая синяя роспись, золото, массивная люстра.
– Простите, а где у вас Рублев? – поинтересовалась я.
– Вот прямо проходите, увидите своды.
Я прошла вперёд и подняла глаза: два свода храма, южный и северный, были пронизаны пастельными ликами. Лики, кажется, десятки, сотни ликов святых. Лики, лишь обозначенные нимбами, уходящие в горизонт, но присутствующие здесь, со мной, в этом пространстве. Пастельная, охровая, неброская, удивительно чистая красота. Эфирная красота.
– Понимаешь, доводишь до совершенства не мастерством, а состоянием, – громко шептал кто-то рядом со мной. Его собеседник только кивал, не отрывая глаз от космоса в отдельно взятом Успенском храме.
[4]
– Светлана, музейную, – с порога выпалила я, открыв дверь в мастерскую.
Светлана сидела спиной ко входу и рассматривала икону под микроскопом. Я подошла, встала рядом.
– Ну что вам сказать, икона интересная. Возможно, XVIII век. Дерево – скорее кипарис, это привозные доски. У нас-то липа, сосна, в Сибири лиственница. Раньше ведь как: и когда дерево рубить знали, и как потом ощелачивать его на дне реки, и как сушить на русской печи.
Светлана бережно перевернула икону.
– Видите, вот здесь доски скреплены врезными шпонками, их надо заменить, рассыпались совсем, смотрите, вот-вот выпадут, оттого и трещины здесь. Вы вовремя успели.
– Да уж…
– Где же она у вас так высохла?
– В квартире, где. Топят у нас хорошо.
– Связь паволоки1 с левкасом2 и основы нарушена. Посмотрите, этого никак не видно, – Светлана начала осторожно поглаживать ладонью поверхность иконы:
– Слышите, на здоровых участках звук глухой, а там, где пустоты – звонкий. Это паволока вздулась вместе с левкасом и красочным слоем. Видите, тут было сначала закрытое вздутие, затем левкас растрескался, фрагменты оторвались и осыпались. И кракелюр3, видите?
Светлана показала на сетки трещинок по краям.
– Я посмотрела на утраты. Паволока, похоже, наклеена на всю поверхность иконы, она сплошная. Левкас сильно пострадал, смотрите, вот здесь и здесь, зато видны слои краски. Смотрите сюда, – Светлана показала осыпавшийся край, – раскрывать её надо… – А это как?
– Слой за слоем будем убирать запись, лак, загрязнения.
– То есть? Вы уберёте этот образ?
– Есть более старые, первоначальные. Знаете, в старину образ обновляли, «поновляли», часто на одной доске поверх старого писали новый, а иногда и не разглядеть было старый под почерневшей олифой, так поверх него сразу и писали. Хоть ту же Богородицу, а хоть и другого святого. Иконы ведь до XVII века писались по канону, без малейшего отступления. И храниться они могут долго, если условия соблюдать. Одно дерево-то как заготавливали, поэтому оно ценнее иконописи и было, вот и записывали его по несколько раз.
– Дааа… меняются ценности.
– Лучше так, чем как после революции, когда баржи, гружёные иконами, по Волге шли. Позолоту с них счищали, а деревом печки топили…
– Смотрите, смотрите сюда, видите слой – олифа, а дальше слой лазурь. Видите? Раскрывать её надо. Бывает как: открываются слои XIX, XVIII век, пять-шесть-семь слоёв, а там родная авторская живопись… – Хорошо.
Я не ожидала такого поворота. Смотрела и запоминала Богородицу в малейших деталях.
– Только я у вас её не возьму, у меня проект большой музейный, заказы из частных коллекций. Да вы не расстраивайтесь, есть у меня выпускница Суздальского училища, тоже станковой живописи, правда она во Владимире, я дам её контакт, может она возьмётся, поговорите.
[5]
Дверь открыла невысокая хрупкая женщина.
– Проходите, мне Светлана звонила.
Самая обычная трёшка, только вместо гостиной в большой комнате оборудована мастерская. Я прошла туда. Картины, храмовые иконы стояли вдоль стен на полу. На чистом столе всего несколько инструментов.
– Много вы икон сделали?
– Да уж больше тысячи, я и не помню.
– Интересная у вас работа. С иконами находитесь в одном пространстве. Чудеса какие-нибудь случаются? – почему-то вдруг мне пришла в голову именно эта мысль.
– Чудеса? Да… Не знаю. Вроде как. Да вот они, мои чудеса, – в комнату со звонким криком вбежали две маленькие девчушки и повисли на своей маме, не замечая меня.
– Ну, я поеду, Галина, звоните, – я записала телефон и оставила свою ситцевую тайну.
[6]
Ежедневная московская суета через пару дней смыла магию моей Суздальской поездки. Прошёл месяц, возможно даже немножко больше, всё закрутилось, поменялось, срослось. Я почти забыла о том дне, о тех удивительных людях, их глазах, трепете, преданности прекрасному и подвижническому делу. Где-то в глубине сумки вибрировал телефон, я одной рукой не без труда выудила его с самого дна, второй рукой балансируя руль:
– Да, я, здравствуйте, Галина… а… да, помню.
– Да, хорошо, приеду в субботу.
– С ней все нормально?
– Да, обязательно.
Лифт был слишком хорош для обычного блочного дома. Он шёл медленно, как в больнице, казалось, вечность поднимаясь на седьмой этаж. Остановился на третьем.
– Вы вниз? – спросил крупный суровый мужчина с собакой.
Я не смогла ничего ответить и только через длинную, как мне показалось, паузу замотала головой. Мужчина уже вошёл и встал спиной. Маленький щенок – не взрослая собака, теперь я его разглядела – улёгся рядом и вытянул лапы.
Дверь открыла Галина. Девчушки носились по коридору. Я прошла в комнату и… выронила телефон из рук. Со стола на меня смотрела икона из того самого трамвая на Чистых Прудах. Это была она! У меня перехватило дыхание, я не могла издать ни звука, только долго смотрела на чистый манящий лик, утопающий в лазурном фоне.
– Это «Знамение», список с Новгородской иконы. Он в храме Успения в Суздале. Видели, наверное?
– Дааа… Я её в другом месте видела.
«…в момент созерцания иконы молящемуся как бы открывается святая святых, внутренняя Марии, в недрах Которой Духом Святым зачинается Богочеловек…»4 Руки Богородицы воздеты к небу, они распахнуты навстречу Тому, кто выше всей вселенной, и в тоже время благословляют каждого из нас.