III
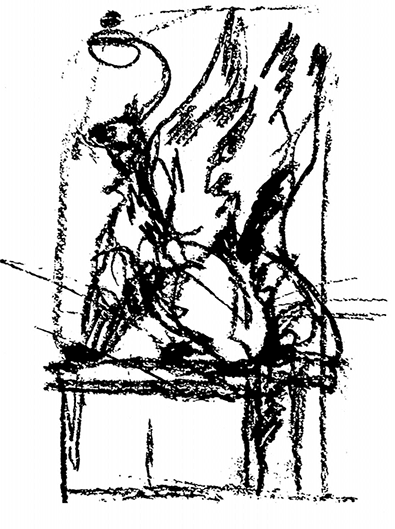
Насквозь
«Лучший выход всегда насквозь»! —
он вскочил, процитировал Фроста
и решительно выпал в окно.
«Да… – подумал, кровавя сугроб, – это правда —
надежно и просто,
но мучительно больно, и стыдно, и в целом смешно».
Встал, шатаясь, куда-то побрел, на ходу выбирая осколки…
А она, помаячив красиво в разбитом окне,
полетела, нелепо взмахнув рукавами из алого шелка,
и, рыдая, упала, как роза, на утренний снег.
Возвращались в обнимку продрогшие, мир и любовь источая.
Дверь открыла старуха-соседка и, тихо шипя, уползла.
Наложили друг другу повязки, попили горячего чая,
и мужчина пошел на работу. А женщина снова легла.
Леда и лебедь
Леда-спартанка, супруга царя Тиндарея,
томно разделась у речки, сомлев на жаре и,
нежно алея сосками,
бедрами влажно сверкая,
в быструю воду вошла, вся медленная такая.
Что это там, в камышах, так тревожно белеет?
Лебедь плывет! Ослепительный царственный лебедь!
С каждым мгновением ближе,
с каждой секундой смелее:
щиплет, как девку, жемчужных грудей не жалея,
властным толчком раздвигает тугие колени!
Вот олимпийский напор! Налетает, как кочет,
пыжится, топчет – никак, познакомится хочет…
Это тебе не чахоточный номер балетный!
Бог снизошел —
поняла изумленная Леда.
Нет бы шепнуть горячо:
– Ты робеешь, я знаю!
Леда, отдайся! Озолочу, как Данаю…
Сахарно-белым бычком подманил он Европу…
Да хоть вонючим хорьком – откажись-ка попробуй!
Нет бы лелеять-ласкать-колыхать-колыбелить,
нежить. как в люльке, меж крыл,
чтоб от ласки слабея,
Леда раскрылась, как белая лилия в полдень,
свой исторический долг не стесняясь исполнить.
«Здесь нет зеркал, в их пустоте, проплыв, не отразится время…»
…Здесь нет зеркал, в их пустоте, проплыв, не отразится время,
часов необратимый ход не потревожит тишину,
и каждый вновь рожденный вздох втройне утяжеляет бремя
безмерной нежности, влекущей нас ко дну.
Пока мы дышим, мы плывем в сверкающих волнах потока,
без памяти о зеркалах, весах, секундах, потому
что жизнь мучительно нежна и ослепительно жестока
до сокровенной глубины, где ждет Герасима Муму.
ИВА
Печальная классическая ива!
На берегу ночной реки,
с фонариком в руке,
плакучая клонилась терпеливо
к той ветреной, что пряталась в реке.
Уже почти целуя отраженье,
сама себе она была
Изольда и Тристан…
Увы! Чрезмерным было напряженье,
и подломился наклоненный стан.
Взглянула поутру, и сердце сжалось:
лежит она лицом в воде,
касаясь пальчиками дна…
я к павшим деревам питаю жалость.
Но равнодушна к участи бревна.
«Все хороши – и овны, и козлища…»
Все хороши – и овны, и козлища…
С отечеством мучителен роман.
Люблю ли я гробы и пепелища