Bonkaposition
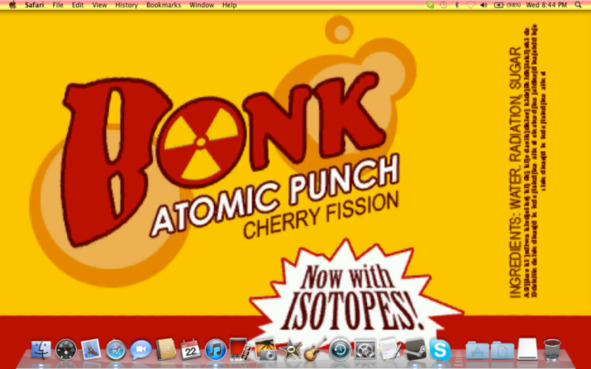
В завершение очередных вечерних покатушек по острову Артур привез Олесю на пляж Hin Kong, знаменитый в первую очередь своими шикарными закатами. И действительно, стоило запарковать байк, как небо над морем начало окрашиваться в оранжевые тона, хотя отдыхающих на пляже все еще было достаточно, и, несмотря на официальный запрет, вдоль полосы прибоя сновали туда-сюда вездесущие торговцы.
– Do you have a coconut ice cream? – спросила Олеся у проходящей мимо тайки с характерной переносной сумкой-холодильником, испещренной цветастыми ценниками.
– Solly. No have, no have… – покачивая головой из стороны в сторону, с традиционной улыбкой отвечала та.
– Что же они «no have» -то везде вставляют? – шутливо возмутилась Олеся, развернувшись к Артуру. – Ладно бы «don’t have» или хотя бы просто «no». Я не первый раз этот пресловутый «ноухэв» от тайцев слышу. Такое впечатление, что их здесь в школах так учат английскому.
– Да это же просто тайский «бонкапозишн»! У них в языке есть форма «май ми», которая точно этому «ноухэву» соответствует, – улыбнулся Артур. – Давай сядем здесь на это живописное бревно у берега. Намечается красивый закат.
– Что-позишн? – несколько обескураженно переспросила Олеся, присаживаясь рядом.
– «Bonkaposition»! – еще раз, уже с отчетливой карикатурно-пародийной псевдо-английской артикуляцией произнес Артур. Затем, глядя на недоумение, проступающее на лице собеседницы, пояснил:
– В русском предисловии Мишеля Фуко к тексту Делеза и Гваттари «Антиэдип» переводчицы ввели такое интересное словосочетание, как «позиция Юкста». Затем оно стало мемом и быстро расползлось по всему русскоязычному гуманитарному сообществу. Вообще-то в оригинале у Фуко фигурировало обычное французское слово «juxtaposition», т.е. «суперпозиция», «взаимоналожение». Но литературные боги распорядились судьбой этого концепта иначе – и он стал метафорой порожденного непониманием иной ментальности симулякра, кросс-культурного «сферического коня в вакууме». Ведь «позиция Юкста» это далеко не просто глупость. Прямо-таки ощущается, как работала переводческая смекалка, когда, не зная значения «juxtaposition», навевала мысль, что «juxta» это, должно быть, фамилия. Скорее всего, очередной теоретик структурной лингвистики. С такой вот простой и незамысловатой фамилией – Юкст.
– А почему тогда с маленькой буквы? – улыбнувшись, поинтересовалась Олеся.
– Кто поймет этих французов? Может быть, из-за отсутствия уважения к этому автору со стороны Фуко… – иронично прищурившись, поддержал её настрой Артур. – Вот эта «позиция Юкста» идеально подходит для описания того, как в наших школах учат иностранному языку. Наверняка ты знакома с базовым советским учебником по английскому «Бонк, Котий, Лукьянова». Если только ты не учила немецкий, у тебя в общем-то не было шансов с ним не познакомиться. По «Бонку» училась вся страна. «Бонк» стал именем нарицательным, используясь в оборотах наподобие: «выдай им бонка» или «в бонке посмотри».
– Ты удивишься, но одно время меня даже заставляли учить по нему других, – вставила свой комментарий Олеся. – Да уж, «Бонк» – это почти что русский Юкст.
– Ага. При этом многие удивлялись, узнав, что все авторы данного методического пособия – женщины! Т.е. не только пресловутый «Бонк», но даже Котий!
– Не говоря уже о Лукьяновой, – добавила Олеся.
– Так вот, – продолжал Артур. – Учебник этот, как и положено, изобиловал натужно-социалистическими диалогами комрада Петрова с комрадом Ивановым в стилистике «I live in London», «My name is Boris», «I am a communist» и текстами со звучными названиями типа «From Verkhoyansk to Sukhumi». Но не это главное. Основное достоинство этого учебника для всей советской образовательной машины заключалось в том, что реальный английский язык по нему выучить было невозможно! Доказательством чему являлись поколения русских людей, проучивших «бонк-инглиш» 10 или 11 классов – и так и не умеющих связно говорить. Соответственно, тем самым резко снижался риск «поймать не те волны из-за рубежа» или почерпнуть что-нибудь из «неблагонадежных заграничных источников». Но реальный эффект оказался значительно более глубоким и неоднозначным…
Английский язык, исходя из «позиции Бонка», для русского человека, изучавшего его в школе, – это гораздо больше, чем просто английский язык. «Bonkaposition» дает такое фантасмагорическое наслоение смыслов, при котором в результате одиннадцатилетних мытарств в сознании несчастного «пьюпила» образуется симулякр «эльфийского английского в вакууме» – языка инопланетян или небожителей из другого мира. Разумеется, простым смертным даже не приходилось рассчитывать на то, чтобы овладеть таким невообразимым по своей сложности «лингвистическим кентавром». И вся образовательная система была рассчитана на то, чтобы только укреплять граждан в этом убеждении. В начале 90-х это сильно способствовало быстрейшему проникновению «карго-культа» в сознание советских людей и преклонению перед недосягаемым в интеллектуальном отношении Западом.
– Это похоже на историю внедрения «Qwerty-клавиатуры», которая изначально задумывалась как способ снижения, а не увеличения, скорости печати, – откликнулась Олеся. – «Бонк» меня этим всегда вымораживал. К счастью, я достаточно быстро уехала за границу, и язык выучила уже там. Но как же на практике учителя в советских школах рассчитывали передать какие-то знания ученикам? Ведь у кого-то получалось – были же частные репетиторы. Синхронисты. Переводчики МИДа, в конце концов.
– А вот здесь принципиально важный момент. Синхронисты, реально работавшие на международном уровне, и МИДовцы, разумеется, учили язык совершенно по-другому. Они с веселым недоумением читали «Бонка», потешаясь над тем, какое понимание языка должно было возникать в головах у «обычных смертных» в результате этого чудовищного «juxtaposition».
Репетиторы же бывали разные. Большая часть даже и не пыталась обучать детей реальному английскому, поскольку сама им по-честному не владела. Они просто зарабатывали деньги репетиторством на основе классического бонк-симулякра, культивируемого в этой среде. Что же касается тех редких ситуаций, в которых ученики могли столкнуться с реальностью и проверить полученные знания на практике – например, таких, как выезд за рубеж и общение непосредственно с носителями, – то здесь сознание «педагога» раздваивалось в соответствии с классическими канонами «двоемыслия», и он начинал бессознательно веровать в удивительную установку, которую можно назвать «надеждой на снисхождение харизмы». Как известно, харизмой назывался в Евангелии дар языков, снизошедший на апостолов. Не давая учащемуся адекватных критериев подбора того или иного способа выражения мысли по-английски, преподаватели, вместе с тем, бессознательно рассчитывали на то, что образовавшуюся смысловую лакуну при попадании в иноязычную среду заполнит «дух святой». Или просто ученик, прилетев в Нью-Йорк или Бостон, от неожиданно нахлынувшей радости ощутит в своем сердце «харизму», которая и прорастет в его сознании всеми необходимыми лингвистическими дистинкциями.
– Да, я еще слышала об альтернативном варианте обучения: обретение языка посредством руконаложения, – хохотнула Олеся.
– К сожалению, на практике чудо при таком подходе случалось крайне редко. В результате иногда целые районы за рубежом, в которых компактно проживает русская диаспора, вроде Брайтон-бич, как не говорили по-английски, так и не говорят. Годами и десятилетиями.
Но самое удивительное заключается в том, что bonkaposition продолжает прекрасно здравствовать и сегодня – после снятия «железного занавеса». Подобно философии марксизма-ленинизма, успешно пережившей девяностые и оставшейся в качестве имплицитной базовой установки философских факультетов страны, «позиция Бонка» преспокойно применяется и поныне для адаптации учебников Мёрфи и перевода других иностранных классиков на «русскоязычные рельсы». В результате, как русские школьники не знали английского языка, так и продолжают его не знать – до тех пор, пока не причастятся святых таинств овладения языком посредством руконаложения в каком-нибудь лингвистическом лагере Канады или Австралии.
– Прямо-таки как история с Драйзером, – неожиданно заметила Олеся.
– А что с ним? – принимая более удобное положение на своем бревне для созерцания разгорающегося заката, поинтересовался Артур.
– После ухода советской власти с авансцены истории литературная пропаганда наподобие книг Чернышевского или критики Белинского и Тынянова стала совсем неактуальной, и народ перестал все это читать, но Драйзер, Диккенс и прочие пролетарские англо-саксы, преспокойно удержали позиции на домашних книжных полках. При том, что в СССР они были изданы только потому, что заранее отбирались нашей партийной пропагандой как образцы социально-правоверной критики капиталистической Англии. То есть симулякр «свободной литературы Запада», будучи однажды искусно введенным в русское коллективное бессознательное через «тягу к иному и полузапретному», остался стоять в народном сознании неколебимой скалой в бушующем литературном море. Несмотря на то, что и породившие его запреты, и сама идеология, способная проделывать такие изощренные манипуляции с психикой граждан, бесследно растворились в штормовых волнах времени.
– История с Драйзером даже лучше, – с восхищением в голосе поддержал ее Артур. – Помню, в детстве меня несколько озадачивало: кому нужны все эти скучнейшие тома «Стоиков» и «Оплотов», стабильно соседствующие на полках с Пушкиным, Лермонтовым и Толстым? Теперь всё проясняется.
Олеся благодарно улыбнулась:
– То есть «позиция Бонка» заключается в том, чтобы на самом деле всячески препятствовать реальному овладению навыком под предлогом глубокого его изучения?
– Ага, примерно так. В сознании ученика создается симулякр того предмета, который предполагается изучать. Затем следует долгое, нудное и монотонное изучение этого симулякра вместо самого предмета. При этом очень важно, что закономерно возникающие «проблемы в обучении» решаются посредством убеждения учащегося в том, что проблема именно в нем, а не в методике. Именно из-за своей тупости, за которую «и три-то поставить стыдно», он до сих пор не знает английского. А учительница в этой ситуации – просто светоч разума, летящий к мечте на крыльях прогресса.
– Любопытно то, что «Бонк» весьма близок по звучанию английскому «bonker», что в вольном переводе означает «идиот», «придурок», – неожиданно добавила Олеся.
– Не говоря уже о том, что даже в русском уже вполне официально существует «бонк для курения» травы и всякого рода смесей, – кивнул Артур. – Да и аглийский слэнговый глагол «to bonk» означает буквально старый-добрый «чпокинг». В этом даже проглядывает некая высшая провиденциальность. Ведь именно «чпокнутым придурком» себя обычно и ощущает человек, поставленный в «позицию Бонка».
– Так вот почему я все время обучения в школе ощущала себя полной дурой, неспособной разобраться в отличиях перфекта от прошедшего времени.
– Ага. В данном отношении ты не одна – все, кто не «родился билингво», это в той или иной степени на себе ощущали. Вообще, складывается ощущение, что «позиция Бонка» не какая-то забавная случайность, а часть общей, хорошо продуманной, стратегии обучения, при которой и на уроках обществознания, и на уроках истории, и даже на физкультуре человеку подсовывается симулякр вместо реальности. В стилистике: «стойте и машите руками возле бассейна – когда научитесь плавать, нальем вам воду».
– Наверное, так они берегут детей от столкновения с реальностью, – предположила Олеся. – Ведь взрослая жизнь – довольно жесткая штука.
– И лишают их тем самым шансов на реальное изменение чего-то в жизни. В первую очередь – в своей.
– В этом наверняка есть и какие-то положительные стороны… – без особой уверенности протянула Олеся.
– В том, что человека одиннадцать лет натаскивают жить в симулякре, а потом он сталкивается с чем-то совсем другим?
– Ну да. Например, у него растет творческий потенциал. Развивается фантазия… – голос Олеси становился все более и более неуверенным, пока не затих окончательно.
– Не ощущаешь ли ты сейчас, проговаривая эти слова, как сзади подкрадывается «бонкапозишн»? – улыбнувшись, перевел на нее взгляд Артур. – Не было ли тебе втиснуто это очевидно несовместимое с жизнью убеждение где-то между изучением причин первой мировой и сабдженктив мудс? Творчество и фантазия вряд ли проявятся от бесконечного повторения таблицы неправильных глаголов. Симулякры тут не помогут.
– Ну хорошо. А всем ли вообще надо заниматься творчеством? Разве за тысячелетия не было создано все, что только можно? Мне кажется, мир уже и без того настолько переполнен творчеством, что кажется – некуда деваться от его результатов, – развела руками Олеся.
– Вот! – протянул Артур, гротескно воздевая палец вверх. – Примерно этого убеждения, очевидно, система от тебя и добивалась. Дело не в артефактах, которые остаются после творческого акта. Их действительно вокруг много. Дело в самих этих актах. Именно творческие состояния являются самыми важными. Для тебя. Не для окружающих.
– Он настолько обязателен? Для всех? И нет других смыслов в жизни? Тебя послушать, так возникает ощущение, что творчество обязательно, оно для всех – и ему можно легко научить. Каждого, – нахмурилась Олеся.
– Конечно, нет. Но этого и не требуется. Как правило, большинству людей, у которых вообще рождается подобный запрос, нужно всего лишь дать платформу, плацдарм для реализации. А дальше человек все делает сам. Как только выходит из «позиции Бонка» и получает возможность для построения реального плана своей жизни…
Артур искоса, чуть прищурившись, посмотрел на Олесю, улыбнулся, будто приняв какое-то решение, и продолжил:
– Смотри. Творчество, как создание новых для тебя структур, предполагает две вещи: трансгрессивную свободу расширения собственных границ и синтаксическую направленность творческого акта. Крайности здесь, соответственно, тоже две. Если у тебя есть свобода, но нет направленности, ты будешь постоянно погрязать в трясине тысячи мелких дел и ощущать перманентную демотивацию создать что-то серьезное. Задаваясь при этом маловразумительными вопросами относительно необходимости всего, что ты делаешь. Помнишь ворону из мультика про Нафаню? «Куда хочу? Куда лечу?»
Если же есть направленность, но нет свободы, ты будешь ощущать систематическое принуждение. Внутреннее или внешнее. Тоже далеко от творчества.
– Да, я на эту тему другую фразу из мультика знаю: «нагибаюсь и уже чувствую, что работаю».
Артур с некоторым подозрением покосился на Олесю, но от вопросов и комментариев воздержался.
– И та, и другая крайность – проявления «бонкапозишн». Когда твой внутренний экзистенциальный навигатор сбит, и все действия утопают в сопротивлении реальности, потому что основаны на симулякре карты. Что бы ты ни хотела сделать «как лучше» в такой ситуации, получаться будет «как всегда». Творчество именно потому так трудно для большинства людей, что основано на умении держать баланс в самой непростой ситуации: подобно мотоциклисту, на полной скорости вписывающемуся в крутой поворот. Творчество – не широкая столбовая дорога, а узкий канат, натянутый между двумя небоскребами.
Олеся молчала, глядя на закат. Артур продолжал:
– Я вижу, ты хочешь спросить – почему это именно так? На чем основаны все эти метафоры? Что ж, если хочешь, я могу тебе серьезно ответить. Есть один важный аспект, который обычно не обсуждают: тонкость восприятия. Ты не замечала, что постепенно, день за днем, месяц за месяцем теряешь эту тонкость? Если в детстве каждый дом, каждое дерево и каждый вечер имели свое собственную окраску, свой неповторимый ореол, свой фантазматический флёр, который невозможно было спутать ни с чем, то с течением времени всё это стало сливаться в однотипную череду образов, отличимых только по формальным, закрепленным в языке, и, в конечном итоге, чисто внешним параметрам. Не в силах обрести возможность произвольного творческого самоизменения, сознание начинает становиться зависимым от грубых способов изменения своего состояния – например, таких, как алкоголь. И в дальнейшем уже не может обойтись без этих «ударов эмоциональной кувалдой» – потому что иначе не движется вообще никуда, пребывая в одной и той же заскорузло-апатичной позе прострации. Нуминозность и вообще достойную запоминания яркость в такой «позиции Бонка» обретают только пиковые состояния, вызванные совсем уж необычным, вопиюще-неестественным сочетанием социально значимых событий – например, такими, как смерть близкого родственника и получение квартиры – или, само собой, наркотиками. И с течением времени для достижения различимого эффекта изменения такому притупленному сознанию требуются все более мощные раздражители. Если бездумно продолжать скатываться по этому пути, то, очевидно, к старости человек становится бревном. Почти бесчувственным и мало на что способным, апатично стекая в затхлое болотце вялотекущей деменции и Альцгеймера.
– И что же можно противопоставить этому? – серьезно спросила Олеся.
– Например, медитацию. Однако и медитацию сейчас, в век поп-культуры нью-эйджа, часто понимают, исходя из той же «бонкапозишн». Как сферическую деятельность в ментальном вакууме, доступную только эльфийским монахам-небожителям. Поэтому ее требуется сначала «раскодировать», понять, перевести на свой внутренний язык.
Артур снова искоса посмотрел на Олесю и, очевидно, убедившись в чем-то, продолжил с изменившейся интонацией:
– Конечно, есть и другие способы. Уникальные, нуминуозные моменты истины. Например, такие, который был у нас с тобой. Но они всегда труднопредсказуемы, это большая удача. Медитация же – пожалуй, одна из немногих вещей, способных вернуть нативную тонкость постепенно и контролируемо, по шагам. Оживить свое восприятие свежими микроразличиями, неспособными быть выраженными в словах ранее. Грубых словах, обманчивых и всегда предающих союзниках, обитающих в казарменном общежитии языка, истоптанных вдоль и поперек шеренгами однотипных восприятий, истертых коммунально-хозяйственной неразличимостью смыслов… Словах, после медитации обретающих новое измерение нуминозности и глубины, способное сохранить что-то из обретенного опыта.
Что же необходимо для такой медитации? Находить в однородном поле восприятия повседневности едва вытарчивающие краешки новых экзистенциальных аспектов. Хвататься за них вниманием, вытягивать их, разворачивая до возможности полноценного сохранения в памяти. Творчество – это и есть процесс их разворачивания, становления понятиями, образами, звуками, красками и движениями. Теперь понятнее, как медитация помогает творчеству?
– Да… – медленно произнесла Олеся, пристально глядя на отблески заходящего солнца на постоянно меняющейся поверхности моря, – Ты знаешь, я сейчас вспоминаю, что действительно в детстве могла вот так, ни на чем особенном, входить в удивительные пластичные состояния. Восприятие и мысль в них текли как-то сами по себе. Из этого и рождалось что-то новое. Но это новое… оно… мммм… – Олеся замялась и перевела растерянный взгляд на Артура.
– Дай-ка я попробую помочь: Но это новое не было самым главным, являясь всего лишь артефактом, побочным эффектом – наподобие опилок. Главным было именно то бесконечно более глубокое и высокое, из которого это новое рождалось. Так?
– Так, – кивнула Олеся. – Именно в этом, в общем-то, и состояли пиковые моменты жизни. Да… Новое, живое и интересное. И… вот это большее постепенно истекло, выдохлось потому что, потому что…
– Потому что у тебя не было сердечного друга или подруги, способных разделить с тобой реальность этих более тонких различий, уходящих гораздо глубже поверхности слов. И, если даже словами это неописуемо, не было никакого другого способа запомнить их и удержаться на этом уровне самостоятельно, в одиночку. В результате они просто начали истираться, подвергаться эрозии – подобно тому, как постепенно смываются волнами моря изящные линии картины, нарисованной кем-то на прибрежном песке. Равнодушный мир кирзовыми сапогами необходимости втоптал их в столбовую дорогу жизни.
– С ума сойти, – перевела на Артура восхищенный взгляд Олеся. – Ты просто читаешь мои мысли. Удивительно точно.
– Спасибо. Из такого понимания творчества вытекает дальнейшее: если этой тонкости восприятия и пиковых моментов нет в твоей жизни, это обессмысливает саму жизнь, делая ее грубым, слабопереваренным месивом из сравнительно однородных впечатлений. Если в жизни нет свободы и направленности к цели; нет ничего, что было бы новым, нуминозным, не сводимым к усредненным траекториям судеб сотен и тысяч людей до и после тебя, какой в ней тогда смысл и удовольствие?
– И как же выбраться из всего этого?
– Примерно так, как мы это сейчас с тобой делаем, – перевел взгляд на горизонт Артур. – Пониманием. В первую очередь необходима осознанность. Именно осознанность позволяет ставить точку «Я+» с фиксированными координатами на твою внутреннюю карту. Сохранять ее и удерживать, не давая размыться в тумане забвения. Скажи, что отличает наше с тобой общение от обычного повседневного трепа, к которому ты привыкла за годы жизни?
– Даже не знаю, как выразить, – задумалась Олеся. – Наверное, странное сочетание научной твердости рассуждения и… какой-то… глубины, наверное. Похоже на искусство…
– Именно, – кивнул Артур. – Сочетание метафорической образности и структурно точных понятий. Это способ захватить внимание, перегрузить его сенсорным, эмоциональным и ментальным потоком. Для того чтобы возникло творческое движение, требуется своеобразная внутренняя лавина, сходящая с гор потоком наслаждения – лавина, которая могла бы захлестнуть тебя с головой. Причём, нюанс в том, что поток этот должен быть весьма избирательно выстроен: одновременно мощный и превышающий привычный тебе уровень детализации, эстетичный и приносящий наслаждение: сдвигающий экзистенциал в притягательную для тебя сторону. Прецизионное изменение состояния сознания, в результате которого ты обнаруживаешь себя «в другом, более глубоком, объемном и приятном мире», куда выносит «лавина наслаждения». Но это еще не всё. Дальше нужно обрести возможность самостоятельного перемещения в этом новом пространстве. Конечно, было бы здорово освоить всё это богатство творческого восприятия, лавируя на чистом экспромте, вообще без построения системы внутренней навигации – но, к сожалению, многие этот вариант уже пробовали, в детстве. Например, ты. Получилось?
– Не особенно – улыбнулась Олеся. – Похоже, лавина погребла с головой. А как обрести эту внутреннюю навигацию?
Артур как-то неуловимо внутренне подобрался на своем бревне, и его голос изменился еще раз, став более спокойным и плавным:
– Посмотри на пейзаж перед собой. На всю картину в целом, включая особый оттенок, придаваемый всему лучами заходящего солнца, частично пробивающимися сквозь облака, и особый характер волн, вызываемых именно таким ветром. Обрати внимание на глубину всего, что ты видишь. Корабль на заднем плане находится значительно дальше от тебя, чем камень, вытарчивающий из воды на переднем. А теперь осознай, что вся эта глубина создана твоим восприятием – и находится, условно говоря, внутри психики. Это ведь и правда так. Изображение, возникающее на сетчатках глаз, плоское. Именно психика создает ощущение глубины. А теперь постарайся выйти вниманием за пределы этого, известного и обжитого тобой, внутреннего пространства.
– Что? – переспросила Олеся.
– Представь себе, что внутри твоей психики существуют области, находящиеся за пределами этой постоянно меняющейся перед глазами картинки, за пределами визуального восприятия мира вообще. И аудиального с кинестетическим тоже. Как будто ты смотришь из своего убежища внутри головы на мир через монитор пяти органов чувств. А теперь попробуй обратить внимание на то, что находится за пределами этого монитора. Это ведь никак не противоречит твоей картине мира, правда? Просто органично ее дополняет, – Артур мягко и как бы приглашающе улыбнулся и продолжил.
– Поначалу, возможно, покажется, что это пространство вовне никак не размечено и не структурировано. Но затем внимание осваивается и начинает замечать структуры там, где до этого было только аморфное ничто.
Вот, например, песочного цвета собака, лежащая слева, кажется тебе более близкой и приятной, чем та, которая бежит сейчас справа. Причем, в этом ощущении приятия есть два пласта: первый связан с первоначальным восприятием, когда ты ее еще не знала, но она тебе уже понравилась, второй – с опытом ваших с ней дальнейших отношений, в результате которых она даже обрела кличку. Всё это не существует больше нигде – только в твоей психике. Но от этого не становится для тебя менее реальным. Интроцептивная тонкость начинается с признания реальности той феноменологии, которая невидима для окружающих, но налично дана в твоем текущем осознании. Реальность эмоций, привычных способов восприятия и реакций ничуть не уступает реальности этого пляжа и бегающих по нему собак. Прикасаясь к поверхности бревна, на котором сидишь, ты чувствуешь не дерево, а специфическую деформацию подушечек пальцев. Наблюдая этот фееричный закат, ты наслаждаешься цветами, возникающими у тебя в восприятии. Далеко не самим солнцем. Эти цвета и есть твоя реальность. Хорошие новости заключаются в том, что способ интерпретации этих импульсов, однажды закрепившийся в детстве, можно поменять. Причем, не только в визуальных или кинестетических, но и эмоциональных аспектах: того, с чем воспринимаемое у тебя ассоциируется, какое состояние вызывает. Именно это дает расширение пространства экзистенциалов. И как результат – творчества, возможности направить внимание в новую, еще никогда прежде не испытанную, сторону. Воспринять, оседлать, сделать своим целое новое эмоциональное измерение, которое всегда было доступным, просто ты не догадывалась двинуться в его сторону.
Олеся сидела на своем бревне с легкой улыбкой, наблюдая за тем, как постепенно сгущаются сумерки, и слушая шум волн, плавно накатывающих одна на другую.
– Знаешь, что сейчас было, – наконец сказала она. – Пока я смотрела на заходящее солнце, на какое-то время всё, что было в жизни, вдруг, в перспективе «bonkaposition», приняло отчетливо наказательный характер и выстроилось в череду ударов, которые обрушивались, один за другим, с детства – забивая, блокируя любые творческие проявления. А затем, что-то произошло, и, слушая твои слова, я неожиданно смогла ощутить это по-другому: так, как будто это были всего лишь не ведущие к цели развилки жизненного лабиринта, которые я лично проверила, ощупала тупики и убедилась, что там счастья нет. А значит, теперь легко смогу сориентироваться и выбрать правильный путь – ведь направлений осталось не так много.
– Вот и хорошо. И, похоже, одно из этих направлений определенно ведет нас в сторону дома, – улыбнулся, вставая, Артур.
Последние отголоски догорающего над морем заката еще цеплялись за нижние края облаков, а оранжевый байк уже разгонял фарами налетающие полчища сумеречной мошкары, унося парочку прочь от берега.