Часть первая
Глава I. Надя Таирова
Каждое воскресенье тетя Таша надевает свое серое «праздничное», очень ветхое и во многих местах подштопанное платье и отправляется на прием в институт. По дороге, прежде чем сесть в трамвай на Суворовском проспекте, она заходит в знакомую лавку. Фунт шоколада «лом», коробка карамели и пяток апельсинов-корольков (Наденькиных любимых) – вот обычный гостинец, который покупает тетя Таша для Наденьки.
Прием в N-ском институте начинается ровно в час дня, и, когда тетя Таша робко, бочком, входит в двухсветную институтскую залу, там уже стоит обычный воскресный гомон, в точности напоминающий пчелиное жужжание вокруг улья.
Все так же держась сторонки и невольно смущаясь за свой более чем скромный наряд, тетя Таша пробирается в «свой уголок», на скамью между роялем и печкой, и здесь терпеливо дожидается Надю.
Когда-то тетя Таша служила кастеляншей[1] в этом институте, и ее все здесь отлично знают. Знают ее серое старенькое платье, и давно потерявшую фасон бархатную шляпу, и всю ее застенчивую незначительную фигурку с седеющей головой и робкой, словно извиняющейся, улыбкой. Ее привыкли видеть на приеме через каждое воскресенье, поэтому дежурным воспитанницам-«шестушкам» (воспитанницам шестого класса) не приходится спрашивать у тети Таши, кого ей вызвать. Они знают, что маленькая женщина в заношенном сером платье приходит на прием к Наде Таировой, и, сделав наскоро традиционный реверанс перед новой посетительницей, дежурная мчится в пятый класс.
– Таирова, на прием! К вам пришли! – бросает она с порога классной комнаты.
С одной из задних скамеек поднимается высокая, тонкая, как жердочка, девочка лет четырнадцати. Резким движением бросив в ящик стола книгу, в чтение которой только что углублялась, забыв весь мир, она идет к кафедре.
У Нади Таировой миловидное, несколько бледное лицо, на котором застыло скучающее недовольное выражение, и большие, серые навыкат, рассеянные глаза. Если бы не это надутое выражение лица, Надя была бы прехорошенькой. Ни у кого из ее одноклассниц нет таких пышных белокурых волос, такого изящного тонкого носика, такой милой неожиданной улыбки, которая, впрочем, редко появляется на ее недовольном лице. Чаще его выражение не внушает симпатии. Сейчас же, когда девочка, остановившись перед кафедрой, отвешивает реверанс классной даме и тянет усталым голосом: «Разрешите мне, мадемуазель, идти в приемную», – это недовольное личико делается еще более надутым и скучающим.
Наставница, маленькая, замученная жизнью женщина, несколько минут укоризненно смотрит на Надю.
– А вы, Таирова, опять вчера получили единицу за невнимательность на уроке математики и два с минусом за немецкий? – спрашивает она по-французски.
Бледное лицо Нади густо краснеет.
– И в пятницу мне жаловался на вас учитель истории, что вы опять читали на его уроке, – продолжает классная наставница. – Я должна сегодня же переговорить обо всем этом с вашей теткой… На третий год в классе оставаться нельзя. Надо довести до ее сведения ваше нерадение. Ступайте. Я приду позднее, в конце приема, – и кивком головы Варвара Павловна Студенцова, классная дама пятого класса, отпускает девочку.
Красная, как пион, Надя машинально одергивает на себе пелеринку и отправляется в приемную залу, куда, в сущности, ее совсем не тянет.
Опять тетя Таша с ее укорами, нотациями и жалобами. Опять советы-наветы «Студня», опять неприятности… Терпеть не может Надя этих приемных дней. Хорошо еще, если отец не пришел, а то Бог весть чем бы все это кончилось. И зачем только эти приемные дни существуют! То ли бы дело сидеть над книгой, не отрываясь, целый день. О, что за прелесть дала ей вчера Нюта Беляева! Всю ночь в дортуаре[2] и целое утро читала Надя упоительно захватывающую книгу, захлебываясь от восторга и нетерпения узнать, что будет дальше. Что за очарование эта герцогиня Лила! А графиня Аделаида, такая героическая, такая необыкновенная девушка! А молодой герцог Рудольф, не побоявшийся драться на дуэли с тремя противниками сразу!.. Что за жизнь, что за волшебную, сказочную жизнь они ведут!
В воображении Нади мелькают картины прочитанного. Веселая охота… Звуки рога… лай собак… Нарядные полумужские костюмы у дам… Развевающиеся перья беретов… Изящное оружие… Изысканная речь… звонкий смех молодой красавицы герцогини… И вдруг волк, страшный, огромный волк бросается на отважную красавицу… Меткий выстрел, пуля попадает прямо в пасть чудовища, общие поздравления и заздравная чаша, поднятая в честь молодой охотницы. Потом вечер… Роскошно иллюминованный дворец герцога… Тихо плещущие среди таинственного сада фонтаны… Серебристое сияние месяца, заливающее грот и красавицу герцогиню, которая выслушивает признание графа… Какие изысканные слова, какие речи! Все это так ярко переживает Надя в своем воображении, заслонившись сказочными образами от действительной жизни, так живо и ярко! И словно падает с облаков на землю, очутившись перед тетей Ташей, поджидающей племянницу на своем обычном месте.
– Наденька!
Тетя Таша так трогательна сейчас с ее мгновенно просветлевшим лицом и радостной улыбкой, появившейся при виде Нади. Надя – ее любимица. Изо всех детей покойной сестры, которых теперь вот уже восемь лет воспитывает тетя Таша, Надя ей всех дороже и милей. По ее же, теткиному, настоянию Надю отдали в институт на казенный счет. Отдали вопреки желанию отца. Маленький банковский чиновник, обреченный получать всю жизнь пятьдесят рублей жалованья, сын слесаря, с трудом убедивший в свое время отца отдать его в городское училище, Иван Яковлевич Таиров с трудом выбрался в люди, стал грамотным работником. Старшего сына, Сергея, ему удалось определить в гимназию. О Наде же отец имел свое особое мнение, совершенно обратное мнению свояченицы. И поэтому, когда четыре года тому назад Татьяна Петровна пристала к зятю с настойчивыми просьбами отдать Надю в институт, благо она имела на это право как бывшая институтская служащая, Иван Яковлевич долго упорствовал и не сдавался на просьбы.
– Нечего баловать девчонку, – со свойственной ему грубой прямолинейностью отметал он все доводы тети Таши. – Чем она лучше других ребят – Клавдии, Шуры? А те ведь об институте и мечтать не смеют. Не принцесса какая-нибудь, нечего ей из среды своей лезть… Еще заважничает, пожалуй, с разными там аристократками якшаться станет, нос задирать. Не потерплю, отдам в мастерство, как Клавдию, больше толку будет. В профессиональную школу куда-нибудь… А то: ин-сти-тутка! Скажите на милость, важная птица какая!
– Братец! Разрешите! Сами потом благодарить будете! Ведь если наша Надя кончит курс в институте, диплом получит. А с дипломом ей всюду дорога открыта. Классной дамой может быть, учительницей. Наконец, на курсы поступит. Свое учебное заведение откроет, если захочет. И потом ведь платить за нее не надо, братец, за Наденьку, за мою двадцатипятилетнюю службу в стенах института ее даром, на казенный счет, примут. Должны же они мне что-нибудь сделать! Ведь я столько сил и здоровья потеряла, заботясь и денно и нощно о казенном добре. Не мешайте же счастью Нади, братец, разрешите ей поступить в институт!
Тетя Таша просила зятя долго и убедительно. Наконец он сдался. Больше всего повлиял последний аргумент – о возможности дарового учения для дочери. Перспектива платить из своего скромного пятидесятирублевого жалованья в учебное заведение порядком страшила Ивана Яковлевича при наличии и других существенных, жизненно важных вопросов, и поступление Нади на казенный счет несколько успокоило его.
– Смотрите только, чтобы беды изо всего этого не вышло, сестрица, – уже сдаваясь, говорил он свояченице. – Надежду я раскусил давно: ленивая, нерадивая и пустая девчонка. Бог весть какой трухой голову себе набивает. Не на радость обучили вы ее, видно, грамоте. Намедни отнял у нее книжку; несто́ящая книжонка, пустая – говорит, лавочница дала, – о приключениях каких-то, про князей да графов. С десяти-то лет себе голову какой трухой набивает! За уши я ее выдрал за это. Пусть-ка попробует еще. А насчет института, конечно… Лучше бы, понятно, подождать, когда Шурка подрастет; девочка смышленая и восприимчивая, учиться будет хорошо. Шести лет еще не минуло, а грамоту разбирает по кубикам… Что, если бы вместо Нади да ее в институт? А? А что вы на это скажете, сестрица?
Но «сестрица» думала совсем иначе. Кому же, как не Наденьке, этому белокурому ангелу с манерами переодетой принцессы быть воспитанной и образованной барышней наравне с аристократками лучших домов? Конечно, ей, Наде, этой изысканной, изящной девочке, а не мужиковатой Шуре необходимо поступить в привилегированное учебное заведение. И, порешив на этом и заручившись согласием зятя, тетя Таша начала действовать.
Этот разговор происходил четыре года тому назад. Вскоре десятилетнюю Надю отвезли и устроили на казенный счет в N-ский институт. Но почти в первый же год ее поступления опасения Ивана Яковлевича оправдались. Надя училась дурно, застревала в классах на второй год или переходила с переэкзаменовками. Рассеянная, нерадивая, не желающая учиться, она если и не бросала занятий совсем, то только из боязни заслужить справедливый гнев отца, перед которым дети трепетали. Все свое время Надя отдавала чтению, чтению безо всякого разбора глупых бульварных романов, к которым питала слабость с самого раннего возраста. Читала тайком, на уроках, в промежутках между ними, ночью в дортуаре, на прогулках в институтском саду. С поразительной изобретательностью доставала она книги, выменивая их на свою обеденную порцию сладкого, на гостинцы, на картинки и учебные принадлежности. Тетя Таша не раз убеждала девочку прекратить это вредное занятие, советовала ей читать классиков или другие полезные книги, но Надя совсем ее не слушала. Вообще девочка проявляла мало послушания, особенно в последние годы, и Татьяна Петровна переживала далеко не первое разочарование по поводу занятий и поведения своей любимицы. Однако, несмотря ни на что, не переставала любить девочку болезненно сильной любовью.
– Наденька!
Тетя Таша широко раскинула руки и обняла свою любимицу. Потом, отстранив ее от себя, долго вглядывалась в тонкое бледное личико.
– Похудела как будто, Надюша, щечки стали что-то прозрачнее. Да и глазки невеселые. Что с тобой? Случилось что-то? – и добрые глаза тети вглядываются с тревогой в черты девочки.
Надя ежится. Ей неприятны эти слишком бурные, по ее мнению, выражения родственных чувств на глазах у всех посетителей. Вон на них смотрит сейчас генерал Ртищев, с дочерью которого, Наточкой, Надя учится в одном классе. И сама Наточка глядит сюда и как будто усмехается при виде нежной родственной сцены. Вон баронесса Шталь, мать этой насмешницы Даси, тоже направляет в их сторону свой черепаховый лорнет. Наде кажется, что все глядят на них с теткой и удивляются несдержанности и бестактности последней.
А тетя Таша ничего и никого не замечает, решительно никого, кроме своей ненаглядной Наденьки, и говорит, говорит без умолку. Она целую неделю не видела своей любимицы, и теперь ей есть о чем расспросить Надю, есть что ей порассказать. Дома у них уйма новостей. Сереженька еще один урок достал за шесть рублей в месяц. Клавдия от какой-то генеральши очень выгодный заказ получила. А Шуре купили новые сапоги, желтые с помпончиками (цветные на лето выгоднее: к ним пыль не так пристает, как к черным). А у кошки Машки котятки родились, всех раздали, одного только себе оставили – черненький, с белым пятнышком на лбу, такой забавный! Вот приедет Надя на летние каникулы, сама увидит, что за прелесть коташка. Тетя Таша увлекается, как девочка, рассказывая все это. Но мысли Нади далеки от ее рассказов, так же далеки, как и серые рассеянные глаза девочки, не видящие ни тети Таши, ни посетителей и посетительниц институтского приема. И не слышит Надя ни слова из всего того, что ей рассказывает тетка. Какое ей дело, в сущности, до уроков Сергея, до желтеньких ботинок Шурки, до кошки Машки с ее котятами. Все это проза, будни жизни… А она, Надя, рождена для праздника, для сказки, для роскоши и довольства, для той жизни, о которой написано в романах, которые она проглатывает с таким увлечением. О, как хороша та жизнь, про которую пишут в книгах! Жизнь, похожая на волшебную сказку! Все эти графы, герцогини, принцессы; все эти праздники, обеды, рауты, балы, охоты, дуэли… Все эти хитросплетенные интриги, неожиданности и случайности, над которыми так колотится и замирает сердце.
«Ах, кто это такой? Не сам ли герцог Альфред вошел в залу? Он, конечно, он…»
Надя вздрагивает от восторга и неожиданности и долго смотрит на высокого, тонкого юношу, появившегося на пороге приемной. Но тут же падает с неба. Увы! Какой же это герцог? Это только Миша Боярцев, брат ее одноклассницы Лили Боярцевой. Да.
А та высокая дама в трауре, может быть, это графиня Ада после смерти убитого на дуэли жениха-герцога? И опять не то. Опять вместо волшебных грез – скучная проза. Высокая «черная» дама – известная всему институту бывшая здешняя воспитанница, явившаяся на прием к младшей сестренке.
Настроение Нади совсем падает. Она невпопад отвечает на теткины вопросы. В голове уже сверлит новая тревожная мысль: что, если тетя Таша сегодня снова «отличилась» и, чего доброго, опять притащила эти ужасные фунтики шоколада-лома, какой-то мещанской карамели и грошовых апельсинов, от которых сводит рот и набивает оскомину… Ведь нельзя раскрыть пакета при Наточке Ртищевой, Лили Боярцевой, баронессе Шталь, которым родные приносят на прием самые изысканные лакомства, дорогие фрукты, конфеты, торты и которые в тайниках своих душ, конечно, смеются над мещанскими гостинцами Нади. Какой позор! Какая гадость – эта бедность, эти грошовые приношения, все это ничтожество и мещанство!
Надя так глубоко уходит в свои думы, что не замечает приближения Варвары Павловны, и только когда классная дама уже здоровается с тетей Ташей, девочка неожиданно видит ее и вскакивает со скамейки. Густая краска румянца заливает теперь Надино лицо. И в лице самой тети Таши смущение. Мадемуазель Студенцова появляется только в самых исключительных случаях, и эти появления никогда не сулят ничего доброго.
Так и есть. Варвара Павловна садится около тети Таши и начинает рассказывать самые неприятные вещи про ее любимицу.
– Надежда Таирова совсем не учится, не хочет учиться, не готовит уроков. Читает слишком много и в неурочное время. Два раза у нее уже отбирали книжки, и это оказались совсем не отвечающие ее возрасту романы. Этого допускать нельзя. Все учителя жалуются на нее. Все недовольны ею. Она так рассеянна, так невозможно рассеянна и ленива! И из рук вон слаба в успехах. Вчера опять получила двойку с минусом и единицу. А ведь она второгодница, на третий год ее ни под каким видом оставить в классе нельзя. Бесспорно, ей грозит исключение, если она не возьмет себя в руки и не подтянется во время экзаменов. Казна не намерена платить за нерадивых учениц, тем более что на их места есть столько прилежных, жаждущих учиться. Конечно, вас, Татьяна Петровна, все здесь знают, помня вашу беспорочную службу, но тем не менее, нельзя же делать исключения, согласитесь сами, во вред делу…
И долго-долго еще говорит на эту тему Варвара Павловна.
Безмолвно, с растерянным выражением лица, с яркими пятнами от волнения на щеках, слушает ее тетя Таша. Добрые серые глаза с мольбой устремлены в суровое лицо классной дамы.
И сама Надя как будто на этот раз смущена. Ей кажется, что все на нее смотрят, что весь «прием» догадывается о том, что говорит классная дама. О, как искренне хочется ей провалиться сейчас сквозь землю! Как стыдно Наде, как мучительно стыдно сейчас!
Спасительный звонок, возвещающий о конце приема, внезапно прекращает эту пытку. Вздох облегчения вырывается из груди девочки. Классная дама уходит. Тетя Таша, взволнованная, красная, встает со своего места, берет обе Надины руки в свои и смотрит на девочку испуганным, полным укора и слез взглядом.
– Наденька, как же это так, родная? – шепчет она растерянно, – что же это такое будет у нас? Подтянись хоть на время экзаменов, Надя. Брось свои книжки, брось вздорные мысли. Ведь, не дай Бог, исключат, – куда ты денешься? Папаша рассердится, в ремесло отдаст. Ах, мыслимо ли это! Ты – моя Надя, нежная, хрупкая и вдруг – портниха! Ведь убить тебя может тяжелый труд! Так постарайся же, Наденька, как-нибудь, – и голос маленькой женщины звенит слезами.
Надя сконфужена, смущена. А белокурую головку сверлит одна и та же мысль: «Скорее бы кончилось это неприятное прощание, скорее бы уходила тетка домой».
Слава Богу, конец. Поцеловала, перекрестила и спешит к дверям залы. Теперь можно идти в класс, забиться там в излюбленный уголок за доской и грезить до обеда, грезить над раскрытой страницей без конца, без конца…

Глава II. Как аукнется, так и откликнется
Что за роскошный, чарующий уголок между густо разросшимися кустами сирени отыскала себе Надя в большом институтском саду! Сюда никто не заглянет. Заросли кустов так плотны, что сквозь зеленую живую стену при всем желании нельзя рассмотреть тонкую фигурку в камлотовом[3] платье, в белой пелеринке и переднике. Да никому и в голову не придет смотреть, кто притаился здесь в зеленой чаще. Завтра у пятого класса экзамен по истории, и «свои», пятиклассницы, заняты усердной к нему подготовкой. Семь экзаменов уже прошли, остается восьмой, последний и самый страшный. Михаил Михайлович Звонковский, преподаватель русской и общей истории, справедлив, но строг и требует знания своего предмета, как говорится, «на зубок». Поэтому к его экзамену воспитанницы готовятся с особенным усердием, зная, что здесь о поблажках и снисхождении не может быть и речи и что «Мишенька» режет безжалостно, невзирая ни на что.
Вот почему сейчас самым добросовестным образом учатся в классе, учатся по ночам в дортуаре, учатся в саду.
Май в этом году стоит удивительный. Небо лазурно и прозрачно, словно на юге. Белые гряды облаков красиво и медлительно-важно плывут на фоне бирюзы. Солнце играет, шутит, смеется, выглядывая из своего ажурного дворца. Зеленые побеги так бархатисты и свежи по-весеннему. А на гибких ветвях сирени повисли лиловые и белые гроздья одуряюще вкусно пахнущих цветов.
Надя лежит, растянувшись во весь рост на молодой зеленой мураве, собрав передник жгутиком, чтобы не запачкать случайно зеленью, и обернув его вокруг талии. Белую пелеринку она сбросила с плеч и повесила на ветку куста. В правой руке у нее лиловая кисть сирени, в левой – учебник русской истории; другой, по всеобщей, брошен на траву. Но глаза девочки устремлены не в книгу, и мысли Нади дальше, чем когда-либо, от экзаменов, занятий, отметок и всей прочей институтской «прозы», как она называет действительную жизнь. Глаза устремлены в зеленые заросли кустов, в самую чащу, и Надя забывает в эти минуты весь мир, забывает предыдущие неудачные экзамены, забывает провал по арифметике, переэкзаменовку по немецкому и по русскому. Забывает и слова начальницы, строгой, сдержанной, всегда ровной в обращении со всеми воспитанницами баронессы X. после неудачнейшего Надиного ответа во время экзамена по русскому языку, отмеченного получением девочкой злосчастной двойки: «Тебе будут три переэкзаменовки, Таирова, но только в том случае, если ты выдержишь экзамен по истории. Иначе, не взыщи, твоей тете придется взять тебя из нашего учебного заведения. Смотри же, готовься к истории особенно прилежно, твое положение весьма серьезно, помни об этом хорошенько».
К чести Нади надо сказать, эти слова смутили девочку. Но, однако же, ненадолго….
Дня за три до решительного экзамена она увидела на постели дортуарной девушки Маши небольшую затрепанную книжонку и в какой-нибудь час одолела ее. Такой книжки ей еще не приходилось читать. Все, прочитанное ею прежде, померкло перед этим сказочным, захватывающим романом, где описывалась жизнь какой-то красавицы-принцессы, похожая на волшебную сказку, полная превратностей судьбы и самых изумительных случайностей, – словом, та самая жизнь, о которой так сладко грезила в своих мечтах Надя.
И сейчас она все еще находится под впечатлением прочитанного. И грезит наяву.
Вот раздвигаются кусты сирени, и из зеленых зарослей появляется высокая стройная фигура девушки. На ней бархатный берет с плюмажем[4] и дорогой наряд, приспособленный для верховой езды. У красных каблучков – серебряные шпоры. На тонких аристократических руках – перчатки; в одной руке она держит хлыст с серебряной рукояткой. А лицо ее знакомо, ах как знакомо Наде… Белокурые волосы выбиваются из-под берета. Серые глаза радостно щурятся. Счастливая улыбка не сходит с капризных губ.
Да ведь это она сама, Надя: ее лицо, ее манеры, хотя на ней и надет этот роскошный костюм, изменивший девочку до неузнаваемости. Этот костюм говорит за то, что она только что примчалась с турнира, данного в честь дочери королем-отцом. На турнире храбрейшие рыцари прославляли в бою ее имя, имя принцессы Изольды. А вечером будет бал, на котором она встретит нынешнего победителя турнира. Она оставила ему свой первый гавот[5], она будет танцевать с ним весь вечер, она знает, что скоро он станет ее мужем, что герольды[6] отца уже ездят по столице и извещают народ о ее помолвке с герцогом-победителем. Впереди ее ждет безграничное счастье.
Но что это? Почему вдруг померкли серые глаза принцессы? Кто это ползет там в кустах? Змея? Тигр? О, нет, нет! Кто этот темный, грубый человек со зловещей улыбкой? О, это он, злодей Раймунд, когда-то изгнанный королем-отцом из их королевства за тяжкую провинность и теперь жаждущий мщения. Его мысли темнее его лица, он весь горит желанием отомстить королю и его дочери за свое изгнание. Какой коварный план он замыслил теперь: похитить принцессу, увезти в свой замок и жениться на ней помимо ее воли! Это он, злодей и преступник, крадется в кустах, ползет, припадая к земле, как разбойник, как ночной тать[7]… Еще минута – и девушка в бархатном берете очутится в его руках.
– Ах!
Лицо Нади, не принцессы Нади-Изольды, а настоящей скромной институтской Нади мгновенно заливается румянцем от неожиданности и испуга. Какой ужас! Вместо белокурой принцессы и страшного «мстителя» среди зелени кустов появляется Варвара Павловна Студенцова.
– А вы опять размечтались, Таирова, опять не учитесь? – звучит знакомый Наде (о, какой знакомый!) голос. – Должно быть, хотите, чтобы вас исключили из института? Ну, что ж, до этого уж недалеко. Ваше желание, конечно, будет удовлетворено. Искренне жаль вашу достойную, уважаемую тетушку. Искренне сочувствую ей… Иметь в доме такую лентяйку! И, потом, что это у вас за поза? Лежать на земле, когда есть скамейка… И зачем вы смяли передник? Зачем сбросили пелеринку? Какое вы имеете право так небрежно относиться к казенному имуществу?
Варвара Павловна смотрит в лицо Нади недовольным, суровым взглядом. Краска негодования заливает ее лицо.
Сконфуженная, пристыженная девочка поднимается с травы. Ее передник действительно смят, волосы растрепаны, пелеринка висит на ветке. А на лице застыла смущенная улыбка. Эта несчастная улыбка дает новый повод к негодованию классной наставницы.
– Как вы смеете смеяться, когда вам делают выговор? За этот смех вы будете наказаны.
И так как Надя все еще в смущении молчит, Варвара Павловна берет ее за руку и выводит на дорожку.
– Ступайте в класс, садитесь на свое место и извольте серьезно заниматься. Я вижу, что в саду вы совсем не можете учиться.
Ночь… Окна дортуара, несмотря на строгий запрет начальства, открыты настежь. Нестерпимо душна майская ночь. Сиреневые деревья под окнами пахнут одуряюще сильно… Какой пряный, вяжущий аромат!
В дортуаре, несмотря на позднее ночное время, кипит жизнь. Благодаря белой северной ночи мая здесь светло, как днем. Пятиклассницы небольшими группами расположились у окон и усердно затверживают имена, названия и года по учебникам истории.
Особенно года, хронологию. «Мишенька» исключительно требователен и строг в ее отношении. Беда перепутать у него лета царствования того или другого царя или же периоды войн и событий. Особенно взыскателен он почему-то ко всему, что касается Греции в общем и Пунических войн в частности. Ох уж эти Пунические войны! К ним Михаил Михайлович чувствует какое-то исключительное, ничем не объяснимое тяготение и чуть ли не каждую воспитанницу спрашивает на экзамене о той или другой Пунической войне.
Наточка Ртищева, «генеральша», как ее называют в классе, клюет вздернутым носиком над учебником истории у себя в «промежутке», то есть в узеньком проходе между своей кроватью и кроватью соседки. Зажав уши, чтобы не слышать жужжание подруг, шепотом лепечущих пройденное, Наточка изрекает, как пифия[8] с треножника, раскачиваясь из стороны в сторону на своей табуретке, даты за датами, имена за именами.
Где-то неподалеку в коридоре пробило три. Скоро утро. А она еще семи билетов не знает из сорока. Какой ужас! Неужели провал? С нескрываемой завистью оглядывается Наточка на тех счастливиц, которые повторили уже всю программу на завтра, пользуются сейчас вполне заслуженным отдыхом и, уж конечно, проснутся с бодрым сердцем и свежей головой. Счастливая эта Лилька Боярцева, – вызубрила все билеты и теперь храпит, раскрыв с блаженным выражением свой пухлый рот. А вон Дася Шталь встает, потягиваясь, с пола, на котором сидела поверх теплого пледа, и идет, сладко позевывая, ложиться в постель.
– Все билеты прошла? – завистливо спрашивает Наточка.
– Все, конечно, – радостно бросает Дася.
И опять в сердце бедной Наточки вздрагивает завистливое чувство.
– Mesdames, кто знает про битву в Фермопильском ущелье и может рассказать? – неожиданно раздается чей-то громкий шепот.
Это Саша Гурвина. Она считается одной из слабых учениц.
– Вот святая наивность! Спроси у учебника, он лучше всех знает, – отвечает кто-то из зубрящих, в то время как другие продолжают священнодействовать, не отрываясь от книги.
– Не могу: страницы нет. Как раз вырвана на этом месте страница, – жалобным голосом стонет Саша.
– Бедняжка, ступай сюда. Я тоже сейчас на Греции… Будем каждая про себя читать по одной книге. Только чур, уговор дороже денег, не жужжи, а одними глазами читай, без шепота.
– Хорошо, душка моя, хорошо, не буду! Спасибо… – и босые ножки Саши замелькали по направлению к Мане Златомиримовой, самой отъявленной «зубрилке», на институтском языке, очень комфортабельно устроившейся на подоконнике огромного дортуарного окна. Теперь вместо одной закутанной в теплый платок детской фигурки на окне выросли две. Книжка лежит на коленях Мани. Она хозяйка и не хочет стеснять себя. Гостья же только бочком заглядывает в раскрытую страницу.
А короткая весенняя ночь уже выводит на далеком небе первые предрассветные узоры.
Надя Таирова, притаившаяся на другом дортуарном окне с учебником на коленях, с удивлением замечает розовую полоску зари, опоясавшую небо. Боже, как скоро промчалась эта ночь! Все казалось, что до утра еще далеко. А как прекрасны были сегодня ее ночные грезы! Какое дивное настроение создавал этот бледный, призрачный свет. Как остро переживались в воспоминаниях картины и образы прочитанного. Действительность с ее скучной прозой отошла далеко-далеко, и девочке в эту ночь кажется снова, что не Надя она, не Надежда Таирова, воспитанница пятого класса N-ского института, которой суждено завтра держать последний, решительный экзамен, а принцесса, пленница какого-то таинственно заколдованного замка, пленница злого чародея-чудовища, который держит ее за семью затворами в высокой башне. А там, внизу, герои-рыцари осаждают замок, пытаясь освободить принцессу из плена… Но высока, неприступна башня, крепки затворы замка, далеко им до терема пленницы. Сам колдун о семидесяти драконовых головах стережет вход в башню, не дает освободителям проникнуть в свой волшебный чертог. Пленница знает, однако, в чем ее спасение: ей необходим первый взгляд проснувшегося доброго чародея-солнца. Если первый взгляд его золотых очей упадет на нее – она спасена; тогда рухнут злые чары, падут сами собой крепкие затворы, ослабеет дракон-чудовище и смелые рыцари проникнут в башню. Вот уже скоро-скоро поднимется с голубой постели прекрасный добрый волшебник. Алое пламя зари уже залило небо… Надя смотрит туда большими, остановившимися от ожидания глазами, и душа ее трепещет и сердце бьется часто-часто… Сейчас-сейчас поймает она первые брызги золотых лучей!
– Таирова, ты, кажется, спишь с открытыми глазами? Вот смешная! Ха-ха!
Как несносна эта Софи Голубева. Какое ей дело до Нади? Что ей надо от нее? Она своим неожиданным смехом нарушила очарование, прогнала грезы, прекратила волшебную сказку.
– Мильтиад при Марафоне… Мильтиад при Марафоне… При Марафоне, при Марафоне, при Марафоне… – совершенно бессознательно начинает твердить Надя, поднимая к самому лицу книгу и закрываясь ею от подруги.
А утром, когда в коридоре заливается, поет звонок, безжалостно прерывающий особенно сладкие сны институток, Надя с пустой головой и разбитым от бессонницы телом лениво и апатично одевается, чтобы идти на молитву. Из сорока билетов по курсу истории она знает только первые пятнадцать, да и то с грехом пополам.
Длинный, крытый зеленым сукном экзаменационный стол, выдвинутый на середину класса, уже сам по себе говорит о торжественности момента.
Пятый класс весь в сборе. Воспитанницы еще задолго до звонка, возвещающего о начале экзамена, сидят на своих местах и, спешно перелистывая страницы курса, наскоро пробегают в памяти пройденное.
Надя тоже для «очистки совести» берет учебник. Пунические войны еще туда-сюда она с грехом пополам кое-как помнит. Но что идет дальше – все уже перепуталось в голове. Про русскую же историю и говорить нечего. Все эти удельные князья – какая путаница, какой сумбур!.. А потом Иваны… Иван Калита, Иван Третий, Иван Грозный… И кто такой Калита? И почему Калита? Какое странное название… А татарское иго? Про иго она совсем плохо помнит… Был Мамай, был Батый… И кого-то ослепили… И будет в лучшем случае двойка, и то лишь потому, что единиц не принято ставить на экзаменационных испытаниях, только поэтому…
Звонок. Все встают. Все кланяются.
– Nous avons l’honneur de vous saluer, madame la baronne![9] – дружным хором восклицают девочки.
Входит начальница, инспектор классов, «свой» преподаватель, чужие учителя-ассистенты, назначенные на экзамен, и в их числе «Мишенька».
Еще не старый, но болезненный и выглядящий старше своих лет, с подагрическими ногами, Михаил Михайлович Звонковский кажется сегодня особенно озабоченным и суровым. То и дело своими нервными пальцами он пощипывает маленькую жидкую бородку с пробивающейся на ней сединой. Михаил Михайлович не может не волноваться. По его мнению, пятый класс слишком мало преуспевает по истории и совершенно не имеет никакого понятия о хронологии. А между тем он, Звонковский, усерднее, чем с кем-либо другим, занимался с этим классом.
Экзамен начинается, по раз и навсегда заведенному правилу, общей молитвой. Все воспитанницы поднимаются, как один человек, со своих мест и выстраиваются в промежутках между скамейками. Дежурная по классу звонким голосом читает «Преблагий Господи…» Потом все снова садятся, начальство – вокруг зеленого стола, воспитанницы – за своими партами.
– Арсеньева, Аргенс, Беляева, Бобринцева… – громко произносит инспектор классов, глядя в журнал.
Маленькая Арсеньева с испуганным лицом бросается к столу.
Михаил Михайлович чуть заметно улыбается девочке ободряющей улыбкой. О, за эту ему нечего бояться: она на двенадцать баллов знает предмет, а вот Бобринцева может смутить своими познаниями кого угодно… Веселая проказница-толстушка со смеющимися глазами и ямками на щеках развязно несет какую-то чепуху о Карфагенских войнах и Александре Македонском и при этом так быстро, что за ней трудно уследить.
– Позвольте, позвольте… – не выдержав, останавливает Варю инспектор классов, – не так скоро, не так скоро, я ничего не могу разобрать…
Но та уже несется на всех парах без удержу, сыпля первыми пришедшими в голову именами, цифрами, названиями мест и городов.
– Верениус, Вартышевская, Голубева… – продолжает вызывать инспектор.
«Мишенька», с лицом, пошедшим пятнами от волнения во время ответов Вари Бобринцевой, теперь облегченно вздыхает. Добросовестная шведка Верениус и одна из лучших учениц пятого класса Софья Голубева бесспорно отличатся своими ответами и загладят впечатление от предыдущих, он это знает хорошо.
Так и есть: обе девочки отвечают прекрасно. Баронесса довольно улыбается; инспектор одобрительно кивает головой; лица ассистентов проясняются.
– Дарлинг, Дмитриева, Звонарева…
Надя Таирова, словно сквозь сон, слышит произносимые фамилии своих одноклассниц, такие знакомые и незнакомые в одно и то же время. Вслушивается в их ответы, ловит то или другое название, год или имя и обливается по́том от волнения и страха.
Нет, так, как они, она не сумеет ответить никогда. Китайской грамотой кажутся ей все эти года событий и войн древности с их героями. Никогда она не запомнит в точности ни одного из них. Никогда.
– Мильтиад при Марафоне… Фермопильское сражение… Ах ты Господи, и когда все это было? Когда?
А экзамен приближается между тем к концу. Добрая половина класса уже вызвана в алфавитном порядке. Все больше и больше прибавляется спрошенных. Воспитанницы с красными, взволнованными лицами одна за другой возвращаются от зеленого стола и снова располагаются за своими партами.
Одни – удовлетворенные, счастливые вследствие удачного ответа, другие – встревоженные, с беспокойным выражением глаз.
Миновали уже буквы К, Л, M, H… Скоро подойдет очередь Нади… Машинально перебирает девочка страницы учебника и ничего не может понять; строки сливаются между собой; в голове сумбур; в ушах стоит звон от бессонной ночи и в мыслях не удерживается ничего, совсем как решето стала голова Нади, самые дикие мысли мелькают сейчас в ее мозгу.
«Что за лицо у инспектора? Как он похож на отца герцога Адольфа, а „Мишенька“ – на того кастеляна замка, который похитил бриллиантовое колье герцогини… Ну конечно, на него, вот только бы наклеить ему большую бороду и…»
– Госпожа Таирова, Тонская, прошу… – откуда-то издалека-издалека звучит голос инспектора.
Вздрогнув всем телом, Надя быстро поднимается и идет к зеленому столу. На сукне лежат раскинутые красивым веером экзаменационные билеты. Тонкая трепещущая детская рука протягивается к ближайшему.
– Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его… – шепчет Надя обычную школьную молитву, помогающую, по убеждению институток, во всех страшных и трудных случаях жизни, и левой рукой незаметно крестится под пелеринкой, в то время как правая уже поднимает неведомый билет.
– Господи, помоги, чтобы из первого десятка, из первого, из первого… – одними губами беззвучно шепчет Надя и, вспыхнув до ушей, поворачивает к себе билет лицевой стороной.
– Пятнадцатый… – говорит как будто не она сама, а кто-то иной чужим, незнакомым голосом.
Пятнадцатый… все кончено… она пропала!.. В билете стоит: по древней истории – Перикл и украшения Афин; по русской – Иоанн III, его княжение. Про Перикла Надя помнит кое-что, совсем смутно, и вот это-то обстоятельство бесспорно погубит дело. Может быть, кое-как еще выручит Иоанн? Она недавно читала про него в каком-то историческом романе. Правда, там больше описывались похождения какой-то цыганки-колдуньи, но было кое-что и про царя. Она, Надя, запомнила это «кое-что» и, может быть, сумеет рассказать экзаменаторам. Может быть, дело обстоит еще не так плохо; в сущности, и один из Иоаннов, которых так боялась Надя, выручит Перикла на этот раз.
– Помяни, Господи, царя Давида… – одними губами, побелевшими от волнения, лепечет Надя.
– Ну-с, госпожа Таирова, извольте начинать, – и глаза «Мишеньки» устремляются в лицо девочки пытливым вопрошающим взглядом. Он точно насквозь видит мысли своей ученицы и, вероятно, уже заранее уверен в ее неудовлетворительном ответе.
Так не даст же она, Надя, ему торжествовать! Ни ему, «Мишеньке», никому! Надо только быть храброй и смелой, как герцогиня Аделаида, как принцесса Изольда, как все те девушки, которых она так хорошо знает и которым поклоняется в глубине души.
– Мы ждем. Итак, что вы можете сказать про Перикла? – спрашивает чужой преподаватель-ассистент, поднимая глаза на воспитанницу.
Надя густо краснеет, потом сразу бледнеет. Что-то словно ударяет ей в голову… Сердце стучит… руки конвульсивно стискиваются, пальцы сжимают и без того смятую бумажку с номером билета.
– Перикл… Перикл… Он был… он был очень смелый… он был очень храбрый… и украшал Спарту… Нет, не Спарту, а Афины и носил на плечах хорошо задрапированный плащ… И греки ему за это поставили статую… – лепетала Надя, снова краснея до ушей, до корней волос и до тонкой детской шеи.
– Хорошо-с, все это так, но слишком уж сжато. Необходимо указать пространнее заслуги Перикла перед Грецией, – звучит убийственно спокойно и совсем уже не в интересах Нади замечание Звонковского, в то время как тонкая, все понимающая улыбка играет на его губах.
Надя молчит. На что она может указать? На какие заслуги Перикла? Ничего она не может указать, решительно ничего. Что она, афинянка, что ли, что должна восторгаться заслугами перед родиной какого-то противного грека?
И Надя готова расплакаться от горя и острой ненависти не то к Периклу, не то к «Мишеньке», заставляющему ее так подробно заниматься делами Перикла. Она молчит, по-прежнему до боли, до судорог в пальцах сжимая руки.
– Ну, в древней истории вы недостаточно, как видно, компетентны, госпожа Таирова. Перейдем к русской, – снова говорит чужой преподаватель-ассистент.
Словно гора падает с плеч Нади. Слава Богу, ей дают возможность поправиться по русской, если по древней провал, а она и не надеялась на такое снисхождение. Ну, роман про колдунью-цыганку, вывози! – проносится в ее голове, как птица, встрепенувшаяся мысль.
Девочка откашливается, поднимает глаза на экзаменующего и приступает к ответу. Теперь она говорит быстро-быстро, так и сыплет словами, извергая из уст целый букет, целый фейерверк самых разнообразных событий.
– Иоанн III был еще маленький, когда его мучили бояре. Потом он бросал кошек из окна… Потом людей давил на улице и при нем был пожар в Москве, и пришел Сильвестр и еще Адашев. А потом он созвал опричников, которые с песьими головами и метлами на седлах губили хороших людей из бояр и слушались одного Малюту Скуратова…
Речь Нади, вначале сбивчивая и отрывистая, делается все плавнее и последовательнее с каждой минутой. Упомянута Софья Палеолог и взятие Сибири. Кажется, все хорошо, по-видимому, идет. Так почему же с таким сожалением смотрит на нее начальница и с такой насмешкой «свой» преподаватель?
Смутившись на мгновение, она, однако, очень скоро ободряется и с новым жаром делает вслух открытие, что Иоанн III убил собственного сына в запальчивости и умер в муках раскаяния, видя призраки погубленных им людей.
Две молоденькие ассистентки-учительницы младших классов, не выдержав, фыркают в платки. Фыркает кто-то и из подруг там, за спиной Нади, за партами. А у начальницы лицо делается вдруг страдающим и утомленным.
– Довольно, да довольно же, госпожа Таирова… – морщась, как от физической боли, говорит «Мишенька», повышая голос, – вы все перепутали… Мельком упоминаете про Иоанна III, а подробно рассказываете про Иоанна IV Грозного, про которого у вас в билете нет и помина. Простите, но вы совершенно не ознакомлены с предметом. Такими знаниями я удовлетвориться не могу, – и, говоря это, Звонковский отыскивает в классном списке фамилий Надино имя и ставит против него в клеточке жирную двойку.
Пошатываясь, с подгибающимися коленями, Надя возвращается на свое место. В сознании мелькает одна только мысль: «Все кончено… Она провалилась и будет исключена».

Глава III. Исключена
С опухшими от слез веками и красными заплаканными глазами тетя Таша помогает Наде одеваться в институтской бельевой.
Знакомые светлые комнаты, сплошь уставленные шкафами с казенным бельем воспитанниц, так много говорят воспоминаниям тети Таши. Здесь она проработала более двадцати лет, надеясь прослужить кастеляншей в N-ском институте до могилы, но неожиданная смерть старшей сестры перевернула весь строй жизни Татьяны Петровны. Она бросила службу, перешла в дом зятя воспитывать и нянчить его малышей, оставшихся сиротами после кончины матери. И свою крошечную пенсию тетя Таша всю целиком отдавала на детей. Деньги, хотя и маленькие, удобства, хотя и относительные, и служба, кормившая ее и дававшая ей даже некоторый комфорт, – все было принесено в жертву семье покойной сестры. А между тем самый горячо любимый тетей Ташей член этой семьи, ее любимица Надя, чем она отплатила за все заботы о ней? Девочку исключают за лень, за нерадение. Ее приходится брать домой, помещать в мастерскую к портнихе или белошвейке. Ее Надю, милую, нежную, прелестную!
Слезы снова наполняют большие кроткие глаза тети Таши. Руки ее заметно дрожат, пока она застегивает крючки на «собственном» скромном коричневом Надином платье.
Вокруг них толпятся девушки-прислуги. Многих из них знает тетя Таша, только восемь лет как оставившая службу кастелянши в бельевой. Здесь ее любили и уважали за чрезвычайную деликатность, человеческое обращение с низшими служащими, за ангельскую доброту и теперь несказанно сочувствуют ее горю.
– Что же вы теперь, Татьяна Петровна, делать будете с барышней вашей, куда их определять станете? – осведомляется краснощекая пожилая Маша, особенно привязанная к своей бывшей ближайшей начальнице.
Тетя Таша тяжко вздыхает, в то время как Надя быстро поворачивается в сторону служанки и отрывисто отвечает за тетку:
– Мне кажется, это вас не касается, куда я поступлю, – и глаза девочки недобро и вызывающе смотрят в лицо служанки.
Маша явно конфузится. Тетя Таша не менее ее.
А Надя, прикалывая шляпу, говорит тетке через плечо как ни в чем не бывало:
– Ну, тетя Таша, я готова. Едем.
– А прощаться? Разве ты не пойдешь прощаться к баронессе, к Варваре Павловне Студенцовой и к твоим подругам? Ведь, как-никак, начальница и классная наставница заботились о тебе, оказывали всяческие снисхождения, а подруги… – начала было Татьяна Петровна.
– Снисхождение… Ха-ха-ха! Ну и скажете же вы, тетя Таша… Тоже – снисхождение!.. То-то и исключили меня из-за чересчур большого ко мне снисхождения. Нет, избавьте уж от трогательных прощаний. Раз исключили, так, значит, не нуждаются во мне. А раз не нуждаются…
– Наденька, а подруги как же? – удивляется тетя Таша.
– Ах, все они эгоистки и насмешницы, и никакого желания я не имею разыгрывать с ними трогательную сцену прощания. Пожалуйста, едем поскорее, тетя Таша! – уже раздражительным тоном нетерпеливо заключает девочка.
– Как хочешь, как хочешь, твое дело, не могу неволить тебя… – засуетилась Татьяна Петровна и, кивая направо и налево своим бывшим сослуживицам, поспешила из бельевой.
– Надя! Надин! Прощай!
В полутемном коридоре трудно различить лицо выскочившей откуда-то из-за двери девочки, но Надя сразу узнала Нюту Беляеву, свою постоянную и неутомимую поставщицу книг, едва ли не такую же мечтательницу, как сама Надя, единственного человека, которого Надя любит в этих стенах. Еще секунда, и девочки замирают в объятиях друг друга.
– Надин, милая Надин, как мне грустно расстаться с тобой… – с некоторым пафосом говорит Нюта. – Мне так тебя жаль! Но ты не огорчайся, милая Надин, вспомни только: ведь и принцессе Изольде, и герцогине Аде, и виконтессе Лили – всем приходилось переживать превратности, и они только закаляли ими свои души. А у тебя их натура, Надин, ты такая же героиня, как и они. И, вот увидишь, тебя ждет еще много неожиданного и интересного в жизни. Вспомнишь меня всякий раз, когда слова мои будут сбываться… Это ничего, что тебя берут отсюда, ты устроишься еще лучше, еще поэтичнее где-нибудь в маленьком домике на окраине города… Там будет, верно, садик, деревья… А я буду писать тебе, буду присылать книги, приезжать иногда в гости во время каникул. Хорошо? Ты увидишь, как все это будет прекрасно.
Голос Нюты звучит так убедительно, что Надя не может не поверить ей. Нюта на целый год старше и кажется опытнее и «начитаннее». Надя доверяет ее советам и считается с ними. Понизив голос до шепота, чтобы не быть услышанной тетей Ташей, Нюта продолжает говорить:
– А в класс я тебе не советую идти. К чему? Шталь, Боярцева, Голубева – все они всегда завидовали твоей красоте, изяществу и теперь, конечно, торжествуют. Лиля Боярцева несколько раз говорила мне: «Эта Таирова Бог знает что о себе воображает…» И бранила тебя. А впрочем, иди прощаться, если хочешь.
– Нет, нет! – поспешила отклонить предложение подруги Надя. – Нет, не пойду. Еще высмеют меня, пожалуй. Такие насмешницы. Тетя Таша торопилась за мной приехать и захватила самое затрапезное платье… – солгала она, чтобы оправдать свой скромный костюм.
– Ах, душка, ты забыла, как мила была Золушка и тогда, когда еще не сделалась принцессой, – польстила Нюта подруге и, так как девочки уже дошли до дверей швейцарской, крепко обняла и поцеловала Надю.
– Смотри же пиши, не забывай!
– Конечно, тебя-то уж не забуду, может быть, единственную… – произнесла растроганная Надя, и они расстались.
– Поздравляю с блестящим окончанием курса, сударыня! Нечего сказать, отличилась! Осрамила тетку и отца. Исключили! Как последнюю лентяйку прогнали… Ну, чего молчишь? Оправдывайся! Что стоишь истуканом да глаза в землю уставила? Стыдно, небось? Совесть зазрила. Поздно стыдиться-то… У-у, бесстыдница! Глаза бы на тебя не смотрели. В судомойки отдам…
Все это одним залпом вырвалось из уст пожилого седенького человека с клинообразной бородкой на желтом болезненном лице. Такими словами Иван Яковлевич Таиров, только что вернувшийся со службы, встретил дочь. Надя подошла было поцеловать руку отца, но тот резко отдернул ее, и поцелуй пришелся в воздух. Девочка совсем растерялась от такого приема и стояла с поникшей головой посреди комнаты.
Три часа тому назад Надя в сопровождении тети Таши поднялась сюда по грязной черной лестнице, хронически запечатлевшей на себе запах горелого масла, кошек и керосина, и вошла в эти более чем скромные две комнатки. Сердце девочки сжалось в комочек при виде нищенской обстановки отцовской квартиры. После огромных, полных света зал и классов института эта бедная квартирка показалась Наде особенно убогой и жалкой. В первой комнате, столовой, на диване на ночь устраивалась Клавдия, шестнадцатилетняя горбатенькая девушка, окончившая только этой весной курс в профессиональной школе по классу метельщиц[10]. Теперь Клавдия работает с утра до вечера, помогая семье своим начинающимся заработком. Тут же у окна стоят ее пяльцы и швейная машинка для подрубки белья, которое она метит по заказу. Низенького роста, с огромным горбом за плечами, с нервным некрасивым лицом и большими умными черными глазами, Клавдия кажется много старше своих лет. В детстве она по недосмотру няньки упала из окна второго этажа и с тех пор стала калекой.
В задней, темной комнате ютится сам отец семейства с Сережей, семнадцатилетним гимназистом, дельным, энергичным и серьезным юношей, вносящим тоже посильную лепту на нужды семьи. Уже с четырнадцати лет Сережа Таиров дает уроки более слабым ученикам своей и чужих гимназий. Эти уроки дают гроши, но и они очень пригодны в скромном хозяйстве. Сам Сережа учится превосходно и идет все время в гимназии первым учеником. За прилежание его давно освободили от взносов за учение. Отец не нахвалится на сына, хотя еще большую симпатию, а главным образом его сочувствие и болезненно-острую жалость к себе возбуждает горбатенькая Клавдия.
Наконец, в небольшой светлой кухне спит тетя Таша с Шуркой. Шурка, последний экземпляр семьи Таировых, востроносенькая, быстроглазая юркая девчурка десяти лет, очень способная, очень ловкая в работе, отличается несколько чрезмерной живостью, любопытством и умением сунуть всюду и везде свой маленький носишко. Шурке часто попадает за это от отца, старших брата и сестры, но она неисправима. Когда Надя переступила сегодня порог отцовской квартирки, Шурка точно из-под земли выросла перед ней.
– Совсем приехала? Теперь дома будешь жить? В институт не возьмут обратно? А если попросить хорошенько, все равно не возьмут? А папаша еще тебя не видел? А ты рада, что на кухне с нами будешь спать? А, может быть, захочешь в столовой с Клавденькой? А? – засыпала она ее вопросами.
– Да брысь ты, егоза! Чего к сестре пристала! Есть тебе дело до того, где она будет спать? – строго прикрикнула на младшую сестру старшая.
Сама же Клавдия не то с участием, не то с жалостью смотрела на Надю своими умными, проницательными глазами и говорила ей:
– Не горюй! Как-нибудь пристроишься. Хорошо бы тебе в нашу профессиональную поступить. Там и права по окончании, и диплом получишь, – советовала она сестре, не подозревая того негодования, которое захватило от этих слов Надю.
Как! Она, Надя Таирова, должна будет заниматься уроками кройки и шитья или метить белье, как Клавдия? Слуга покорный. Она не создана для такого жалкого прозябания!
Сердечнее всех отнесся к сестре прибежавший со связкой книг после уроков из гимназии Сережа. Он ничего не сказал и только молча крепко пожал сестре руку.
Что-то теплой волной захлестнуло на мгновение Надину душу при этой встрече. Ей захотелось броситься на шею брату и сказать ему, как она несчастна теперь, как противна ей вся эта убогая обстановка, как тяжела такая нищенская жизнь ей, грезящей об иной жизни, о которой она знает только из романов. Но, к счастью, Надя удержалась от своих жалоб, которые, разумеется, возмутили бы серьезного, глубокого по натуре Сережу. Потом пришел отец, негодующий, возмущенный, гневный. Он говорил такие суровые слова, от которых Надя то бледнела, то краснела поочередно, а на добрых испуганных глазах тети Таши выступили слезы.
И долго еще звучал в маленькой квартирке сердитый голос Таирова, и ни жива ни мертва слушала отца Надя.
– Решено! С осени в портнихи отдам! Нечего дома баклуши бить. Не маленькая, кажется, пора о своем собственном заработке подумать. Шутка ли сказать: пятнадцатый пошел. Небось Клавдия чем тебя хуже, а как работает, какая помощница семье, и год только разница между вами! Эх, Надежда, не взыщи, а дурь твою я из головы повыколочу! Шелковая будешь, дай срок!
И, оставив растерянную девочку в совершенном смятении, Иван Яковлевич прошел к себе в «темную», сильно хлопнув дверью.
И мгновенно вслед за этим все стихло в крошечной квартирке Таировых. Даже Шурка прикусила язык и убралась на кухню за ширмы, чтобы не попадаться в дурную минуту отцу на глаза. Клавдия, неслышно скользя по столовой, хлопотала с обедом. Тетя Таша, готовившая в кухне и слышавшая от слова до слова все сказанное зятем, бросилась утешать Надю.
– Надюша, родненькая, не тужи. Все перемелется – мука будет, – горячо обнимая свою любимицу, зашептала она. – Дай успокоиться отцу – все обойдется, милая. Может, с Сережей подзаймешься за лето, в гимназию поступишь осенью. А, Наденька?
Но Надя молчала. С надутыми губами, с нахмуренными бровями, стояла она, глядя исподлобья на дверь, за которой скрылся отец. Вдруг ее губы начали конвульсивно подергиваться; большие глаза наполнились слезами.
– Что ж… – начала, всхлипывая, Надя, – что ж, если я такая дурная… нехорошая, то… то выгоните меня из дома… Я слу-жить в при-слуги по-по-пойду… В судомойки, в кухарки, в горничные!..
– Надя! Что ты говоришь, побойся Бога! – и Татьяна Петровна страстно обняла худенькие плечи девочки, в то время как у нее самой слезы брызнули из глаз.
Но эти слезы, этот испуг тетки нимало не тронули Надю. Напротив, девочке точно доставляло огромное наслаждение растравлять сердце доброй женщины «жалкими» словами.
– Да, да, в горничные… в девчонки на посылки пойду… Черную работу исполнять буду… Полы мыть, окна… Да, да, пойду и буду! Буду! Буду! Все же лучше это, чем постоянные упреки слышать. Не хочу! Не хочу! Не хочу! Завтра же спрошу у дворника, кому здесь нужна девочка для посы…
– Надя, не смей изводить тетку! Бога побойся! Сердца у тебя нет! – и Клавденька с загоревшимися глазами и сердитым лицом внезапно появилась перед Надей.
Ее тон сразу протрезвил расходившуюся девочку. Так сурово говорил с ней только отец и сейчас вот она, Клавдия. Кто дал ей право на это? Наде страшно хотелось надерзить как следует непрошеной заступнице, но, взглянув на приоткрывшуюся дверь темной, она не рискнула отвечать старшей сестре.
– Обедать! – лаконически бросил Иван Яковлевич, успевший сменить свой служебный выходной сюртук на домашний старенький пиджак, порыжевший от времени, и вся семья разместилась вокруг круглого стола, очень бедно, но чисто сервированного.
Шурка внесла дымящуюся миску с горячими щами и поставила на стол. Тетя Таша – сковородку с хорошо промасленной гречневой кашей. Надя, севшая между теткой и братом, не притронулась ни к тому, ни к другому, тогда как все остальные члены семьи, кроме разве что тети Таши, с аппетитом уничтожали обед.
– В чем дело? Почему ты не ешь? – утирая губы салфеткой, осведомился Иван Яковлевич у средней дочери, – и почему надута опять? А?
– Я никогда не ем щей и каши, – брезгливо глядя на поставленную ей теткой тарелку, произнесла Надя.
– Не ешь щей и каши? А что же ты изволишь кушать, позволь спросить? Рябчики и фазаны, пломбиры да кремы разные? А? – снова закипая гневом и хмурясь, спросил Иван Яковлевич.
Надя молчала.
– У нас в институте… – начала она было, уже робея.
– Э, матушка, о чем вспомнила! Теперь институтские замашки пора бросить и мысли о разных яствах тоже. А вот я слышал, ты сейчас сказала, что служить хочешь, так это дельно. Умные речи приятно и слушать. Конечно, в служанки я тебя не пущу, а если портнихе понадобится девочка для посылок и мелкой работы, тогда другое дело. Отдам без всякого колебания.
Ах! Сердце Нади упало… Если бы она знала, что отец слышал ее запальчивую речь, разве бы она решилась сказать то, что сейчас говорила? Ведь она только хотела попугать тетку и Клавдию!.. А что вышло из этого, сохрани Бог! Впервые за всю свою еще коротенькую жизнь Надя была искренне испугана. Она поняла, что грезам и розовым мечтам ее настал конец и жизнь стучалась к ней в дверь со всей своей беспощадной правдой.
Как на горячих угольях просидела девочка до конца обеда. После разварного супового мяса с картофелем пили чай с сахаром вприкуску. Потом встали из-за стола, и началась уборка. За неимением прислуги ее производили сами: тетя Таша, Клавдия и Шурка с подвязанными пестрыми передниками убрали со стола и вымыли посуду. Затем Шурке, как самой младшей, пришлось вымыть кухонный пол. К шести часам все было окончено. Отец семейства ушел из дому на вечерние занятия, которые имел по временам в банке. Сережа побежал давать урок какому-то засидевшемуся второгоднику-гимназисту. Пользуясь светлым летним вечером, Клавденька устроилась за своими пяльцами. Тетя Таша, ежедневно занимавшаяся с Шуркой, раскрыла учебник и начала диктовку на правила. В квартире постепенно наступала полная тишина, прерываемая лишь негромким голосом тети Таши, раздельно и четко нанизывающей фразу за фразой, да редкие вздохи Клавденьки, пригнувшейся над работой.
Предоставленная самой себе, Надя прошла в кухню за ширму и села здесь у окна. С их четвертого этажа ей был отлично виден узенький двор с неизбежными дровяными сараями. Какие-то дурно одетые люди сновали по двору… Голодные кошки пробирались к лестнице… Эта печальная серенькая картина обстановки уголка беднейшего петроградского квартала заставила Надю болезненно поморщиться. Вот где, может быть, придется ей провести всю жизнь начиная с этого дня! Среди этих серых будней, этой прозы, мелких интересов, ничтожных требований к жизни. Какая мука! Какая тоска!
Почти с ужасом девочка отвернулась от окна и, бросившись ничком в постель, зарылась головой в подушки. Так пролежала она весь вечер, ссылаясь на головную боль. К ней заходила тетя Таша, прибегала Шурка, заглянул к ней в уголок и вернувшийся с урока Сережа. Но на все вопросы Надя отвечала отрывисто, недоброжелательно и враждебно одно и то же: у нее болит голова, она устала и просит оставить ее в покое.
В эту ночь девочка уснула поздно. Уже солнце заглянуло в окно кухоньки, а Надя все еще не спала. С той минуты, как уснули все домашние и полное спокойствие воцарилось в квартирке, Надя снова погрузилась в обычный мир своих грез, которым только и жила последнее время.
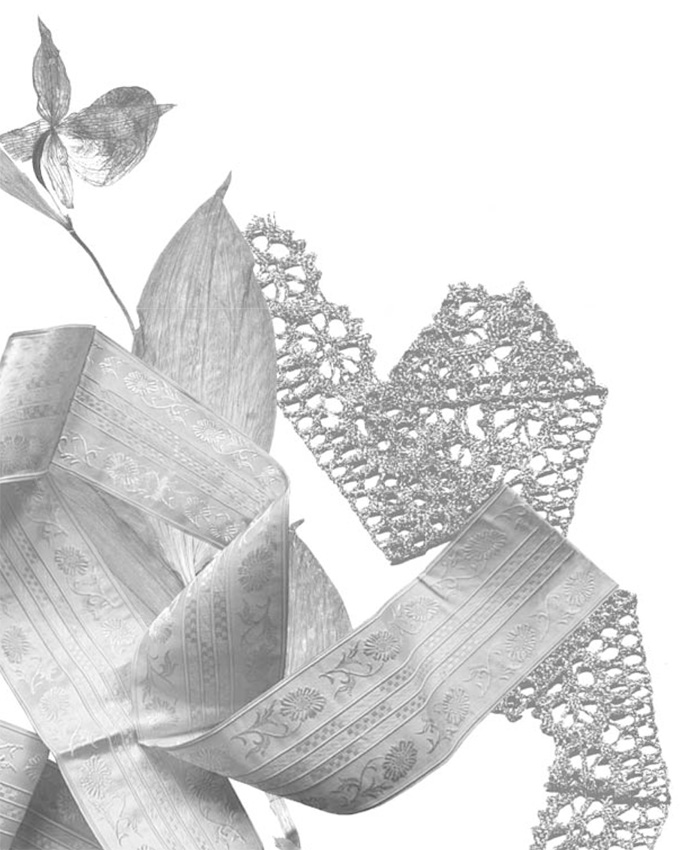
Глава IV. Дома
Жизнь в семье Таировых начинается рано. Раньше всех поднимается с постели тетя Таша. Еще нет и семи часов, а ее миниатюрная худенькая фигурка в ситцевом полинявшем капоте[11] уже маячит на кухне. К восьми она возвращается с рынка и будит детей. Сергей, напившись чая, отправляется в гимназию. Клавдия, если не идет к заказчикам, то, убрав комнату, сразу садится за пяльцы у окна. В девять встает глава семейства, которому надо поспеть на службу к десяти. Лишь только Иван Яковлевич уходит из дому, женский персонал приступает к готовке несложного обеда, мелкой стирке тут же на кухне, починке нательного белья и платья. Словом, жизнь маленького семейства кипит, как в котле. Тетя Таша, Клавденька и Шурка дружно делят между собой труд и заботы по дому.
Но все эти хлопоты не касаются Нади. Она или спит до двенадцати, или допоздна валяется в постели с книжкой в руках. Тетя Таша сумела убедить своих, что Надя слаба здоровьем, малокровна и поэтому девочке необходимо хорошенько отдохнуть, а главное, хорошенько отоспаться.
– Пусть окрепнет первое время дома, потом придется и ей вставать с петухами, суетиться и хлопотать.
Впрочем, от главы семейства тщательно скрывают несвоевременное Надино пробуждение. Иван Яковлевич органически не переносит такого лентяйничанья и сибаритства.
Целыми часами Надя просиживает у себя за ширмами, жадно поглощая страницу за страницей. Как досадно девочке, что под рукой нет новых книжек! Спасибо еще Нюте Беляевой, что она не взяла обратно тех, что давала читать в институте. Надя тщательно прячет их от отца в изголовье кровати под жиденьким матрацем. Сохрани Бог увидит, найдет их папаша! Теперь, прожив уже неделю дома, девочка меньше грезит похождениями принцев, принцесс, герцогинь и герцогов, их жизнью с волшебно-прекрасными случайностями. Постоянная «проза», как называет Надя борьбу за существование, нехватки и лишения, которые видит вокруг себя, дают совсем новое направление ее мыслям. Теперь Надя грезит больше, чем когда-либо, богатством, роскошью и житейским комфортом. Она жадно, по сотне раз перечитывает страницы, где описываются богатые наряды, роскошные обеды и пышно обставленные празднества. Как далеки они все от действительной жизни, как ужасно далеки!
На момент возвращения домой Нади в семье Таировых жизнь, как на го́ре, еще больше осложнилась. Иван Яковлевич, простудившийся еще зимой, теперь чувствует постоянное недомогание и с трудом ходит на службу. Его сухой кашель терзает уши, а постоянная раздражительность всех угнетает. Вечерние занятия пришлось оставить из боязни окончательного переутомления. Таким образом, бюджет семьи сократился на несколько рублей, пришлось урезать себя во всем. Стали пить чай с ситным хлебом вместо булок, совершенно исключили из обеда мясное блюдо. К довершению всего и Сережа потерял уроки, поскольку его ученики разъехались на летнее время из столицы. Крошечная пенсия тети Таши и еще более мизерный заработок Клавдии шли теперь жалким добавлением к жалованью отца, из которого, за обязательным вычетом на службе, Иван Яковлевич получал весьма немного. Приходилось ограничивать себя насколько возможно, и все это не могло не отразиться на душевном равновесии членов семьи. Заботы угнетали. Вопросы самых насущных требований заслоняли собой весь остальной мир.
– Ты еще спишь? Господи, она еще спит! А у нас новость, да еще какая. Что дашь, если скажу? – и остренькая лисья мордочка Шурки просунулась между ребром ширмы и стеной в уголок Нади.
Шурка ошиблась: Надя не спит. Она лежит, разметавшись на своей убогой постели. Она зажмурилась и улыбается. Ах, какой сон она сейчас видела! Волшебно-прекрасный сон! Суждено ли ему когда-нибудь сбыться? Она шла по какой-то длинной-предлинной и узкой улице и вдруг видит – посреди тротуара лежит кошелек. Она наклонилась, подняла его, раскрыла… Боже, сколько денег! Бумажки цветные, радужные, пестрые так и замелькали перед ней. Она тотчас же взяла извозчика, поехала в магазин, накупила себе нарядов, платьев, золотых украшений, надела их на себя и стала перед зеркалом. Бархат, шелк, золото! Как все это идет к ее тонкому личику, к ее белокурым волосам!
И вдруг эта Шурка со своим неизбежным: «Ты еще спишь, Надя?» Ах, как все они надоели здесь ей! О!
– Ну вот, ты, слава Богу, не спишь! – присаживаясь на краешек кровати, затрещала Шурка. – А у нас, повторяю, новость: вчера вечером папаша от доктора как вернулся – ты уже спала, а я всё, решительно всё слыхала, что он говорил тете Таше и Сергею. Доктор, говорит, нашел какое-то серьезное осложнение в легком, говорит, в Петрограде вредно с такой болезнью лето проводить, необходимо в деревню, понимаешь? Хоть до осени прожить на свежем воздухе, попить молока где-нибудь среди коров, коз, баранов. Папаша согласен. Не столько, говорит, за себя хлопочу, сколько за Клавденьку. Ей свежий воздух и деревня нужнее, чем мне. С утра до ночи трудится, позеленела даже, одни кости торчат. И вот решили – ехать тете Таше с Сережей искать дачу, где-нибудь неподалеку от Петрограда, чтобы папаше, когда кончится отпуск, можно было бы на службу ездить оттуда каждый день. Ты рада, Надя? А? Ведь на дачу поедем, на дачу! А?
И Шурка впилась разгоревшимися глазенками в лицо сестры.
Презрительная улыбка скривила хорошенький Надин ротик.
– В деревню. Ха! Воображаю эту прелестную дачу в деревне, – протянула она презрительно.
– Вот глупая-то! Не все ли равно где, лишь бы на даче, лишь бы рядом было поле, лес, река, – мечтательно произнесла Шурка, еще ни разу не выезжавшая из Петрограда, из этих закоптелых стен.
– Не знаю, может быть, кого-нибудь и удовлетворит эта идиллия среди коров и навоза, а мне совсем не улыбается провести лето где-то в глуши, – все так же пренебрежительно тянет Надя и с убийственным хладнокровием смотрит Шурке в глаза.
Шурка разочарована. Шурка огорчена, огорчена самым искренним образом в своих лучших чувствах. Ей, собственно говоря, жаль Надю, хоть та «барышня» и «белоручка», каковых Шурка не выносит. А все-таки жаль смотреть на ее всегда печальное лицо, грустные глаза. Вот и хотелось порадовать сестренку доброй вестью, а она оказалась Наде ни к чему, эта добрая весть, и Шурке становится искренне досадно. Какая она, Надя… Сердца в ней нет… Эгоистка. Хотя бы папашу пожалела, папаше нужен деревенский воздух, а она…
Темные глазенки Шурки мгновенно загораются гневом. Какое негодующее личико у нее сейчас! Но Надя точно ничего и не замечает и говорит мечтательно:
– А какой я сон сейчас видела! Нашла тысячу рублей и купила на них бархатное платье, шляпу со страусовым пером и бриллиантовую брошь.
Гнев Шурки мгновенно разрастается до геркулесовых столпов при этом сообщении. Как смеет она видеть такие сны, эта лежебока Надя! Дух бурного протеста обуревает Шуркину душу.
– Не надо было бархатное покупать, лучше шелковое, теперь все шелковые костюмы носят, а ты и не знала! Ах ты, модница! – язвит девочка сестру.
Надя вспыхивает, в свою очередь, как порох.