Женщина
Рассказать тебе о моей катастрофе, девочка? Показать полигон, что ядерным взрывом выжжен? Сквозь огонь или медные трубы? Но это мелочи. А из крупных купюр остается простое: выжить. И ведь не было боя, снаряды дождем не падали, не атака пришельцев, не новая мировая. Это мы отравляли наш воздух, дышали ядами, друг от друга себя потихонечку отрывая, лоскутками обвисшей кожи сходили, клочьями, даже тело июня пахло сожженным августом.
Брось монетку – еще вернешься, когда захочется.
Можно я помолчу о том, что внутри?
Пожалуйста.

Все порывы души упираются в немощь тел.
Ты потом напиши, той ли участи ей хотел,
ту ли долю ей выбрал, когда раздавал слова,
что пророчил ей, когда ее целовал?
Твоя девочка выросла, полно в нее играть.
Пеппидлинныйчулок, разбойница и пират,
забияка, проказница, умница, егоза.
Время выйти из тени и главное рассказать.
Милосердный Отче, галактический старожил,
где ты взял эту боль, что однажды в нее вложил?
Сколько шрамов, храмов, препаратов, передовиц
ты оставил в наследство вместо своей любви?
Нет ни зла, ни печали, ни весточки, ни звонка.
Тридцать лет я качаю твою девочку на руках.
В небесных льдах застывшие корабли.
У собачки боли, у девочки не боли.
Сложи мне сказку о моем отце – изменнике, безумце, беглеце, скитальце, не дожившем до седин. В каких чертогах он сейчас сидит, с какими пьет богами/если пьет/, как имя мне находит – не мое?
Сложи мне сказку. Кажется, пора. Я уходил – в себя, в запой, в астрал, я бил татуировки и людей, но, видит Бог, не этого хотел.
Сложи мне сказку, отпусти с галер, мне скоро сорок – бот, аккаунт, клерк, бессменный адресат и абонент, я сын того, кто не пришел ко мне.
Сложи мне сказку. Или стань отцом, дай весточку, подсказку, письмецо, из садика пораньше – и домой. Пусть мама спит, ты посиди со мной.
Проснется, спросит, где ты пропадал.
А ты крестился.
Голубь.
Иордан.
Наследник Тутти вырос и стал большим. Три толстяка в нем не чают теперь души, наследник с железным сердцем жесток и глуп. Кукла наследника Тутти стоит в углу. «Потанцуй мне, Суок, как будто я снова мал, как будто я никогда тебя не ломал. Сердце стучит, часовой механизм идет. Оружейник Просперо пойман и осужден». Суок отвечает: «Тутти, ведь я больна. Мы с тобой танцевали, потом началась война, ты сказал мне, я плохо танцую, я не о том пою. Ты приказал стоять здесь – и я стою». Наследник злится и повышает тон, в парадную залу кондитер выносит торт, три толстяка с любопытством глядят на дверь.
Доктор Гаспаро, скажи мне, куда теперь?
Под канатом на площади снова стоит толпа.
Я пройду даже там, где каждый второй упал.
Лихорадит город, наследник лежит в бреду.
Улыбнись, мой мальчик, ты видишь, как я иду?
Кукла поет, сердечко ее стучит.
Оружейнику в клетку наутро несут ключи.
Адавай, как будто это не мы, не нам умирать друг без друга медленно, по кускам вырезая вросшее прошлое – часть его…
А давай, как будто не было ничего.
Просыпаешься утром, смотришь на телефон, на холсте окна лимонное солнце – фон, по нему узор зеленой резной листвы. Это лето такое, девочка, это вы – опьяненные юностью, легкостью, всем и вся, пара радостных рыжих шустрых смешных лисят, и седьмое небо дышит над головой…
А давай, как будто не было ничего.
Просыпаешься утром, носом – в тепло плеча, натянуть одеяло, прижаться к руке, молчать, слушать, как из предсердия лавой идет душа, как по дому бродят шорохи, не спеша, дождевой колокольчик, вздрагивая, звенит. Это осень такая, девочка, осени ее молча крестом и нежностью вековой…
А давай, как будто не было ничего.
Просыпаешься утром и видишь, что снег – внутри. Каждый чувствует холод, просто не говорит. За окном посмертной маской висит туман. Познакомься, девочка, это твоя зима. Научись ей улыбаться, в ее горсти – все, что ты пока не можешь произнести. Дождь замерз в снежинки, явственней слышен звон…

А давай, как будто не было ничего.
Просыпаешься поздней ночью – ноль три ноль пять, потому что и не думала засыпать. За окном наклеен темный цветущий сад. В телефоне замурованы голоса. Омут страшен, неопознан и незнаком. Кто с крючка сорвался, кто кому был крючком? Крик внутри тебя царапает, как блесна. Это все весна такая, девочка.
Все.
Весна.
А давай, как будто не было ничего, и смеется лето – солнечно, лучево, достает до дна, вода – как зеленый дым…
А давай, как будто там, глубоко – не мы.
И почему мне больно? Потому что мои смешные плюшевые крылья подвешены во времени, в пространстве на острых до безумия крюках, я продолжаю никому не нужной историей, давно покрытой пылью, рассказывать легенды дальних странствий для тех, к кому протянута рука. Я продолжаю путаться в предлогах для встреч, звонков, для собственных желаний, стирая недописанные строчки с пергаментных желтеющих сердец, я медальон, хранящий чей-то локон, как артефакт чужих воспоминаний, как документ, что сотни раз просрочен и выброшен архивом наконец.
И почему мне больно? Это время размеренно ползет по циферблату, царапая потертые деленья нелепой и отчаянной шкалы, я музыкант, покинувший свой Бремен, чтоб где-то стать отчаянным солдатом, чтоб променять любовь и вдохновенье на торжество отравленной стрелы. И почему? Да просто по сигналу инерционных нервных окончаний, еще не научившихся не верить в твое давно забытое тепло. Наверное, и смерти будет мало, чтоб сделать это бывшим и случайным, мне догорать – тебе судить и мерить.
Мне будет больно.
Но тебе – светло.

Мы меняемся местами. Когда устанем,
мы замрем друг в друге, не умножая жалоб.
Я люблю тебя любовью дамасской стали,
обнаженным лезвием, влажным и острым жалом.
Убивая ревность нежностью, Бог неверных
выбирает опрометчиво верным в пару.
Наслаждение входить в тебя соразмерно
наслаждению держать тебя под ударом.
Это все остается за кадром, за
неспособностью долго смотреть в глаза,
невозможностью близости – вопреки,
недоступностью просто в руке руки.
Это все остается под кожей, под
этим руслом, где капелькой вьется пот,
обводя очертанья груди легко,
словно море играет волной с песком.
Это все остается над прочим, над
всем, чему неизбежно дана цена,
всем, что можно измерить и изменить,
всем, что нас отделяет давно от них.
Это все остается в тебе. Во мне.
Словно жемчуг лежит глубоко на дне,
словно риф, что веками над ним растет,
разгораясь кораллами, как костер.
Это все остается. Настанет час,
ты нырнешь – и окажешься глубже нас,
глубже тел, что мешали проникнуть в суть.
Ты нырнешь.
И тогда я тебя спасу.
Островом стану. Или осколком острова. Буду царапать море краями острыми, буду звенеть ручьями, лежать под звездами, ждать Робинзонов или считать суда, буду встречать рассвет голосами птичьими, красить листву зеленым, стволы коричневым, буду плевать на правила и приличия, будто бы их и не было никогда. Будто не я разрасталась громадой каменной, и не мои перекрестки тонули в мареве, и не на мне выступала река испариной между сплетенных кровлями площадей, будто и не было неба, что так сутулится, словно собой укрывает глухие улицы, где обреченное время устало хмурится и начинает новый безумный день. Будто не я прохожих ждала под крышами – тех одиночек, которые чудом выжили, путала их в проулках, звала афишами и запирала в комнатах до утра, даже не слушая, как они тихо молятся, как набухает вена, иголка колется, по отсыревшим стенам ползет бессонница, вместо имен рождаются номера. Здесь не осталось больше живого, нужного. Я открываю люки. Прощай, оружие. И на реке плотина скрипит и рушится, я осыпаюсь медленно, по годам…
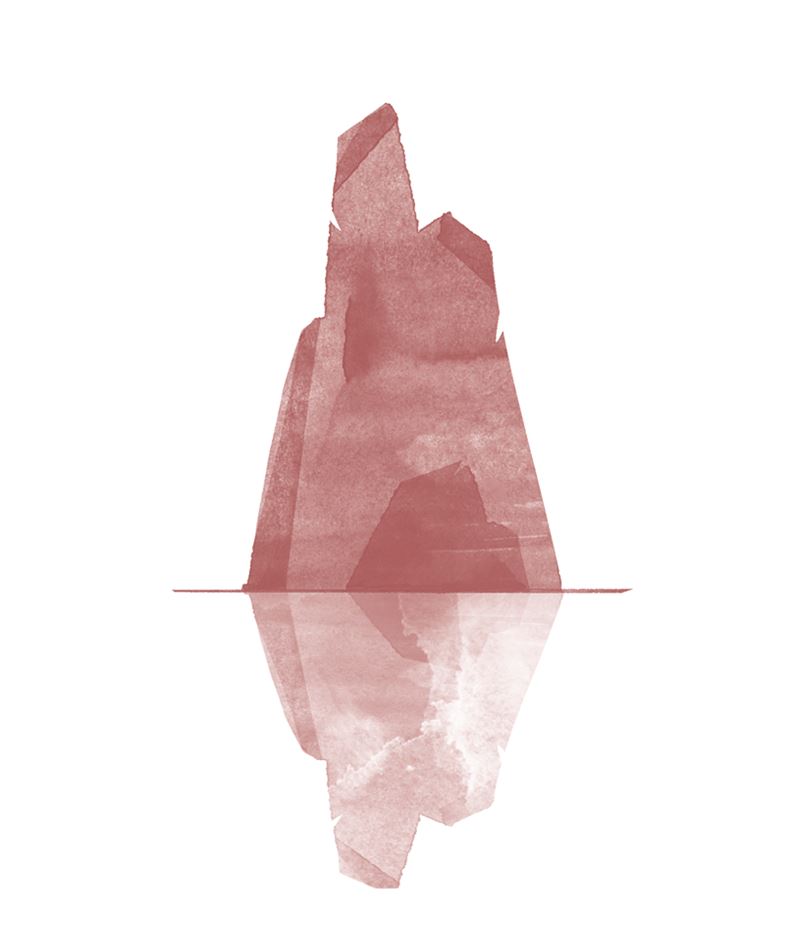
Волны меня качают – морскими сестрами, к берегу льнут, ласкают шелками пестрыми.
Островом стану. Или осколком острова.
А городов и не было никогда.
Снова с твоей подачи случится грусть, которую мне придется делить на части, и чередой глаголов, имен, причастий все превращать в изысканную игру, и вся наша боль опять обернется счастьем – с этим я завтра как-нибудь разберусь. Видишь ли, нынче время идет быстрей: мы же хотели по-взрослому – без морали, мы же о нашей избранности орали под каждой из пугающих нас дверей, и нам иногда приветливо отпирали демоны, которые подобрей. Мы не жалеем крови, ее чернил хватит еще на пару томов «о важном», но этот мирок, наш странный, смешной, бумажный, давно бы исчез в пустоте, растворился, сгнил, если бы я изменила тебе однажды.
Если б меня хоть кто-нибудь изменил.

Итебе не придется меня держать: ухожу, конвертируя мысли в мили. Я склоняю город по падежам, жаль, учебники звательный отменили. Вот и мечется звуком, лишенным нот, не способным окликнуть тебя при встрече. Да и встреч не случалось уже давно, потому что больше делиться нечем. Все остались, как водится, при своих, обрастая бытом, быльем и ленью. Так на месте, где некогда шли бои, появляются новые поселенья. В них рождаются, маются, ждут чудес, не дождавшись, в землю врастают крепче. Парадигма, в которой все формы есть, кроме тех, что ей явно противоречат. Я склоняю город к твоей душе, не имея, в общем, альтернативы.
Шесть бессмысленных косвенных падежей.
И один – Necessarius Vocativus.
Останови меня на полпути к знакомой пропасти. Я помню эти скалы, земную твердь, сведенную оскалом, и шрам обрыва… Видишь, впереди густой туман, в него скользит песок с крутого склона, камни, осыпаясь, рождают в недрах эхо, и слепая земля поет на сотни голосов – не ангельских, не демонских, но тех, кому нет места в каждой из епархий. И я пою. И звук горчит, и пахнет бессмертием, разлитым в темноте.
Останови меня.
Ее края расходятся, как вспоротая рана, но пропасть дышит, чувствует, и странно, что там, внутри, однажды буду я. Смотреть нельзя. Упавших не спасти. Тропинка петли путает устало.
Но я иду.
Я помню эти скалы.
Останови меня на полпути.
Ау нас сегодня срывается дождь. На крик. А иначе никто не станет его жалеть. У трамваев люди высечены внутри, как рисунки в первобытной седой скале. Вдоль дорог гуляет ветер – пора теплеть, только он упрямый, северный, по глазам, и слезинки проявляются на стекле, словно кто-то их нарочно подрисовал. Так идут вагоны, медленно, как в кино, вот такой дождливый, странный палеолит. А у нас сегодня срывается все. С весной. Мы, пожалуй, даже сделали, что смогли. Посидели, улыбнулись, спросили «как?», помолчали и ответили «хорошо». За стеной пещеры слышится барабан – оказалось, это дождь на порог пришел. С ним явились злые духи слепых ночей, с ним явилась эта липкая тишина. Нам друг друга надо просто спросить: зачем? Так жестоко. Надо. Просто. Друг друга. Нам.
Наша эра – приспособься и выживай в предвесеннем обострении бытия.
Где-то в будущем этот город похож на рай.
А сегодня здесь срывается дождь.
И я.
Они забрали мебель, одеяла и даже книги. В пыльных фолиантах с засушенным соцветьем под обложкой, в случайных письмах, заполнявших ящик, они уносят все, что составляло меня… уносят… Господи, анданте! Скрипят ступени так, что невозможно опередить молчанием уходящих.
Они выходят, даже не считая необходимым навести порядок, стереть следы присутствия, что въелись в полы и стены, в атомы пространства. Оставленная комната пустая, как пуст больной на утро после яда, что убивает, но на самом деле является единственным лекарством от прошлого… Распахнутые окна. Случайный шорох. Пыль на пальцах солнца. И пустота, по степени излома похожая на крылья или горы… Я возвращаюсь внутрь понемногу, осознавая, что теперь придется начать сначала, стать кому-то домом, подслушивать чужие разговоры, встречать других, пока не приручивших, но будущих, стремящихся вселиться в пустую суть… Уставший от агоний, так ждет зимы измученный аллергик.
Я жду людей. Смотрю на город с крыши своей души.
И прилетают птицы.
И я кормлю их зернами с ладони.
И повторяю: «Господи, аллегро!..»

Яиногда не чувствую ничего, кроме усталости. Даже твое инферно, магнитные бури где-то над атмосферой, томление духа и возмущенье вод не вызывают во мне ни имен, ни лиц, ни ощущений причастности. Я не помню, бывает ли что-то значительней и огромней вот этого дерева, что пропускает лист сквозь створку окна… Я вижу внутри листа деление клеток, движение жизни в тонкой среде. Остальное проходит по строчкам током, спускается в землю и замирает там.
Мне кажется, они сошли с ума. И лучший друг, и этот первый встречный. Они живут и думают, что вечны. А я глотаю утренний туман, теряю ключ, бегу на остановку, сажусь к окну и поправляю шарф. Мне иногда становится неловко за то, что я могу еще дышать, за то, что я владычица империй – неповторимых, яростных секунд… Им некогда. Они в себя не верят. И думают, что вовсе не умрут. И не умеют радоваться ветру, простым словам, трамвайному звонку, а я по каплям собираю это и в темноте предсердий берегу. И если вдруг мой маленький кораблик теряет курс, кренится и дрожит, я достаю спасительные капли.
И продлеваю вверенную жизнь.
Мы опять не имеем ни шансов, ни прав – только выкрутить пробки и стать потемнее. Почему тебя нет ни online, ни in love, если я без тебя засыпать не умею? Позвони, расскажи мне забавную чушь – про невежливый ветер и злые трамваи, я тебя продышу, проживу, промолчу, я тебя удержу до рассвета словами – где-то в снах, от которых всего лишь черта остается под утро на смятой подушке. Иногда ты умеешь меня не читать. Иногда я пытаюсь об этом не слушать. Иногда нас разводят по разным углам, как детей, что уже напроказили слишком. А сегодня – сидеть без назойливых ламп, просто ждать, когда ты наконец позвонишь мне, в темноте вспоминать, как звучат голоса, как от счастья и нежности пальцы немеют…
Я б сама позвонила, чтоб это сказать,
но ты помнишь —
ни шансов,
ни прав
не имею.
Когда ты возвращаешься домой, когда ты возвращаешься домой, когда ты возвращаешься домой? Мы будем ждать, мы вымоем посуду, мы чистое наденем и цветы, сиреневые-желтые цветы, которые ты любишь, любишь, ты ведь любишь нас? А за любовь не судят. Сама подумай: разве хорошо, когда искал везде и не нашел, когда квартира – каменный мешок, и мы на дне болтаемся стихами. Ты приходи, ищи и доставай, ругай кота, сгоняя со стола, и чайник ставь, и говори слова – без слов, ты знаешь, нежность затихает. Как будто был здоров и занемог, как будто мир вокруг – глухонемой, когда ты возвращаешься домой? Где шаг, и смех, и голос твой знакомый? Мы будем ждать, мы наведем уют и музыку любимую твою.
Нам эти расстояния дают, как памятку, что было по-другому.
Дорога начинается не с выезда, не с запертой машины во дворе, дорога – это то, что в сердце вызрело, Господь привел или кривая вывезла, дорога не умеет не гореть.
Лежит наш мир – изученными картами, и, кажется, довольно пары фраз, но сломаны вселенские локаторы,
куда свернем? Давай по навигатору, а вдруг не подведет на этот раз. Налево со двора и прочь из города, по трассе – в порт, а там уже решим. Мы все больны: морской ли, звездной, горной ли, бездомные, отчаянные, гордые, скитальцы сердца, странники души. И что нам предначертано с тобой еще – в стихах моих почуем за версту. Что видим мы? Щиты, дома за рощами, коленопреклоненных дальнобойщиков, молящихся у неподвижных туш. И требуя у Бога озарения, на вечный путь к себе обречены, что знаем мы? Терпение, смирение, поля, столбы, особенное зрение, отчаянье режимов скоростных.
Давай отныне будем осторожными, не выйдем вон, не попадем под плеть и в этот раз сумеем невозможное:
промчаться, не сворачивая в прошлое,
чтоб до заката
в будущем
успеть.

Время пишет в полночь: «Мне тебя не хватает. Я за городом, звезды не падают, а летают, спутники – росчерком, месяц внизу – печатью. Тебе некогда, можешь не отвечать мне». Время терпит, иногда отправляет войсы, задает риторические вопросы, присылает старые песни, стихи и клипы: «Думаешь, мы могли бы?..» Время делает свое дело – летит, крадется, иногда меня лечит, но чаще над всем смеется, говорит: «Это глупости, мелочи, пыль, детали. Просто вспомни, кто ты. Мы уже вспоминали».