Афанасий и Серафима

«Назовём поимённо»
Продолжаем печатать имена земляков – жертв сталинизма.
…Вахрушев Афанасий Иванович, 1878 года рождения, уроженец д. Выставка Спиридоновская Котласского района. Проживал по месту рождения…
Серафима в девичестве
многих пленяла
Красотою, и статью,
и русой косой,
На работе не видели,
чтоб уставала,
И на луг, и на пожню
ходила с росой.
Заливалась и пела
у дома гармошка,
И лицо розовело,
как маковый цвет.
И для дочери Фёдор
скопил уж немножко,
И с приданым сундук
был готов дать ответ.
Только девичье сердце,
поди-ка, изведай,
Как, к кому повернётся
и чем одарит,
И когда по весенней тропе
непоседа
На свиданье
к опушке лесной побежит.
Серафимино сердце
познало смятенье,
И девический трепет
ему был знаком!
Покорил Афанасий её на Успенье[1],
Когда в церкви стояла,
накрывшись платком.

Он – постарше,
и будто мужик,
а не парень.
Черноват, не похож
на других и силён,
И молва о нём —
девку кидала в испарину!
Мол, тулупы тачает
овчинные он.
И имеет машинку
(шьёт кожу и ткани),
Что закажут, исполнит
в размере и в срок,
И в лесу, и на пашне
не скоро устанет,
Знать, жених он завидный, —
твердился урок…
И посватался парень —
и свадьба на диво,
Вся деревня гуляла,
и пол ходуном,
Новобрачные были
милы и красивы,
И невеста при всех
обнялась с женихом…
А потом пошли парни
впритык друг за дружкой,
И наделы уж больше,
и дом хоть куда:
Пятистенок срубили
с зимовкой избушкой,
Да амбары, да баню —
всё есть от труда.
Афанасий гордился:
хозяйство исправно,
А жена год от года
родней и милей,
И девчонок уж трое,
а главное – парни,
Аристарх с Капитоном,
растите скорей!
Подрастайте и девки,
и всё – честь по чести:
Всемером выйдем в поле
на праздник души,
Как землице поклонишься,
будто невесте,
И посеешь с умом —
и хлеба́
хороши.
А коль хлеба в достатке
и вёл сенокос ты,
То и снежную зиму
не страшно встречать.
Застрекочет машинка,
и тоже до пота
Деревенский портной
будет шубы тачать…
Но тридцатый год страшный
стоял на пороге
И мечтам и надеждам
черту подводил.
Афанасий бессонно
томился в тревоге
И у Бога лишь милости
к детям молил…
– Собирайся! – Пришло,
стало быть, его время,
И судьба отвернулась,
проси – не проси…
– Ты кулак, Афанасий,
кулацкое семя
Подчистую, под корень
должно известись.
Где машинку-то спрятал?
Найдём, раскопаем!
Знают все,
что поддёвки,
кафтаны строчил…
– Эх, отец, для чего ты
сиреневым маем
И портняжному делу
меня научил?..
– Ты в работе будь, парень,
всегда аккуратен,
И не дело мужское —
лежать на печи, —
Говорил ты, а я
с детства был на подхвате,
Ну а нынче что ж вышло?
Хоть криком кричи!..
Срам какой! На телеге везут,
будто вора,
И в тюрьму, в город Устюг!
За что? – Укрывал! —
Я такого не видывал
в жизни позора!
И зачем, неразумный,
детей нарожал?!
Младшей нет ещё года!
Как хлеб не укроешь?
Ведь амбары вчистую метут,
хоть умри!
И управы не сыщешь,
хоть волком завоешь,
Продналоги лютуют —
в два глаза смотри!
А машинку-то думал
сберечь для девчонок
И сестре как приданое
вроде бы дал,
Ан, не вышло! Придурок,
ленивый с пелёнок,
Всё завистливым глазом
везде увидал…
Серафима-то свету не видела,
бедная,
То скотина, то поле,
опять сенокос,
Да за юбку – орава,
грудная – последняя!..
Я не счастье, а горе
семейству принёс.
Вы простите мне, дети,
прости, Серафима,
Что любовь моя
слёзы лишь вам принесла,
Что во время лихое
теперь вас покинул…
И не знать бы мне век
моего ремесла…
Мысли горькие
спать не давали ночами,
Всё казалось, что будто
во всём виноват,
А тюремные нары
уж стоном стонали
Под мужскими боками,
и мыслям не рад…
А в деревне меж тем
загибали всё круче:
Жён кулацких, сказали,
теперь повезут,
И опять: «Собирайтесь!» —
А девки все в кучу,
Обхватили ручонками мать
и ревут.
– Дайте девку-то
хоть покормить,
супостаты![2]
Что вы, изверги, что ли,
ведь ей только год!
И за что нам, несчастным,
такая расплата?
За труды наши, видно,
теперь мой черёд.
– Ты прости, Катерина,
детей оставляю,
Ведь погибнут в краю
незнакомом, чужом!..
Край родимый,
в слезах я тебя покидаю,
И придётся ли свидеться,
плачу о том.

Вот корову
уже привязали к телеге,
Вишь, и ты виновата,
бурёнка, как я.
И куда же нас?
Будто к Макарихе едем,
Значит, к Котласу
нынче дорога моя…
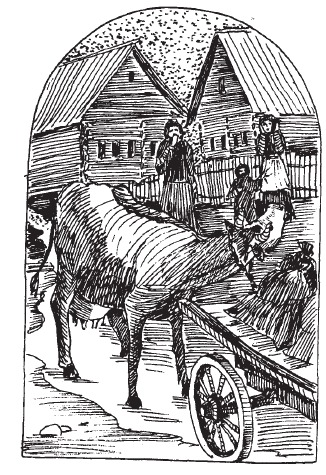
Вот сбежались соседки
и плачут, знать, жалко
Им меня и детей
неразумных моих.
– Помолитесь вы, бабоньки,
нас ведь на свалку,
Вишь, везут, как бродяжек
бездомных каких.
А ведь дом-пятистенок
мы строили сами,
Надрывались в лесу,
как таскали кряжи[3],
И с рассветом всегда на ногах.
Чудесами
Не обласканы Богом…
Посевами ржи
И овса, да и жита
натружены спины,
Разве б что уродилось
без мук и забот?
А теперь наказала нас
злая судьбина
За старанье на пожне,
за муки и пот.
– Ты прости меня, Ирушка,
младшая, бедная,
Сердце кровью сейчас
обольётся моё!
Я тебя покидаю,
ведь сгинешь, болезная,
Если будешь со мною
делить бытиё.
Катерина, святая,
троих приласкала,
Бог не дал ей детишек —
родить не пришлось.
А теперь вот мои —
Ира, Маша, Тамара…
Как от них отрывалась,
так сердце зашлось…
Капитон-то,
четырнадцать только, —
подросток,
Вишь, примолк, приуныл,
но слезы не видать,
Знать, мужик весь в отца,
хоть и малого росту,
Следом едет в края,
куда выслана мать…
А печальный обоз
с болью, горечью слёзною
Между тем растянулся.
Коровы бредут,
Плачут дети, что с матерью
едут, болезные,
У кого нет родных,
чтоб оставить их тут.

– Вот и речка-кормилица,
рыбу ловили тут,
Помню, раз Афанасий
стерлядку поймал:
Вот ушица-то знатная,
кости как вынуты,
Точно, слаще еды
никогда не едал!
Вот и Котлас.
Невесело в городе, пасмурно,
Под ногами у лошади
сырость и грязь,
А Макариха – кладбище,
так уж назначено,
Шалаши из жердей —
век бы не было вас.

Ну, давай, Капитон,
проходи, вот и нары.
Не смотри, не смотри,
что тут два этажа,
Будем вместе внизу —
потеплее на пару,
Ведь не в жаркую пору
нас здесь сторожат.
Жерди хоть бы стесали,
смотри – осторожней,
Не поранить бы руки —
проколешь насквозь…
Да, тут будет нежарко,
прогреть невозможно:
На барак две печурки,
подбрось – не подбрось.
Да и пол-то из снега,
под снегом – болото,
Мы ведь нынче не люди,
жильё – как скоту…
А бурёнку увёл
за верёвочку кто-то,
Помолись за неё —
за её доброту.
И лошадку забрали,
а взял жеребёнком,
Малышом Афанасий,
ходил, как хмельной,
И возился без сроку,
как с малым ребёнком,
И мечтал с ним работать
на пашне весной…

Серафима нелёгкие думы
сплетала,
Неотвязно девчонки
стояли в глазах,
А сама одеялом
постель застилала,
Что с собой удосужилась
взять впопыхах.
А барак наполнялся:
тут бабы с мужьями…
И малые дети —
как много детей!..
А старух-то зачем
пригонять с батожьями?[4]
Уж какой вред, спроси,
от соседки моей?..
Стонет, крутится,
кости болят, знать, к погоде,
Всё никак не уляжется —
тут ведь не печь…
И ребёнок всё плачет,
как Ирушка вроде…
Как хотелось мне девкам
наливок[5] испечь!
Со сметанкой, с картошкой —
уж то объеденье:
Сверху корочка, с маслом —
язык б проглотил!..
Да с зимы привязалося
к нам невезенье,
Афанасий-то, бедный,
вот муки хватил,
Как коров отбирали
и гнали овечек,
Как описывать к нам
приходили тряпьё…
Всё, трудом нажитое,
продали с крылечек,
Мы остались в чём были, —
осталось старьё…
Нет от думы спасенья,
и сон убегает,
Ночь уже на исходе,
а баба не спит,
То молитву Спасителю
молча читает,
То о горестях с мужем
в слезах говорит…
А назавтра наряд —
на лесные делянки,
Повезли под конвоем
всех баб и детей
Лес валить для бараков,
таскать на полянку —
Много нужно стране
нынче трудлагерей!
Нужно строить посёлки
для спецпоселенцев[6],
Так кулацкие корни
рубили сплеча,
Кулаки в отдалённых местах,
как туземцы,
Жизнь с азов начинали,
кляня палача…
А пока пересылка
людей уносила:
Умирали детишки
от всяких мытарств,
Умирали и взрослые,
многих скосила
Смерть. Привольно ей было
косить без лекарств.
Хоронили умерших
в большущих могилах,
Плотно клали,
чтоб места поменьше занять,
Без одежды, ведь тело
навеки остыло,
А живым пригодится —
тут дрожь не унять.
– Хоть зима на исходе,
но часты морозы,
И куда-то бы нас
поскорей увезли,
Чтоб от холода здешнего
стылой угрозы
В тёплый дом поселиться
с промёрзшей земли…
– Мама! Мама! —
кричит Капитон. —
Был отец тут,
Из тюрьмы его
«тройкой» судить привезли,
Он сказал, что теперь
будем жить по соседству,
И его в тот барак
от меня увели.
Ноги сильно натёр —
дал ему я портянки,
Да и валенки чёрные тоже отдал,
Он сказал, что закончится
суд спозаранку
И что он нас найдёт
очень скоро, сказал.
Серафимины ноги
её не держали,
Уж сидела на нарах,
а слёзы лились,
Счастье с горем
в предчувствии встречи
смешались,
И в молитву с надеждой
слова облеклись.
– Вот уж стало темнеть —
не идёт отчего-то?
Капитон, ты сходи-ка
и всё разузнай,
Может, их увезли
прямиком на работу?
Ведь у них нет стыда,
да и жалости, знай.
Капитон подбирался к суду
осторожно,
Чрез пути прошмыгнул,
подошёл стороной
И спросил у охранника
с сердцем тревожным,
Где отец может быть
этой поздней порой.
– Опоздал! – тот, зевнув,
отвернулся от парня. —
Всех уже расстреляли,
в могиле отец.
– Да и ты покрутись тут, —
вмешался напарник, —
Так тебе тоже быстро
наступит конец…
«Боже мой! Как он матери
скажет такое?!
Ведь не выдержит:
сердце ослабло совсем…»
Нет! Не знать уж тебе,
Серафима, покоя:
В этой жизни случилось
пожертвовать всем!
Потеряла и дом, и детей,
и кормильца,
Всё как есть потеряла.
Поругана честь…
Афанасий, чего же ты
в жизни добился,
Хоть трудов твоих праведных
было не счесть?
Ты молчишь.
И никто никогда не узнает,
Как до самой последней
минуты своей
Всё не верил,
что яму себе он копает
И уже никогда
не увидит детей.
Что он сделал?
Кого обокрал иль обидел?..
Так за что? – вот извечный
и страшный вопрос.
И не мог он
в далёком тридцатом увидеть,
Сколько будет проклятий
в бессилии слёз…
Наступила весна —
потекли нечистоты,
Вонь вокруг шалашей,
грязь, и сырость, и смрад.
Люди падали в обморок,
мучились рвотой —
Пересылка весной
превратилась вдруг в ад…
Наконец тот приказ:
с пересылки – в Печору,
И посёлок Усть-Воя —
конечный маршрут;
И на баржах людей,
как в какую-то прорву,
В ненасытное брюхо,
как стадо, везут…
– Капитон, как же ты
без копейки и хлеба?
Горемычный, один,
разлучённый со мной?
Отпустили в деревню,
а тут перемены,
И с тобой разминулась я
горькой судьбой…
И не знала она,
что придётся скитаться
И людей избегать
её сыну в лесах,
Что опять Катерина
(с ней век не сквитаться!)
Помогла ему выжить
в родимых местах.
Что отныне в далёком краю
год за годом
Жизнь придётся ей строить
вдали от детей,
Только в тридцать седьмом
на речном пароходе
Привезёт Капитон
к ней её дочерей.

Мать руками всплеснёт:
«Ира, Маша, Тамара!
Как вы выросли! Господи!
Как вы и с кем?»
И стоит Капитон
в стороне у амбара —
Сын, не узнанный матерью,
взрослый совсем…
А Макариха кладбищем
станет уж подлинным,
И теперь там хоронят
уме́рших и чтят…
А над теми могилами
только лишь холмики —
Одинокий, забытый
и горестный ряд.
1992
