Лишь в начале
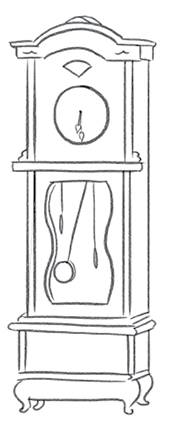
По-моему, история Артура Лишь не так уж плоха.
Посмотрите на него: чинно восседает на островном диване посреди вестибюля отеля в синем костюме и белой рубашке, нога закинута на ногу, на мыске болтается полированный лофер. Поза молодого человека. Его тонкая тень и впрямь весьма моложава, но сам он в свои без малого пятьдесят подобен бронзовой статуе в парке, которая, не считая одной затертой школьниками коленки, эстетично поблекла и сливается с пейзажем. Так и Артур Лишь, некогда цветущий юностью, с годами выцвел, совсем как плюшевая обивка дивана, на котором он сидит, постукивая пальцем по колену и буравя взглядом высокие напольные часы. Профиль патриция с длинным носом, который неизменно обгорает (даже в пасмурный октябрьский день в Нью-Йорке). Потускнелые светлые волосы, слишком длинные на макушке и чересчур короткие по бокам, – копия дедушки. Те же водянистые голубые глаза. Прислушайтесь: быть может, вы услышите, как бьется, бьется, бьется его сердце, пока он буравит взглядом часы, которые сами в последний раз били пятнадцать лет назад. Дело в том, что они неисправны. Но Артур Лишь об этом не подозревает; во цвете лет он все еще верит, что участников литературных мероприятий забирают вовремя, а в вестибюлях исправно заводят часы. Наручных часов у него нет, ибо вера его крепка. То обстоятельство, что часы показывают половину седьмого – время, когда за ним должны зайти, – простое совпадение. Бедолага не знает, что на самом деле уже без четверти семь.
Пока он ждет, по вестибюлю кружит и кружит молоденькая женщина в коричневом шерстяном платье – твидовая колибри, опыляющая то одну группу туристов, то другую. Зависнет над креслами, спросит кое о чем и с досадой упорхнет. Лишь не замечает, как она описывает круги. Все его внимание обращено на неисправные часы. Женщина подходит к администратору, затем к лифту, вызывая небольшой переполох в стайке разодевшихся в театр дам. Туда-сюда болтается лофер на ноге Артура Лишь. Будь он повнимательней, то услышал бы ее настойчивые расспросы и понял, почему подошли ко всем, кроме него:
– Извините, вы случайно не мисс Артур?
Проблема в том (и в этих стенах ее уже не решат), что сопровождающая уверена, будто Артур Лишь – женщина.
В ее защиту надо сказать, что она прочитала только один его роман, и тот – в электронной версии, не снабженной фотографией автора, и решила, что такую убедительную рассказчицу могла создать только женщина; имя на обложке она списала на американские гендерные причуды (сама она японка). Редкий рецензент расточал бы перед Артуром Лишь такие похвалы. Впрочем, толку от них маловато, потому что без десяти семь он все еще сидит на островном диване, в центре которого на тумбе высится горшок с пальмой.
Артур Лишь в Нью-Йорке уже три дня; он прилетел сюда, чтобы взять интервью у знаменитого фантаста Х. Х. Х. Мандерна на презентации нового романа Х. Х. Х. Мандерна, где тот возвращается к своему легендарному герою а-ля Шерлок Холмс – роботу Пибоди. Для книжного мира это сенсация, и за кулисами слышно только одно: деньги-деньги-деньги. Деньги – в голосе на том конце провода, спросившем, знаком ли мистер Лишь с творчеством Х. Х. Х. Мандерна и не желает ли взять у него интервью. Деньги – в сообщениях от агента, перечислившего темы, на которые Х. Х. Х. Мандерн наложил строжайшее табу (жена, дочка, растоптанный критиками сборник стихов). Деньги – в выборе площадки, в развешанных по всему Виллиджу[2] рекламных плакатах. Деньги – в надувном Пибоди, беснующемся на ветру при входе в театр. Деньги – даже в отеле, куда поселили Артура, с блюдом бесплатных яблок в вестибюле, берите в любое время, хоть ночью, не стоит благодарности, «комплимент» от заведения. В мире, где большинство читает по книге в год, немалые деньги идут на то, чтобы подвести читателя к нужной полке, и без блестящей презентации тут никак. Поэтому сегодня вся надежда на Артура Лишь.
А он добросовестно созерцает неисправные часы. И не видит, что сопровождающая грустно стоит в двух шагах от него. Не видит, как она поправляет шарф, пересекает вестибюль и исчезает в стиральной машине вращающихся дверей. Посмотрите на проплешину, намечающуюся у него на макушке, на быстро моргающие глаза. Посмотрите на его мальчишескую веру.
Как-то раз, когда ему еще не было тридцати, одна поэтесса, с которой он беседовал, затушила сигарету в цветочном горшке и сказала: «Ты будто ходишь без кожи». Это сказала поэтесса. Человек, который зарабатывает на жизнь, прилюдно сдирая с себя шкуру, сказал ему, высокому, юному и полному надежд Артуру Лишь, что он ходит без кожи. Однако это чистая правда. «Тебе нужно отрастить когти», – говаривал в былые времена его давний соперник Карлос. Но Лишь не понимал, что это означает. Стать сволочью? Нет, защититься от внешнего мира, облачиться в броню. Но разве когти можно «отрастить»? Скорее они, как чувство юмора, одним даны, а другим – нет. Или надо делать вид, что они у тебя есть, подобно бизнесмену, который произвел на вечеринке фурор и, пока не иссяк запас заученных шуток, торопится домой?
Так или иначе, когти Лишь не отрастил. К сорока годам ему удалось обрести лишь хрупкое самоощущение сродни прозрачному покрову мягкопанцирного краба. Посредственная рецензия или небрежно оброненная издевка его уже не заденет, но любовные страдания, настоящие любовные страдания, пронзят его тонкий карапакс, и выступит самая обычная красная кровь. Почему в зрелые годы столько всего надоедает: философия, радикализм и прочий фаст-фуд – а любовные страдания все так же нестерпимы? Возможно, потому что он находит для них свежие поводы. Ему даже старые глупые страхи побороть не удалось: перед телефонными звонками (видели бы вы, как судорожно он набирает номер, будто бомбу обезвреживает), перед поездками в такси (как неуклюже передает чаевые и выскакивает из машины, точно освобожденный заложник), перед красавчиками и знаменитостями на вечеринках (как полвечера собирается с духом, а потом обнаруживает, что человек уже ушел). Эти страхи никуда не исчезли, но время помогло их обойти. Электронная почта и эсэмэс спасли его от телефонных звонков. В такси появились терминалы для оплаты кредитной картой. Упущенный шанс может связаться с тобой онлайн. Но любовные страдания – их не избежать, разве что вовсе отречься от любви. Иного выхода Артур Лишь не нашел.
Быть может, это объясняет, почему он провел девять лет в компании одного молодого человека.
Я не упомянул, что на коленях у него шлем от российского космического скафандра.
Но вот ему улыбнулась удача. Из мира за стенами вестибюля раздается бой: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь – и Артур Лишь вскакивает с места. Посмотрите на него: глазеет на коварные напольные часы, а потом несется к стойке администратора и – наконец-то – задает главный, темпоральный, вопрос.
– Не понимаю, как вы могли подумать, что я женщина.
– Вы такой талантливый писатель, мистер Лишь. Вы меня провели! А что это у вас в руках?
– Это? В книжной лавке меня попросили…
– Знаете, я в восторге от «Темной материи». Там есть одно место, оно напомнило мне Кавабату.
– Один из моих любимых авторов! «Старая столица». Киото.
– Я сама из Киото, мистер Лишь.
– Серьезно? Я буду там через пару месяцев.
– Мистер Лишь, у нас проблема.
Эта беседа разворачивается, пока женщина в шерстяном коричневом платье ведет его по коридору театра. Повсюду голые кирпичные стены, выкрашенные блестящей черной краской. Из декора – лишь одинокое бутафорское деревце, за какими прячутся герои комедий. Всю дорогу от отеля они бежали, и он так вспотел, что его накрахмаленная белая рубашка превратилась в недоразумение.
Почему он? Почему пригласили именно Артура Лишь? Мелкого романиста, известного лишь тем, что в юности он вращался в кругу писателей и художников школы Русской реки[3], слишком старого, чтобы считаться свежим, но недостаточно старого, чтобы его заново открыли. Чьи соседи в самолете в глаза не видели его книг. Лишь знает почему. Догадаться нетрудно. Был произведен расчет: какой писатель согласится задаром подготовиться к интервью? Нужен был кто-то вконец отчаявшийся. Сколько его знакомых ответили: «Даже не рассчитывайте»? Скольких авторов перебрали, прежде чем кто-то вспомнил: «Как насчет Артура Лишь?»
Он и правда вконец отчаялся.
За стеной публика что-то скандирует. Должно быть, «Х. Х. Х. Мандерн». Весь месяц Лишь тайком зачитывался его романами. Эти космические оперетки сперва ужаснули его откровенно шаблонными персонажами и корявым языком, а потом покорили изобретательским гением, до которого ему явно далеко. На фоне ярких созвездий, рождающихся в воображении этого человека, новый роман Лишь, серьезное исследование человеческой души, выглядит малой планетой. И все же о чем его спрашивать? Писателей всегда спрашивают об одном и том же: «Как?» И ответ, как хорошо известно Лишь, очевиден: «Чтоб я знал!»
Его спутница щебечет о вместимости зрительного зала, о предзаказах, о промотуре, о деньгах, деньгах, деньгах. Она упоминает, что у Х. Х. Х. Мандерна, похоже, пищевое отравление.
– Сами увидите, – говорит она, открывая черную дверь. На раскладном столике посреди чистой, ярко освещенной комнаты веером разложены мясные нарезки. Рядом стоит седая дама в шалях, а чуть ниже: Х. Х. Х. Мандерна выворачивает в ведро.
Дама поворачивается к Артуру, взгляд ее падает на шлем.
– А это еще кто такой?
Нью-Йорк: первая остановка в кругосветном путешествии. Лишь ничего такого не планировал, просто пытался найти выход из щекотливого положения. И очень гордится, что ему это удалось. На свадьбу он не идет.
Вот уже пятнадцать лет Артур Лишь – холостяк. До этого он долгое время жил с мужчиной постарше, поэтом Робертом Браунберном. Нырнул он в этот туннель любви в двадцать один год, а когда вынырнул, щурясь на солнце, ему уже было за тридцать. Куда он попал? К этому времени первая ступень его молодости, подобно ступени ракеты, отделилась и сгорела. Осталась вторая. И последняя. Он поклялся, что никому ее не отдаст; он будет ее смаковать. Смаковать в одиночестве. Но: как жить в одиночестве, чтобы тебе не было одиноко? Ответ подсказал не кто иной, как его давний соперник: Карлос.
Когда его спрашивают о Карлосе, Лишь всегда называет его своим «старинным другом». Их первая встреча датируется легко: День поминовения, восемьдесят седьмой год. Лишь даже помнит, какого цвета на них были плавки: на нем салатовые, на Карлосе канареечные. Стоят в разных концах открытой террасы, сверлят друг друга взглядами, в руках, точно обнаженные пистолеты, винные шпритцеры. Играет музыка, Уитни Хьюстон хочет с кем-то потанцевать. Между ними залегла тень секвойи. С кем-то, кто бы ее любил.
Вот бы машину времени и видеокамеру! Запечатлеть тоненького золотисто-розоватого Артура Лишь и крепкого шоколадного Карлоса Пелу в годы их юности, когда ваш рассказчик был еще ребенком! Впрочем, кому она нужна, эта камера? Каждый из них и так, вероятно, проигрывает эту сцену в голове, едва заслышав имя другого. День труда, шпритцер, секвойя, кто-то там. И каждый с улыбкой говорит, что это его «старинный друг». Хотя, конечно же, они невзлюбили друг друга с первого взгляда.
Давайте все-таки воспользуемся машиной времени, но переместимся на двадцать лет вперед. Давайте отправимся в Сан-Франциско середины нулевых, в дом на холме на Сатурн-стрит. Это такая коробочка на столбах с панорамными окнами во всю стену, за которыми виднеются никогда не используемый рояль и преимущественно мужской контингент, отмечающий одно из дюжины сорокалетий, выпавших на этот год. Среди гостей: потучневший Карлос, создавший из нескольких земельных участков, унаследованных от спутника жизни, целую империю с активами во Вьетнаме, Таиланде и даже, как слышал Лишь, с каким-то нелепым отелем в Индии. Карлос: все тот же горделивый профиль, но от мускулистого юноши в канареечных плавках – ни следа. От Вулкан-степс, где Артур Лишь с недавних пор жил один, до Сатурн-стрит рукой подать. Вечеринка; почему бы и нет? Он надел типичный лишьнианский костюм – джинсы с ковбойской рубахой, самую малость не к месту – и направил свои стопы на юг, вдоль склона холма.
А теперь представьте Карлоса, как он восседает в плетеном кресле «Павлин» и правит бал. А рядом – двадцатипятилетнего юношу в черных джинсах, футболке и очках в черепаховой оправе: это его сын.
«Мой сын», – помнится, говорил всем Карлос, когда парень, тогда еще совсем ребенок, появился в его доме. Но он не был Карлосу сыном – он был осиротевшим племянником, которого сослали к ближайшему родственнику в Сан-Франциско. Как бы его описать? Большие глаза, каштановые волосы с выгоревшими прядками, воинственный вид. В детстве он отказывался есть овощи, а Карлоса называл только по имени. Его звали Федерико (мать мексиканка), но для всех он был просто Фредди.
Фредди подошел к окну и окинул взглядом город, по которому ластиком прошелся туман. Теперь овощи он ел, но к приемному отцу до сих пор обращался по имени. Джинсы с футболкой подчеркивали его болезненную худобу и впалую грудь, и пусть юношеской резвости ему не хватало, зато страстей было хоть отбавляй; можно было откинуться на спинку кресла с ведерком попкорна и наблюдать, как драмы и комедии его души проецируются на его лице, а стекла очков в черепаховой оправе переливаются мыслями, подобно мембранам мыльных пузырей.
Услышав свое имя, Фредди обернулся; с ним заговорила женщина в белом шелковом костюме, янтарных бусах и с непринужденной манерой Дайаны Росс[4]:
– Фредди, зайчик, я слышала, ты вернулся в школу.
Какая у него специальность, мягко спросила она.
Гордая улыбка:
– Учитель английского и литературы в старших классах.
Она просияла.
– Боже, как приятно это слышать! Молодежь совсем не идет в учителя.
– Просто мне неинтересно со сверстниками.
Она вынула оливку из бокала мартини.
– От этого пострадает твоя личная жизнь.
– Пожалуй. Но у меня ее и так, считай, нет, – сказал Фредди и жадным глотком прикончил шампанское.
– Нам просто надо найти тебе подходящего мужчину. Знаешь, мой сын Том…
Откуда-то сзади:
– Он вообще-то поэт! – Появляется Карлос с покачивающимся бокалом белого вина.
Женщина (правила диктуют, чтобы ее представили: Кэролайн Деннис, работает в области программного обеспечения; Фредди будет с ней на короткой ноге) взвизгнула.
Фредди опасливо посмотрел на нее и смущенно улыбнулся.
– Поэт из меня ужасный. Это я в детстве хотел стать поэтом, вот Карлос и припомнил.
– В детстве – то есть в прошлом году, – улыбнулся Карлос.
Фредди умолк; его темные кудри покачивались от турбулентности у него в голове.
Миссис Деннис мишурно рассмеялась. Сказала, что обожает поэзию. Всегда любила Буковски и «всю эту братию».
– Вам нравится Буковски? – переспросил Фредди.
– О нет, – сказал Карлос.
– Простите, Кэролайн, но, по-моему, он еще хуже, чем я.
У миссис Деннис шея пошла красными пятнами, и Карлос поспешил показать ей картину художника, дружившего со школой Русской реки. Фредди, у которого даже плоды светской беседы вставали поперек горла, умчался к бару за новым бокалом шампанского.
Снаружи, у входа, у одной из тех низких стен с белой дверкой, за которыми прячется сползающий по склону дом, стоит Артур Лишь – и что же скажут люди? «Ой, выглядишь отлично. Слышал о вас с Робертом. За кем остался дом?»
Мог ли он знать, что за этой дверью его поджидают девять лет?
– Привет, Артур! Что это на тебе?
– Карлос.
Двадцать лет прошло, и все же в тот день, в той комнате: старые соперники снова на ножах.
Рядом с Карлосом: кудрявый очкастый юноша, вытянулся в струнку.
– Артур, помнишь моего сына, Фредди?
Все сложилось само собой. Жить у Карлоса было невыносимо, и время от времени, по пятницам – после долгого дня в школе и похода в бар с университетскими друзьями на «счастливые часы» – Фредди объявлялся у него на крыльце, поддатый и готовый на все выходные зарыться в постель. На следующий день Лишь приводил Фредди в чувство с помощью кофе и старого кино, а в понедельник утром выставлял за порог. На первых порах это случалось примерно раз в месяц, а потом переросло в привычку, и вот однажды, в пятницу вечером, так и не дождавшись звонка в дверь, Лишь поймал себя на том, что расстроился. Как же это странно – проснуться в тепле белых простыней, в лучах солнца, проникших через увитое плющом окно, и почувствовать, что чего-то не хватает. При встрече он сказал Фредди, что не стоит так много пить. И декламировать такие кошмарные стихи. А вот ключи от его дома. Фредди ничего не ответил, но ключи положил в карман и пользовался ими, когда хотел (и так и не вернул).
Сторонний наблюдатель сказал бы: «Все это прекрасно, главное не влюбляться». Их бы это рассмешило. Фредди Пелу и Артур Лишь?
Фредди интересовался любовью так же мало, как и следует молодому человеку; у него были книжки, у него была работа в школе, у него были друзья, у него была холостяцкая жизнь. Старый, удобный Артур вопросов не задавал. К тому же Фредди подозревал, что Карлос в ярости оттого, что приемный сын спит с его заклятым врагом, а Фредди еще не вышел из того возраста, когда издевательства над родителями приносят удовольствие. Ему и в голову не приходило, что Карлос, может быть, только рад сбыть его с рук. Что до Лишь, Фредди вообще был не в его вкусе. Артур Лишь всегда влюблялся в мужчин постарше; вот их надо остерегаться. А какой-то мальчишка, который даже не может назвать битлов? Способ отвлечься; невинная забава; хобби.
Разумеется, в те годы, что они с Фредди встречались, у Лишь были и другие, более серьезные отношения. Был преподаватель истории из Дейвиса[5], который проделывал двухчасовой путь, чтобы заехать за Лишь и свозить его в театр. Лысый, с рыжей бородой, искорками в глазах и искрометным юмором; было приятно, до поры до времени, побыть взрослым вместе с другим взрослым, разделить с кем-то жизненный этап – сорок с небольшим – и вместе подшучивать над их общим страхом перед полтинником. Однажды Лишь оглянулся на профиль Говарда, освещенный огнями сцены, и подумал: «Вот хороший спутник жизни, вот хороший вариант». Смог бы он полюбить Говарда? Вполне возможно. Но секс был неуклюжим, слишком много конкретики («Ущипни там, хорошо, теперь потрогай тут; нет, выше; нет, выше; нет, ВЫШЕ!»), точно на кастинге в кордебалет. Впрочем, Говард был милый и хорошо готовил; приносил свои ингредиенты и варил такие острые щи из квашеной капусты, что от них слегка уносило. Он любил держать Лишь за руку и часто ему улыбался. Поэтому Лишь подождал полгода, посмотреть, не улучшится ли секс, но секс не улучшился, и он решил ничего об этом не говорить, так что, думаю, он все-таки знал, что это не любовь.
Были и другие; много, очень много. Был китайский банкир, который играл на скрипке и издавал страстные звуки в постели, но целовался так, будто видел поцелуи только в фильмах. Был колумбийский бармен с несомненным обаянием и несносным английским («Я хочу обслужить твою руку и ногу»); испанский Лишь был еще хуже. Был архитектор с Лонг-Айленда, который спал во фланелевой пижаме и ночном колпаке, как герой немого кино. Был флорист, повернутый на сексе на природе, после которого Лишь пришлось делать тест на венерические и лечить ожоги от ядовитого дуба. Были айтишники, которые считали, что Лишь обязан следить за всеми новостями техноиндустрии, но не проявляли ни малейшего интереса к литературе. Были политики, которые так к нему присматривались, будто собирались снимать мерки для костюма. Были актеры, которые примеряли его на ковровой дорожке. Были фотографы, которые подбирали для него правильное освещение. Неплохие варианты, многие из них. Выбирай не хочу. Но тому, кто уже любил, этого недостаточно; жить с «неплохим вариантом» еще хуже, чем жить одному.
Неудивительно, что Лишь снова и снова возвращался к мечтательному, простому, бойкому, начитанному, безобидному, молоденькому Фредди.
Так продолжалось девять лет. А потом, однажды осенью, все закончилось. К тому времени из двадцатипятилетнего юноши Фредди превратился в мужчину тридцати с небольшим: типичный учитель в голубой рубашке с коротким рукавом и черном галстуке. Лишь в шутку называл его «мистер Пелу» (часто поднимая при этом руку, как на уроке). Черепаховую оправу мистер Пелу сменил на красный пластик, но с кудрями не расстался. Старая одежда стала ему мала; тощий юнец оформился во взрослого мужчину с плечами, грудью и едва намечающимся животиком. По выходным он больше не карабкался пьяный к Лишь на крыльцо и не декламировал плохие стихи. Разве что один раз. Приехал после свадьбы друга, веселенький, разрумянившийся, и, хватаясь за Лишь, со смехом ввалился в прихожую. Ночью жался к нему и весь горел. А утром со вздохом объявил, что встречается с человеком, который хочет моногамных отношений. В прошлом месяце он пообещал хранить верность. Пора наконец сдержать слово.
Фредди лежал на животе, уткнувшись лицом Лишь в плечо. Колючая щетина. На прикроватном столике сквозь увеличительные стекла его очков виднелись запонки. Лишь спросил:
– Он обо мне знает?
Фредди приподнял голову.
– Что знает?
– Это. – Лишь обвел рукой их голые тела.
Фредди посмотрел ему в глаза.
– Мне нельзя сюда больше приходить.
– Я понимаю.
– Не то чтобы я не хотел. Нам с тобой было весело. Но ты же понимаешь.
– Я понимаю.
Фредди собирался что-то прибавить, но передумал. Молча смотрел на Лишь с видом человека, пытающегося запомнить фотографию. Что он видел? Отвернувшись, он потянулся за очками.
– Поцелуй меня на прощание.
– Мистер Пелу, – сказал Лишь. – Мы же на самом деле не прощаемся.
Фредди надел очки в красной оправе, и в каждом иллюминаторе мелькнуло по голубой рыбке.
– Хочешь, чтобы я навсегда тут с тобой остался?
Сквозь заросли плюща пробилось солнце, начертило на голой ноге шахматный узор.
Лишь посмотрел на своего любовника, и, возможно, перед глазами у него пронеслись кадры из прошлого: смокинг, номер в парижском отеле, вечеринка на крыше – а может, его ослепили паника и боль утраты. Мозг что-то телеграфировал, но Лишь не обращал внимания. Он наклонился к Фредди и поцеловал его долгим поцелуем. А затем сказал:
– Ты брал мой одеколон, я же чувствую.
Диоптрии, прежде умножавшие решимость молодого человека, теперь увеличивали и без того огромные зрачки. Его глаза блуждали туда-сюда, как по странице, по лицу Артура Лишь. Наконец он через силу улыбнулся.
– И это, по-твоему, прощальный поцелуй? – спросил он.
Пару месяцев спустя в почте: приглашение на свадьбу. «Будем рады видеть вас на церемонии бракосочетания Федерико Пелу и Томаса Денниса». До чего неловко. Ни при каких обстоятельствах не должен он принимать приглашение, ведь все знают, что Фредди – его бывший paramour[6]; и если смешки и приподнятые брови его никогда не смущали, то улыбку на лице Карлоса – улыбку жалости – он просто не вынесет. Они с Карлосом уже столкнулись на одном благотворительном вечере в канун Рождества (декор из сосновых ветвей так и кричал: «Огнеопасно!»). Карлос отвел его в сторонку и поблагодарил за то, что он так милостиво отпустил Фредди: «Ты же знаешь, Артур, мой сын тебе не пара».
Однако просто так отказаться было невозможно. Сидеть дома, пока вся честная компания пропивает в Сономе Карлосовы деньги? Не меньший повод для насмешек. Бедный юный Артур Лишь стал бедным старым Артуром Лишь. В ход пойдут запылившиеся истории, в которых он выставил себя дураком, а потом и свежие байки, еще не опробованные. Сама мысль об этом была невыносима; ни при каких обстоятельствах не должен он отказываться. Коварная, коварная жизнь!
Вместе с приглашением на свадьбу пришло вежливое напоминание о другом приглашении: за сомнительную плату преподавать в сомнительном берлинском университете. Времени на размышления оставалось мало. Лишь сидел за письменным столом, разглядывая письмо; у ретивого жеребца на логотипе, похоже, была эрекция. С улицы доносились песни молотков в руках кровельщиков и запах смолы. Он достал из ящика стола другие письма, другие приглашения без ответа; в недрах компьютера хранились третьи; под листочками с телефонными сообщениями были погребены четвертые. Лишь сидел и раздумывал над ними под грохот стройки и ответное дребезжание оконных стекол. Работа в университете, конференция, путевой очерк, резиденция для писателей и так далее. Как в сицилийских монастырях раз в год поднимается занавес, чтобы родня затворниц могла на них посмотреть, так и в голове Лишь приоткрылась завеса над одной идеей.
«К сожалению, – написал он, – я буду за границей. Мои наилучшие пожелания Фредди и Тому».
Он примет их все.
До чего хаотичный вышел маршрут!
Первое: уже упомянутое интервью с Х. Х. Х. Мандерном. Шанс бесплатно слетать в Нью-Йорк и два дня гулять по городу, пылающему осенними красками. И как минимум один бесплатный ужин (бальзам для писателя): с агентом, у которого наверняка будут новости от издателя. Издатель уже больше месяца сожительствовал с рукописью его последнего романа – так поступают все современные пары, – и со дня на день можно было ожидать предложения. Будет шампанское; будет аванс.
Второе: конференция в Мехико. Именно таких мероприятий Лишь избегал годами: симпозиумов по творчеству Роберта. Их отношения закончились пятнадцать лет назад, но когда Роберт заболел и прекратил путешествовать, на литературные фестивали стали приглашать Лишь. Не как полноправного романиста, а скорее как очевидца. Как вдову героя Гражданской войны, сказал бы он сам. Людям хочется в последний раз соприкоснуться, пусть даже через посредника, со знаменитой школой Русской реки, богемным миром семидесятых, давно канувшим в прошлое. Раньше Лишь неизменно отказывался. Не потому, что боялся подмочить репутацию – это невозможно, ибо у него такой низкий статус, что иногда он кажется себе подземным существом, – а потому, что не хотел паразитировать на чужой славе, рассказывая о мире, к которому на самом деле не принадлежал. Но на этот раз даже попаразитировать не удастся, потому что денег предлагают вдвое меньше, чем раньше. Зато будет чем занять пять дней между Нью-Йорком и церемонией награждения в Турине.
Третье: Турин. Лишь настроен скептически. Одну его книгу, недавно вышедшую в итальянском переводе, якобы номинировали на prestigioso prix[7]. Но которую? Наконец, не без труда, он выяснил: «Темную материю». Прилив нежности и сожалений, как при виде имени бывшего возлюбленного в списке пассажиров твоего круизного корабля. «Да, мы с радостью оплатим перелет из Мехико в Турин; шофер встретит вас в аэропорту» – таких гламурных предложений Лишь еще не получал. Он гадает, кто финансирует эти европейские излишества, заключает, что наверняка не обошлось без отмывания денег, а потом замечает внизу листа название итальянского мыльного конгломерата. Вот вам и отмывание. Зато бесплатно доставят в Европу.
Четвертое: Wintersitzung[8] в Берлинском автономном университете – пятинедельный курс «на тему, выбранную мистером Лишь». Письмо написано по-немецки; в университете уверены, что Артур Лишь бегло говорит на этом языке; издатель Артура Лишь, порекомендовавший его туда, разделяет эту уверенность. Как и сам Артур Лишь. «С благословением Божьим, – пишет он, – я взойду на пьедестал власти». И, зардевшись от удовольствия, отправляет ответ.
Пятое: путешествие по Марокко, единственный каприз, который позволил себе Лишь. Он станет гостем на дне рождения одной женщины по имени Зора. Это она спланировала экспедицию из Марракеша в Сахару и оттуда на север в город Фес. Его друг Льюис настаивал: у них есть свободная путевка – просто идеально! Возлияния будут обильными, общество – блистательным, сервис – роскошным. Разве можно от такого отказаться? Причина всегда одна: деньги, деньги, деньги. Льюис назвал цену, все включено, и, хотя сумма была баснословной (Лишь дважды уточнил, в долларах это или в дирхамах), он, как обычно, уже без памяти влюбился. В ушах у него уже играла бедуинская музыка; верблюды уже ревели во тьме; он уже поднимался с расшитых подушек и с бокалом шампанского брел навстречу ночной пустыне, чтобы погреть босые ноги в бархатистых песках Сахары и полюбоваться праздничным салютом Млечного Пути.
Ибо где-то посреди Сахары Артуру Лишь исполнится пятьдесят.
Он поклялся, что не будет один. В минуты отчаяния его до сих пор преследуют воспоминания, как он блуждал по проспектам Лас-Вегаса в день своего сорокалетия. Он не будет один.
Шестое: Индия. Кто подкинул эту странную идею? Как ни парадоксально, это был Карлос. На той рождественской вечеринке Карлос сначала отбрил его («Мой сын тебе не пара»), а потом приободрил («Знаешь, недалеко от моего отеля есть одна база отдыха, знакомые открыли, красивое место, на холме, с видом на Аравийское море; для писателя лучше варианта не найти»). Индия: возможно, там он наконец обретет покой; возможно, там он отшлифует рукопись, ту самую, за которую они с агентом поднимут бокалы в Нью-Йорке. Когда, говорите, в Индии сезон дождей?
И наконец: Япония. Билеты достались ему на вечере покера для писателей, хоть и непонятно, как его туда занесло. Разумеется, там были одни гетеросексуалы. Лишь был неопытным игроком, и его не спас даже зеленый козырек; в первом раунде он проиграл каждую раздачу. Но дух его не был сломлен. На третьем раунде – когда сигаретный дым, хмыканье и теплое ямайское пиво стали невыносимы – один писатель оторвался от карт и сказал, что жену достали его разъезды, ему придется остаться дома и отказаться от статьи, и не хочет ли кто-нибудь поехать вместо него в Киото? «Я хочу!» – взвизгнул Лишь. Все игроки разом обратили к нему свои покерфейсы, и он вспомнил, как смотрела на него футбольная команда, когда он вызвался играть в школьной пьесе. Он откашлялся и понизил голос: «Я хочу». Обзор традиционной кухни кайсэки для бортового журнала одной авиалинии. Он надеется, что к его приезду успеет расцвести сакура.
Оттуда он вернется в Сан-Франциско в дом на Вулкан-степс. Почти все расходы взяли на себя организаторы фестивалей, конкурсные комитеты, университеты, арт-резиденции и медиаконгломераты. Остальное покроют баллы за перелеты, которые копились десятилетиями и, как по волшебству, выросли в целое цифровое состояние. Внеся предоплату за марокканское безумие, он обнаружил, что его накоплений как раз хватит на все необходимое, если подойти к делу с пуританской бережливостью, которую проповедовала его мать. Никаких походов по бутикам. Никаких ночных гулянок. И не приведи господь угодить в больницу. Впрочем, что может пойти не так?
Артур Лишь облетит земной шар! Предприятие поистине космического размаха. Утром перед отъездом из Сан-Франциско, за два дня до интервью с Х. Х. Х. Мандерном, Артур Лишь осознал, что возвращаться будет не с востока, как это было всю его жизнь, а с таинственного запада. И во время этой одиссеи он точно не будет думать о Фредди Пелу.
В Нью-Йорке живет восемь миллионов человек; из них примерно семь миллионов возмутятся, что вы были в городе и не позвали их в дорогой ресторан, пять миллионов – что не заглянули посмотреть на прибавление в семье, три миллиона – что не сходили на их новое шоу, а один миллион – что не переспали с ними, при этом встретиться с вами смогли бы лишь пятеро. Самое разумное, что вы можете сделать, – это не звонить никому. Вместо этого лучше сбежать на кошмарное приторное бродвейское шоу за двести долларов, заранее зная, что никому не признаетесь, сколько выложили за билет. Так Лишь и поступает в первый вечер в Нью-Йорке, компенсируя расточительство ужином из хот-дога. Кто-то скажет, что он потакает своим слабостям, но вот гаснет свет, и поднимается занавес, и бьется в такт оркестру юношеское сердечко, и ничего дурного в этом нет. Уж точно не для него; он только сладко поеживается, зная, что здесь его никто не осудит. Мюзикл плохой, но, подобно плохому любовнику, вполне способен выполнить то, что от него требуется. Под конец Артур Лишь сидит в своем кресле и тихонько всхлипывает – во всяком случае, ему кажется, что тихонько, но когда зажигают свет, соседка поворачивается к нему и говорит: «Милый, не знаю, что у тебя в жизни произошло, но я очень, очень тебе сочувствую», а потом заключает в объятия с ароматом сирени. «Ничего у меня не произошло, – хочет ответить он. – Ничего у меня не произошло. Я просто гомосексуал на бродвейском шоу».
Наутро: кофемашина в его номере – голодный моллюск, разевающий пасть навстречу капсулам, а взамен выделяющий кофе. Инструкции по уходу и кормлению предельно просты, однако в первый раз машина выдает лишь пар, а во второй – расплавленные останки капсулы. С губ Артура Лишь срывается вздох.
Стоит осеннее нью-йоркское утро, дивное по определению; пошел первый день его странствий, завтра интервью; вещи пока что чистые и опрятные, носки сложены по парам, синий костюм не успел помяться, зубная паста все еще американская, а не иноземная с каким-нибудь непривычным вкусом. Отражаясь от небоскребов, ярко-лимонный нью-йоркский свет падает на алюминиевые фургончики с фаст-фудом, а оттуда – на самого Артура Лишь. Даже коварное торжество во взгляде дамы, не придержавшей для него двери лифта, даже хмурая девушка за прилавком кофейни, даже туристы, застывшие посреди оживленной Пятой авеню, даже настырные, неугомонные зазывалы («Мистер, вы любите комедию? Все любят комедию!»), даже зубная боль от рокота отбойных молотков по бетону – ничто не испортит этот день. Вот магазин, где продаются только молнии. А вот еще двадцать. Молниевый район. До чего дивный город!
– В чем пойдете? – спрашивает продавщица, когда Лишь на минутку заглядывает в любимую книжную лавку. Он шел сюда двадцать чудесных кварталов.
– В чем? Да в синем костюме.
Продавщица (в юбке-карандаше, свитере и очках: точь-в-точь бурлескная библиотекарша) заходится смехом. Наконец, переведя дух, с улыбкой говорит:
– Нет, ну правда, в чем?
– Не понимаю вас. Отличный костюм.
– Но это же Х. Х. Х. Мандерн! И скоро Хэллоуин! Я вот нашла насовский скафандр. А Дженис будет марсианской королевой.
– Он вроде хочет, чтобы его воспринимали всерьез.
– Но это же Х. Х. Х. Мандерн! Хэллоуин! Сам бог велел принарядиться!
Она не знает, как бережно он собирал вещи. Его чемодан забит под завязку, как машина с клоунами, и каждый предмет противоречит соседу: кашемировый свитер, но льняные штаны, термобелье, но солнцезащитный лосьон, галстук, но плавки, ленты-эспандеры и так далее. Какие туфли брать в университет и на пляж? Какие очки для североевропейского сумрака и южноазиатского солнца? Он застанет Хэллоуин, Día de los Muertos, Festa di San Martino, Nikolaustag, Рождество, Новый год, Мавлид ан-Наби, Васант-панчами и Хинамацури[9]. Одних только шляп хватит на целую витрину. И не будем забывать про костюм.
Без костюма нет и Артура Лишь. Спонтанная покупка в короткую эпоху эпикурейства тремя годами ранее, когда он отбросил осторожность (а также отстегнул кругленькую сумму) и полетел в Хошимин, чтобы навестить друга в командировке. В поисках кондиционера в этом влажном, наводненном мопедами городе он забрел в лавку портного и заказал костюм. Опьянев от выхлопных газов и сахарного тростника, он наспех дал указания, оставил домашний адрес и уже на следующее утро напрочь об этом позабыл. Спустя две недели в Сан-Франциско доставили посылку. В некотором недоумении он открыл ее и достал синий костюм размера «М» с подкладкой цвета фуксии и вышитыми инициалами: АПЛ. Аромат розовой воды из коробки мгновенно вызвал в памяти диктаторшу с тугим пучком, накинувшуюся на него с расспросами. Покрой, пуговицы, воротник. А главное: оттенок. Выбран на скорую руку из целой стены образцов: не просто синий. Таусинный? Лазурит? Мимо и снова мимо. Насыщенный, но не слишком темный, в меру блестящий, определенно дерзкий. Что-то среднее между ультрамарином и берлинской лазурью, Вишну и Амоном, Израилем и Грецией, логотипами «Пепси» и «Форда». Словом: яркий. Он восхищался той версией себя, которая выбрала этот цвет, и надевал костюм при каждом удобном случае. Даже Фредди одобрил: «Выглядишь как суперзвезда!» И это правда. Наконец-то на склоне лет он подобрал ключ. Он здорово выглядит и похож на себя самого. А без костюма почему-то не похож. Без костюма нет и Артура Лишь.
Но, как выяснилось, костюма недостаточно. И теперь в интервалах между намеченными ланчами и ужинами ему придется искать… Что? Мундир из «Стартрека»? По пути из книжного он забредает в район, где жил после университета, и предается воспоминаниям о былом облике Вест-Виллиджа. Теперь все исчезло: ресторан соул-кухни, где под кокосовым тортом хранился запасной ключ от его квартиры, вереница магазинов для фетишистов с прорезиненными экспонатами в витринах, от которых его всегда бросало в дрожь, лесбийские бары, которые он посещал из соображения, что там легче знакомиться с мужчинами, злачный кабачок, где один его приятель купил кокаин, а выйдя из туалета, объявил, что нюхнул толченое драже «Смартис», бары со штатными пианистами, куда наведывался «убийца из караоке», как его неточно окрестили в «Нью-Йорк пост». Все исчезло, на месте старых заведений – новые, куда симпатичнее. Красивые бутики с золотыми безделушками, милые увешанные люстрами ресторанчики, где подают только бургеры, витрины с туфлями, как на выставке. Порой кажется, что один только Артур Лишь помнит, что это была за дыра.
Откуда-то сзади:
– Артур? Артур Лишь?
Он оборачивается.
– Артур Лишь! Поверить не могу! А я только что о тебе вспоминал!
Не успев толком разобраться, кто его окликнул, Лишь тонет во фланелевых объятиях, а какой-то печальный юноша с дредами и большими глазами наблюдает за происходящим со стороны. Мужчина отпускает его и начинает говорить, какое это удивительное совпадение, а Лишь тем временем думает: «Да кто же это такой?» Веселый лысый толстячок с аккуратной седой бородкой, в клетчатой фланелевой рубашке и оранжевом шарфике улыбается ему возле вчерашнего-банка-сегодняшнего-супермаркета на Восьмой авеню. Лишь в панике представляет его в различных декорациях: пляж и голубое небо, река и высокое дерево, омар и бокал вина, наркотики и зеркальный шар, постель и восход солнца – но ничего не приходит на ум.
– Поверить не могу! – говорит мужчина, не убирая руки с его плеча. – Арло только что рассказывал про свое расставание, и я как раз говорил ему, понимаешь, тут нужно подождать. Сейчас ты безутешен, но дай себе время. Иногда на это уходят годы. И тут появляешься ты, Артур! И я показываю на тебя и говорю: «Смотри! Вот человек, разбивший мне сердце. Я думал, что никогда не оправлюсь, что никогда больше не захочу видеть его лицо и слышать его имя, и что же? Вот он идет, будто из-под земли вырос, а во мне – ни капли злобы». Сколько прошло, Артур, лет шесть? Ни капельки злобы.
Лишь стоит и разглядывает его: лицо в морщинах, как оригами, которое развернули и разгладили рукой, на лбу маленькие веснушки, от ушей к макушке тянется белый пушок, медные глаза сверкают чем угодно, только не злобой. Да кто же этот старик?
– Видишь, Арло? – говорит мужчина. – Ничего. Абсолютно никаких чувств! Рано или поздно охладеешь к любому. Может, щелкнешь нас на память?
Лишь ничего не остается, как снова обнять этого человека, этого тучного незнакомца, и улыбаться в камеру, пока тот дает юному Арло указания:
– Еще раз; нет, встань туда, руки выше; нет, выше; нет, ВЫШЕ!
– Говард, – улыбается Лишь своему бывшему. – Отлично выглядишь.
– И ты, Артур! Мы даже не сознавали, насколько были молоды, правда? Это теперь мы с тобой старики.
Лишь в ужасе пятится.
– Ну, рад был повидаться! – говорит Говард и, качая головой, повторяет: – Разве не чудесно? Артур Лишь, прямо на Восьмой авеню! Рад был повидаться, Артур! Счастливо, нам пора бежать!
Из-за промаха поцелуй в щеку запечатлевается у преподавателя истории на губах; от него пахнет ржаным хлебом. Скачок на шесть лет назад, профиль в театре, мысль: «Вот хороший спутник жизни». Он почти остался с этим человеком, почти его полюбил, а теперь даже не может узнать на улице. Либо сердце – штука капризная, либо Лишь – козел. Возможно, верно и то, и другое. Прощальный жест бедному Арло, которого вся эта история ничуть не утешила. Эти двое уже собираются перейти дорогу, как вдруг Говард останавливается, оборачивается и радостно восклицает:
– Постой-ка, вы же общаетесь с Карлосом Пелу? До чего тесен мир! Может, увидимся на свадьбе!
Артур Лишь издал свою первую книгу, когда ему было за тридцать. К тому времени он уже долгое время жил с известным поэтом Робертом Браунберном в небольшом домике – хижина, так они его прозвали – на крутой ступенчатой улице Сан-Франциско под названием Вулкан-степс. Ступени начинались на Левант-стрит и тянулись вниз среди лучистых сосен, папоротников, краснотычиночников и зарослей плюща до площадки, откуда открывался вид на центральную часть города. На крыльце их дома, подобно забытому платью выпускницы, раскинулась бугенвиллея. В «хижине» было всего четыре комнаты, и одна сразу была отведена Роберту под кабинет. Они побелили стены и развесили по дому картины Робертовых друзей (включая ту, где почти узнаваемый Лишь позирует ню на скале), а под окном спальни посадили молодой плющ. Совету Роберта насчет писательства Лишь последовал только через пять лет. Поначалу – вымученные рассказы. А потом, на исходе их совместной жизни, – роман. «Калипсо»: переложение мифа об Одиссее и Калипсо в период Второй мировой войны. Туземец с острова на юге Тихого океана выхаживает солдата, которого прибило к берегу, влюбляется в него и должен помочь ему вернуться в свой мир, домой к жене.
– Артур, эта книга… – сказал Роберт, для пущего эффекта снимая очки. – Любить тебя – великая честь.
Книга имела умеренный успех; сам Ричард Чемпион соблаговолил написать рецензию для «Нью-Йорк таймс». Роберт прочитал статью первым, сдвинув очки на лоб в помощь внутреннему взору поэта, а затем с улыбкой протянул Лишь; сказал, что отзыв положительный. Но писатель всегда почувствует ложку дегтя в бочке меда: в конце рецензии Чемпион написал, что автор – «велеречивый лютик». Лишь уставился на эти слова, как школьник на условия задачки. Эпитет «велеречивый» звучал как похвала (но явно ею не был). Но лютик? Что это вообще означает?
– Похоже на шифр, – сказал Лишь. – Он что, передает сообщение врагу?
Именно.
– Артур, – сказал Роберт, взяв его за руку. – Он просто называет тебя педиком.
Подобно тем невероятным жукам, которые годами живут в пустыне, получая влагу лишь во время дождя, каким-то чудом его роман продолжал продаваться. Он продавался в Англии, и во Франции, и в Италии. Лишь написал второй роман, «Противосияние», который не наделал шума, и третий, «Темная материя», за который в «Корморант-паблишинг» взялись основательно: выделили гигантский рекламный бюджет и отправили Лишь в полтора десятка городов. На презентации в Чикаго («Поприветствуйте велеречивого автора отмеченного критиками романа “Калипсо”…»), когда из зала послышались жидкие аплодисменты пятнадцати-двадцати человек – дурное знамение, как темные пятна на асфальте перед грозой, – в его памяти сама собой всплыла последняя встреча выпускников. Организаторы убедили его провести публичные чтения и разослали его однокашникам приглашения на «Вечер с Артуром Лишь». Еще в старших классах вечер с Артуром Лишь никого не прельщал, но он был настроен оптимистически и в среднюю школу Делмарвы[10] (среднюю во всех отношениях) прибыл с мыслями о том, каких достигнул высот. А теперь угадайте, сколько человек пришло на «Вечер с Артуром Лишь».
Вот уже много лет Лишь перебивается одними дождями в пустыне. К моменту выхода «Темной материи» они с Робертом уже расстались. Роберт перебрался в Соному, а «хижину» оставил ему (после Пулитцера ипотеку они погасили). Из кусков и лоскутков Лишь сметал на скорую руку одеяло писательской жизни: вышло оно теплым, вот только ног не закрывало.
Но его следующая книга! Она станет той самой! «Свифт», то есть «быстрый» (из тех, кто не побеждает в беге[11]). Роман-странствие о человеке, который отправился на прогулку по Сан-Франциско (и по своему прошлому), вернувшись домой после череды потрясений и неудач («Ты просто пишешь “Улисса”, только про геев», – сказал Фредди); щемящая, пронзительная история о тяжелой судьбе. О стареющем гомосексуале, оказавшемся на мели. И сегодня за ужином, разумеется, с шампанским, Лишь получит радостные известия.
У себя в номере он облачается в синий костюм (только что из прачечной) и улыбается своему отражению в зеркале.
На «Вечере с Артуром Лишь» не было ни души.
Однажды Фредди пошутил, что «любовь всей жизни» Лишь – это его агент. Да, Питер Хант близко знает Артура Лишь. На его долю выпадают все терзания, и стенания, и ликования, которых не слышит никто другой. При этом о Питере Ханте Лишь не знает почти ничего. Даже не помнит, откуда он родом. Из Миннесоты? Есть ли у него семья. Сколько у него клиентов. Обо всем этом Лишь не имеет ни малейшего понятия, но каждому звонку и сообщению радуется, как школьница. А точнее, как взрослая женщина, получившая весточку от любовника.
И вот в дверях ресторана показывается он: Питер Хант. В студенчестве Питер был звездой баскетбола, но и по сей день, когда переступает порог, все взгляды обращаются к нему. Вместо бобрика у него теперь длинные седые волосы, как у мультяшного дирижера. По дороге к столику он телепатически пожимает руки всем знакомым в зале, после чего встречается взглядом с безнадежно очарованным Лишь. Когда Питер садится, его бежевый вельветовый костюм тихонько урчит. За его спиной в зал вплывает бродвейская актриса в черных кружевах, по обе стороны от нее из клубов пара материализуются омары «термидор». Как любой дипломат на трудных переговорах, беседу о делах Питер откладывает на десерт, поэтому за ужином они обсуждают литературные новинки, которые Лишь на самом деле не читал. И только за кофе Питер говорит:
– Слышал, ты отправляешься в путешествие.
Да, говорит Лишь, в кругосветное.
– Хорошо, – говорит Питер и сигналит, чтобы принесли счет. – Развеешься. Надеюсь, ты не очень привязался к «Корморанту».
Лишь что-то бормочет, запинается и смолкает.
Питер:
– Потому что «Свифт» им не подходит. Поколдуй над ним, пока будешь в отъезде. Пусть новые места подадут свежие идеи.
– Что они предложили? Внести изменения?
– Никаких изменений, никакого предложения.
– Питер, меня что, кинули?
– Артур, с «Корморантом» не сложилось. Давай мыслить шире.
Под стулом Артура Лишь словно открылся люк.
– Слишком… велеречиво?
– Слишком щемяще. Слишком пронзительно. Прогулка по городу, день из жизни – знаю, писатели такие истории обожают. Но твой герой не вызывает сочувствия. Да о такой жизни, как у него, можно только мечтать.
– Слишком по-гейски?
– Используй эту поездку, Артур. Ты так хорошо передаешь атмосферу. Позвони, когда будешь в городе. – Питер обнимает его, и до Лишь запоздало доходит, что с ним прощаются; все закончилось; счет принесли и оплатили, пока он барахтался в темном, бездонном, скользком колодце плохих новостей. – И удачи завтра с Мандерном. Надеюсь, его агента там не будет. Та еще мегера.
Взмахнув седой гривой, Питер направляется к выходу. По пути целует актрисе руку. На этом любовь всей жизни Артура Лишь покидает его и идет очаровывать следующего писателя.
К своему немалому удивлению, в лилипутской ванной комнате Лишь обнаруживает великанскую ванну. Хотя уже десять вечера, он включает воду и, пока ванна наполняется, смотрит в окно: в двадцати кварталах от его отеля находится Эмпайр-стейт-билдинг, а в доме напротив – «Эмпайр-бистро», где, согласно картонной табличке, подают пастрами. Из другого окна, выходящего на Центральный парк, виднеется вывеска отеля «Нью-йоркер». Вы можете подумать, что над вами смеются, но это вовсе не так. Не смеются гостиницы Новой Англии с коваными флюгерами на башенках и пирамидами пушечных ядер при входе, которые называются либо «Ополченец», либо «Треуголка»; не смеются закусочные Мэна с буйками и клетями для ловли омаров, именуемые «Северо-восток»; не смеются увешанные испанским мхом рестораны Саванны; не смеются галантереи «Западный гризли» на западе; не смеются все заведения Флориды, в названии которых обыгрываются аллигаторы; не смеются калифорнийские бары, где подают сэндвичи в форме досок для серфинга; не смеются рестораны «Трамвай» в Сан-Франциско и гостиницы «Город туманов». Над вами никто не смеется. Все это на полном серьезе. Американцев считают беззаботными, но на самом деле они ко всему подходят чрезвычайно серьезно, особенно к местной культуре; они называют бары «салунами», а магазины – «лавками»; носят атрибутику спортивной команды из местной школы и славятся своими пирогами. Даже ньюйоркцы.
Возможно, смеется один только Артур Лишь. Вот он рассматривает свой гардероб: черные джинсы для Нью-Йорка, брюки хаки для Мексики, синий костюм для Италии, пуховик для Германии, светлый лен для Индии. Перебирает вещь за вещью, и каждый образ – насмешка над ним самим: Лишь-джентльмен, Лишь-писатель, Лишь-турист, Лишь-хипстер, Лишь-колонизатор. Где же Лишь настоящий? Юноша, который боится любви? Парень, которому не до шуток? Этот образ он не захватил. Четверть века прошло, и он уже не помнит, куда его задевал.
Он выключает воду и залезает в ванну. Кипяток-кипяток-кипяток! Вылезает красный по пояс и открывает кран с холодной водой. Водную гладь, в которой отражаются белые квадраты кафеля с черной полоской на каждом, заволакивает туман. Снова окунается; теперь вода почти не обжигает. Отражение кафеля подрагивает, и кажется, будто колышется его плоть.
Артур Лишь – первый в мире стареющий гомосексуал. Во всяком случае, так ему иногда кажется. Будь ему двадцать пять или тридцать, он бы нежился в ванне, прекрасный, юный, обнаженный, и радовался жизни. Не приведи господь, чтобы кто-то увидел его как есть: красным по пояс, точно двусторонний ластик, и с подстершейся верхушкой. Если не считать Роберта, Лишь еще никогда не видел, чтобы кто-то из его знакомых геев преодолел пятидесятилетний рубеж. Когда он начал общаться с Робертом и его компанией, им было около сорока, но до пятидесяти никто так и не дотянул; то поколение вымерло от СПИДа. Поколение Лишь порой чувствует себя первопроходцами, открывающими неизведанные дали по ту сторону полтинника. Как же им себя вести? Можно вечно молодиться: закрашивать седину, и беречь фигуру, и носить обтягивающую одежду, и ходить на дискотеки, пока не рухнешь замертво в восемьдесят лет. А можно, напротив, оставить седину в покое, и носить элегантные свитера, скрадывающие животик, и с улыбкой вспоминать о былых наслаждениях, которые уже никогда не изведаешь снова. Можно выйти замуж и усыновить ребенка. Пары могут завести любовников, подобно симметричным прикроватным столикам, чтобы секс не сошел на нет. А могут позволить сексу сойти на нет, как это делают гетеросексуалы. Можно с облегчением попрощаться с тщеславием, тревогой, страстью и болью. Можно стать буддистом. Но одну вещь совершенно точно делать нельзя. Совершенно точно нельзя девять лет встречаться с человеком, думая, что у вас все несерьезно, а потом, когда он тебя покинет, исчезнуть с радаров и отмокать в одиночестве в ванне, гадая, что же теперь делать.
Из ниоткуда голос Роберта: «Однажды я стану для тебя слишком стар. Когда тебе будет тридцать пять, мне будет шестьдесят. Когда тебе будет пятьдесят, мне будет семьдесят пять. И что мы тогда будем делать?»
Это было в начале их отношений; Лишь был еще совсем юный, не старше двадцати двух. Одна из их серьезных бесед после секса. «Однажды я стану для тебя слишком стар». Лишь, разумеется, сказал, что это нелепо. Разница в возрасте его не волнует. Роберт куда аппетитнее, чем эти глупые мальчишки, он это, вероятно, и сам знает. Мужчины в возрасте самые сексуальные: они знают себе цену, знают, что им нравится, знают, где провести черту, они опытны и готовы к приключениям. От этого и секс лучше. Роберт закурил еще одну сигарету и улыбнулся. «И что мы тогда будем делать?»
Двадцать лет спустя посреди спальни стоит Фредди:
– Я не считаю тебя старым.
– Но я старый, – отвечает с кровати Лишь. – Я старею.
Наш герой полулежит на боку, подперев голову рукой. Плющ за эти годы разросся и, подобно узорной решетке, отбрасывает пятнистую тень. Артуру Лишь сорок четыре. Фредди двадцать девять, на нем очки в красной оправе, лишьнианский пиджак и больше ничего. Посреди шерстистой, некогда впалой груди – едва заметная ложбинка.
Фредди смотрится в зеркало.
– По-моему, твой смокинг мне больше идет.
– Я хочу быть уверен, – говорит Лишь, понизив голос, – что не мешаю тебе встречаться с другими.
Фредди ловит в зеркале его взгляд.
Молодой человек слегка поджимает губы, будто его мучает зубная боль. Наконец говорит:
– Можешь не волноваться об этом.
– Ты в таком возрасте…
– Я знаю. – Фредди, похоже, тщательно подбирает слова. – Я понимаю, какие у нас отношения. Можешь не волноваться об этом.
Лишь откидывается на подушку, и с минуту они молча смотрят друг на друга. Ветви плюща колышутся на ветру и хлопают по стеклу, взлохмачивая тени.
– Я просто хотел поговорить… – начинает он.
Фредди поворачивается к нему лицом.
– Артур, нет нужды в длинных разговорах. Можешь не волноваться об этом. Просто, по-моему, ты должен отдать мне этот смокинг.
– Исключено. И перестань брать мой одеколон.
– Вот разбогатею – и перестану. – Фредди залезает в постель. – Давай снова посмотрим «Бумажную стену».
– Мистер Пелу, я просто хотел убедиться, – продолжает Лишь, не желая менять тему, пока не будет услышан, – что вы не слишком ко мне привязались. – Давно ли, думает он, их беседы стали напоминать сцены из переводных романов?
Фредди садится в постели, смотрит серьезно. Подбородок волевой, такие любят рисовать художники. Этот подбородок и темная поросль на груди, будто орел, раскинувший крылья, выдают в нем взрослого мужчину. Горстка деталей – маленький нос, и улыбка, округляющая щеки, и голубые глаза, в которых так легко читать его мысли, – вот все, что осталось от юноши, смотревшего на туман. Он улыбается и говорит:
– Ты невероятно тщеславен.
– Просто скажи, что мои морщинки тебя заводят.
Подползая поближе:
– Артур, всё в тебе меня заводит.
Вода остыла, и белая комната без окон походит на эскимосское иглу. Он видит в кафельных плитках свое отражение, зыбкий призрак на блестящей белой поверхности. Здесь оставаться нельзя. Идти спать тоже нельзя. Нужно срочно развеяться. «Когда тебе будет пятьдесят, мне будет семьдесят пять. И что мы тогда будем делать?»
Ничего, просто смеяться. И так во всем.
Я помню Артура Лишь в молодости. Мне было двенадцать или около того, и я отчаянно скучал на взрослой вечеринке. Все в квартире было белым, как и одежда гостей, и мне дали какую-то бесцветную газировку и сказали ни на что не садиться. Завороженно разглядывая ветви жасмина на серебристо-белых обоях, я заметил, что благодаря способности искусства останавливать мгновение каждые три фута над цветком зависает маленькая пчела. Тут на мое плечо легла рука: «Хочешь порисовать?» Я обернулся и увидел белокурого юношу, который мне улыбался. Высокий, худой, короткая стрижка с длинной челкой, безупречные черты древнеримской статуи, улыбается, слегка выпучив глаза: оживленное выражение, от которого дети приходят в восторг. Я, должно быть, принял его за подростка. Он привел меня на кухню, достал бумагу с карандашами и сказал, что мы могли бы рисовать вид из окна. Я спросил, можно ли мне нарисовать его. Он рассмеялся, потом сказал «хорошо», сел на барный стул и стал слушать музыку, доносившуюся из соседней комнаты. Я знал эту песню. Мне и в голову не приходило, что он прячется от других гостей.
Артур Лишь обладал удивительной способностью покинуть комнату, не покидая ее пределов. Стоило ему сесть, и он тут же обо мне позабыл. Стройный, в подвернутых снизу джинсах и свободном свитере крупной вязки, белом в крапинку, слушая музыку («Соу лоунли, соу лоунли»), вытягивает длинную красноватую шею; для такого туловища голова великовата, слишком вытянутая и прямоугольная, губы слишком красные, щеки слишком румяные, на лоб ниспадает блестящая копна волос. Смотрит в туман, руки на коленях, шевелит губами под музыку («Соу лоунли, соу лоунли») – стыдно вспоминать, что за каракули вышли из-под моей руки. Его самодостаточность, его свобода вызывали во мне благоговение. Его способность уйти в себя на десять-пятнадцать минут, пока я его рисовал, в то время как сам я едва мог усидеть на месте и удержать в руке карандаш. Спустя какое-то время его глаза загорелись, он посмотрел на меня и спросил: «Ну что там у тебя?» – и я ему показал. Он улыбнулся, и кивнул, и дал мне парочку советов, и спросил, не хочу ли я еще газировки.
– Сколько тебе лет? – спросил я.
Он криво улыбнулся. Откинул волосы со лба.
– Двадцать семь.
Почему-то я счел это жутким предательством.
– Ты не мальчик! – воскликнул я. – Ты взрослый!
До чего странно было наблюдать, как он краснеет от обиды. Кто знает, почему мои слова его задели; наверное, ему нравилось считать себя ребенком. Я наделил его уверенностью в себе, а на самом деле его раздирали страхи и тревоги. Но в тот момент, когда он покраснел и уставился в пол, я этого, конечно, не понимал. Я ничего не знал о волнениях и других бессмысленных человеческих страданиях. Я знал лишь одно: я сказал что-то не то.
В дверях появился какой-то старик. Во всяком случае, мне он показался стариком: белая рубашка, очки в черной оправе, вылитый фармацевт. «Артур, пойдем отсюда». Артур улыбнулся и поблагодарил меня за компанию. Старик бросил на меня взгляд и кивнул. Мне вдруг захотелось исправить свою оплошность. Но они уже ушли. Разумеется, я не знал, что это был лауреат Пулитцеровской премии поэт Роберт Браунберн. И его юный возлюбленный Артур Лишь.
– Еще один «Манхэттен», пожалуйста.
Позже тем же вечером; лучше бы Артуру Лишь не напиваться накануне интервью с Мандерном. И не мешало бы найти какой-нибудь научно-фантастический реквизит.
– Я затеял кругосветное путешествие, – рассказывает он.
Беседа проходит в одном из баров Среднего Манхэттена, неподалеку от отеля. В юности Лишь часто сюда захаживал. Бар ничуть не изменился: тот же швейцар, окидывающий каждого посетителя подозрительным взглядом; тот же портрет престарелого Чарли Чаплина в рамке; та же изогнутая барная стойка, где молодежь обслуживают быстро, а стариков – медленно; тот же черный рояль с пианистом, который (как в салуне на Диком Западе) прилежно играет все, что ему заказывают (в основном Коула Портера); те же полосатые обои, те же светильники в форме ракушек, тот же контингент. В этом месте мужчины постарше знакомятся с мужчинами помоложе; в углу на диване две мумии интервьюируют юношу с зализанными волосами. Лишь с улыбкой отмечает, что он теперь в другом лагере. Он разговаривает с лысеющим, но симпатичным юношей из Огайо, который почему-то внимательно его слушает. Лишь еще не заметил шлем от российского космического скафандра над барной стойкой.
– Где следующая остановка? – весело спрашивает юноша. У него рыжие волосы, бесцветные ресницы и веснушчатый нос.
– Мексика. Потом в Италию на литературную премию, – говорит Лишь. «Манхэттен» номер два сделал свое дело. – Которую я не получу. Но мне нужно было уехать из дома.
Юноша подпирает голову рукой.
– А где дом, красавчик?
– В Сан-Франциско.
Лишь вспоминает, как почти тридцать лет назад, возвращаясь с концерта Erasure, все еще под кайфом, и узнав, что демократы вернули себе большинство в Сенате, они с другом завалились в этот самый бар и объявили: «Мы хотим секса с республиканцем! Кто здесь республиканец?» И все подняли руки.
– В Сан-Франциско не так уж и плохо, – улыбается юноша. – Только вы там немного зазнались. Так зачем ты уехал?
Облокотившись на барную стойку, Лишь смеряет нового знакомого взглядом. Комната утопает в джазе Коула Портера, а в бокале Лишь утопает засахаренная вишенка; он вылавливает ее двумя пальцами. Сверху за ними наблюдает Чарли Чаплин (почему именно он?).
– Как назвать того, с кем спишь уже девять лет? Допустим, вы вместе готовите завтрак, и справляете дни рождения, и ссоритесь, и он девять лет говорит тебе, что носить, и ты приветлив с его друзьями, и он вечно у тебя дома, но всю дорогу ты знаешь, что это ни к чему не приведет, что он найдет кого-нибудь, и это будешь не ты, так условлено с самого начала, что он найдет кого-нибудь и выйдет замуж, – так как его назвать?
С грозным боем том-тома начинается «Ночь и день». Собеседник приподнимает бровь.
– Не знаю. Как?
– Фредди.
Лишь отправляет вишенку в рот. Спустя пару секунд он кладет на салфетку завязанный в узел черешок.
– Он кое с кем сошелся, скоро свадьба.
Юноша кивает и спрашивает:
– Что пьешь, красавчик?
– «Манхэттен». Давай я тебя угощу. Извините, – говорит он бармену, указывая на шлем, – а что это у вас над головой?
– Так не выйдет, мистер, – говорит юноша, накрывая его руку ладонью. – Я сам тебя угощу. А шлем космонавта мой.
Лишь:
– Твой?
– Я здесь работаю.
Наш герой смотрит на руку юноши, потом на него самого.
– Ты подумаешь, что я спятил, – говорит он. – У меня к тебе одна дикая просьба. Завтра я беру интервью у Х. Х. Х. Мандерна, и мне нужно…
– Я и живу тут недалеко. Как, говоришь, тебя зовут?
– Артур Лишь? – переспрашивает седая дама, пока Х. Х. Х. Мандерна выворачивает в ведро. – Кто такой Артур Лишь?
Лишь стоит на пороге гримерки со шлемом под мышкой и застывшей улыбкой на лице. Сколько раз он слышал этот вопрос? Столько, что уже давно не обидно. В годы его юности, в эпоху Карлоса, отвечали, что Артур Лишь – это тот паренек у бассейна в салатовых плавках, тощий такой, из Делавэра; позже объясняли, что это тот молодой человек у барной стойки, застенчивый такой, спутник Роберта Браунберна; еще позже говорили, что это бывший Роберта Браунберна и, возможно, не стоит его больше приглашать; его представляли как автора одного романа, потом – другого; потом – как чьего-то давнего знакомого. И наконец – как человека, с которым Фредди Пелу спал целых девять лет, прежде чем выйти замуж за Тома Денниса. Он играл все эти роли для всех, кто спрашивал, кто он такой.
– Я спрашиваю: кто вы такой?
Никто в этом театре не знает, кто он такой; когда он выведет на сцену Х. Х. Х. Мандерна, обессилевшего от отравления, но решившего не подводить поклонников, его представят просто как «большого фаната». Когда он будет вести это полуторачасовое интервью, заполняя паузы пространными описаниями и отвечая на вопросы из зала, как только полуживой Мандерн обратит к нему утомленный взор, – когда он спасет это мероприятие, спасет карьеру этого бедолаги, все равно никто из зрителей не будет знать, кто он такой. Они здесь ради Х. Х. Х. Мандерна. Они здесь ради робота Пибоди. Они пришли в костюмах роботов, и космических божеств, и инопланетян, потому что писатель изменил их жизнь. А тот, второй писатель, в шлеме космонавта с поднятым визором, он не имеет значения; его никто не запомнит; никто не знает и даже не поинтересуется, кто он такой. А поздним вечером, когда он сядет на самолет в Мехико и его сосед, молодой японец, услышав, что перед ним писатель, взволнованно спросит, кто же он такой, Лишь – все еще падая с моста рухнувших надежд – ответит, как отвечал уже не раз.
«Велеречивый лютик».
«Ни капли злобы. Абсолютно никаких чувств».
«Ты же знаешь, Артур, мой сын тебе не пара».
– Никто, – говорит наш герой городу Нью-Йорк.