Раздел 1. Фольклор и традиции народной культуры
I. СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Песни и сказки русского населения Эстонии 24
В отделе фольклора Литературного музея АН Эстонской ССР им. Фр.-Р. Крейцвальда хранится фонд русского фольклора, который начал создаваться еще в конце 20‐х годов нынешнего века и продолжает расти по сей день. Созданный по инициативе и стараниями руководителей славянского отделения Тартуского университета профессоров Пауля Аристе и Пеэтера Арумаа, этот фонд постепенно пополнялся фольклорными записями студентов-славистов, работников Эстонского фольклорного архива (позднее – Государственного литературного музея), стипендиатов архива и местных корреспондентов. С 60‐х годов фонд увеличивается за счет материалов фольклорных практик студентов русского отделения филологического факультета Тартуского университета. Почти за полувековую историю своего существования русский фольклорный фонд превратился в крупное и обстоятельное собрание записей произведений устно-поэтического творчества, сведений по быту и образцов говоров русских старожилов Эстонии25. Немаловажным его достоинством является и то, что материалы фонда дают более или менее ясное представление о фольклорной традиции различных по своему происхождению групп русского старожильческого населения республики.
Другие собрания фольклорных материалов, записанные среди русских старожилов Эстонии, также представляют несомненный интерес. С одной стороны, эти записи служат существенным и совершенно необходимым дополнением к материалам фольклорного фонда Литературного музея, с другой – лишь благодаря им создается полная картина собирания русского старожильческого фольклора в республике и его роли в культурной жизни русского населения Эстонии.
Так, стремление русской общественности сохранить в сложной обстановке 20‐х годов культурную самобытность обусловило интерес к родной старине и стимулировало собирание русского фольклора на территории Эстонии. Частная инициатива собирателей стала отвечать определенной общественной потребности в их деятельности, и не случайно, что почти все публикации русского старожильческого фольклора в местной периодической печати приходятся на конец 20‐х годов. В то же самое время начал составляться и русский фольклорный фонд в Эстонском фольклорном архиве. Едва ли это можно считать простым совпадением. Скорее всего, сказывалась общая атмосфера внимательного и бережного отношения к своему культурному наследию.
Между материалами, время от времени публиковавшимися в периодике и собиравшимися в русском фольклорном фонде, заметны серьезные качественные отличия. Если в архиве откладывались записи, характеризующие фольклорную традицию во всем ее многообразии и сложности, то публикаторов интересовала лишь самая выдающаяся и яркая сторона местного фольклорного быта – свадьба, богатая архаическими элементами и хорошо сохранившейся красочной обрядностью народного празднества26. Это и понятно: «опыты систематического собирания… русского народного эпоса» прежде всего были вызваны необходимостью подчеркнуть достоинство своей культуры, противопоставить влиянию со стороны ее основные и наиболее привлекательные ценности.
Знаменательно, что «популяризация» фольклорного наследия в сущности и ограничилась свадебной обрядностью. Со временем она превратилась в «черновую», подготовительную работу над инсценировками свадебных обычаев Печорского края27, привлекавшего особое внимание любителей русской старины своим традиционным и мало затронутым поздними культурными влияниями бытом. Тем самым свадьба как бы заслонила собой другие, менее яркие стороны народной культуры. Фольклорная традиция Печорского края приобрела более широкую известность, чем традиции остальных русских районов Эстонии. В поле зрения собирателей-«популяризаторов» так и не попали, например, русские старообрядческие деревни, расположенные на западном побережье Чудского озера. А ведь именно здесь или среди выходцев отсюда были записаны первые образцы русского старожильческого фольклора в Эстонии.
В начале нашего века говорами и народной словесностью местного населения заинтересовался В. А. Бобров, известный в истории отечественной фольклористики своим исследованием русских сказок о животных28. Опубликованные им два десятка песен (преимущественно свадебных) оказались незамеченными в 20‐х годах, и его деятельность, к сожалению, не послужила примером для развернувшейся в то время работы по собиранию русского фольклора. Лишь обращение к материалам русского фольклорного фонда Литературного музея им. Фр.-Р. Крейцвальда может дать более или менее подробные сведения о бытовании фольклора и об особенностях его репертуара среди старожилов Западного Причудья29.
Фольклорные записи, сделанные на западном берегу Чудского озера, представляют особый интерес. Они по-своему дополняют в основном уже сложившееся по целому ряду работ историков, этнографов и лингвистов представление об этой «веренице» русских старожильческих деревень вдоль берега Чудского озера.
Сосредоточенные вдоль восточной границы Эстонской ССР – в Принаровье и на берегах Чудского, Теплого и Псковского озер, русские старожильческие поселения располагаются не сплошным массивом, а вкраплены отдельными «островами» среди местного эстонского населения. Каждый такой «остров» имеет свою историю заселения и отличается от других своеобразием говора, бытового уклада и духовной культуры его жителей.
Однако все же Западное Причудье является наиболее самобытным районом среди остальных русских старожильческих «островов» на территории Эстонии. Если русское население Северного Причудья и Принаровья, находясь в тесных экономических и культурных связях с соседней Петербургской губернией, отчасти и росло за счет ее жителей, а Обозерье (деревни на западном берегу Теплого и Псковского озер) является, не говоря уж о Печорском крае, который ныне входит в состав Псковской области, непосредственным продолжением Псковщины, то русские деревни Западного Причудья сформировались в результате массовых переселений сюда жителей из более отдаленных мест России. Как пишет автор фундаментального исследования этнической истории Причудья Алийсе Моора,
в последние десятилетия этого века (имеется в виду XVIII век. – А. Б.) на берег Чудского озера, от Лохусуу до дер. Воронья, а также на остров Пийрисаар переселилось большое количество русских старообрядцев. Много переселенцев прибыло с Витебщины, вошедшей к этому времени в состав России, другая часть – из Новгородской губернии и отдельные даже из Тверской губернии30.
Волна русских переселенцев-старообрядцев, хлынувшая на западное побережье Чудского озера в конце XVIII – начале XIX века, встретилась с уже давно обосновавшимися здесь небольшими старообрядческими колониями, которые начали появляться в этих местах с конца XVII века31. Немалую роль в деле упрочения первоначальных старообрядческих поселений Западного Причудья сыграла просуществовавшая несколько лет на Ряпиной мызе (ныне поселок Ряпина в Пылваском районе Эстонской ССР), а затем разгромленная главная обитель старообрядцев-федосеевцев. После ее разорения в 1719 году кое-кто из последователей Феодосия Васильева бежал на западный берег Чудского озера. Так или иначе, но уже в 1740 году была построена первая в Западном Причудье старообрядческая моленная в дер. Кикита. Благодаря же новому и более мощному потоку русских переселенцев на западном побережье Чудского озера возник целый ряд крупных и стабильных по своему составу старообрядческих деревень. Из потомков бежавших от преследований администрации и официальной церкви ревнителей «древлего благочестия» в основном состоит и население о. Пийрисаара (известного как Желачек и Озолица по псковским и новгородским летописям).
Своеобразным «реликтом» прежних русских поселений в Западном Причудье является дер. Нос, основанная еще в начале XVII века, когда на опустошенной шведско-польскими войнами территории появилось значительное число русских переселенцев с восточного берега Чудского озера32. Сохранившееся в сложной и изменчивой атмосфере этнического соседства, это русское поселение выделялось среди соседних старообрядческих деревень вероисповеданием его жителей – они почти сплошь были православными.
Сравнивая сведения о традиционно-обрядовой стороне жизни на западном берегу Чудского озера у старообрядцев и у местных православных, нельзя не отметить существенных различий между ними. В основном они сводятся к тому, что среди православного населения (как показывают материалы русского фольклорного фонда Литературного музея им. Фр.-Р. Крейцвальда) праздничная обрядность выглядит более разнообразной. Так, в Мартынов день (10 ноября по новому стилю) и на Новый год православные «ходили в санти-марти», как здесь назывался общий с эстонцами и едва ли не заимствованный от них обычай «ряжения»33, когда одетые так, чтобы их не узнали, взрослые и дети (позднее только молодые девушки и мальчики) с танцами и песней:
Пустите санти-марти,
Они далеко пришли —
Ноги болят, —
обходили дома, получая от хозяев различные сладости34. У православных на Рождество устраивалось и «колядование»: мальчики ходили с разноцветной звездой из бумаги (колядой), посередине которой помещалась иконка, а внутри горела свеча (позднее – лампочка). Записан отрывок колядки с традиционным мотивом величания хозяина колядующими.
Заслуживает внимания и известие о том, что на Масленой неделе в г. Калласте парни возили с собой в санях старую деву, которую сажали в старую корзину или бочку и обряжали «Масленой»: надевали старинный сарафан, душегрейку, платок; в руках она держала сковороду для выпечки блинов и била по ней ложкой35. Других сведений об этом отголоске старинной масленичной обрядности в материалах, собранных в Западном Причудье, нет, и поэтому трудно сказать, был ли распространен здесь этот обряд или же он занесен в Калласте откуда-то со стороны.
Общий для всего русского старожильческого населения западного побережья Чудского озера порядок проведения зимних праздников в целом не оригинален: на Святках и Масленице молодежь ездила на украшенных еловыми ветками лошадях с бубенцами (шарками) по тем деревням, где особо отмечался тот или иной день в длинной череде зимних праздников; девушки водили хороводы; дети катались со специально устроенных гор на санках-«ледянках». Уличное гулянье сопровождалось почти непрерывными вечеринками, на которых девушки (особенно под Новый год) занимались гаданием (записано более десятка способов такого гадания, в котором отразилась обычная символика свадебных обрядов и песен).
Большой интерес представляет ход «Егорьевского» праздника в дер. Нос. День первого выгона скота на пастбище и в других деревнях Западного Причудья отличался рядом обрядовых особенностей, призванных обеспечить благополучие скота и высокие удои молока у коров. Но «Егорий» в дер. Нос выделялся среди них своим «бабьим праздником», известным, кстати, и у русского старожильческого населения Обозерья (побережье Теплого и Псковского озер). В записи праздничного гулянья, сделанной в 1928 году местным священником Ф. Коняевым, женщинами разыгрывался один из простейших вариантов народной драмы «Лодка»36, который здесь носил чисто игровой характер и являлся составной частью большого и разнообразного гулянья, отличавшегося редким богатством плясовых и хороводных песен. По сведениям, полученным от жительниц дер. Нос в 50‐е годы, «бабий праздник» давно уже потерял свой яркий общедеревенский вид37.
На о. Пийрисаар особо отмечали Петров день: за деревнями из двух приставленных носами друг к другу старых лодок жгли «огнище», прыгали через него и пускали по озеру плот с горящими на нем смоляными бочками; молодежь танцевала, водила хороводы, играла в разные игры (вроде «горелок»)38. Этим эпизодом завершался период летнего «гулянья», приуроченный ко времени Иванова дня и продолжавшийся здесь до «Петра».
Другие календарные праздники на западном берегу Чудского озера носили сугубо религиозный характер, особый церковный ритуал которых обычно «дополнялся» самыми примитивными формами общественного увеселения.
Далекий от старинной бытовой обрядности порядок календарных праздников в Западном Причудье отразился и в песенном репертуаре. Публикуемые нами тексты, о которых со слов информаторов известно, что временем их исполнения был какой-то определенный праздник, – это обычные лирические или шуточные песни, прикрепившиеся к тому или иному празднику; за исключением одного отрывка из «колядки», они не являются обрядовыми.
Характер календарной обрядности, бытовавшей на западном берегу Чудского озера, в первую очередь объясняется местным хозяйственным укладом, который сложился на основе рыболовства, отходничества и промыслов39. Если жители дер. Нос сравнительно мало занимались промысловым рыболовством, то старообрядцы, пришедшие в Причудье с озерной части Балтийской возвышенности, были умелыми рыбаками. Ловлей рыбы занимались не только на Чудском озере, на котором зимой собирались почти все здешние рыбаки, но и на побережье Пярнуского и Финского заливов, а многие рыбацкие артели к лету уходили на Ладогу, где и оставались вплоть до замерзания озера. В материалах русского фольклорного фонда Литературного музея есть целый ряд записей особых обрядов, предварявших рыбную ловлю и направленных на обеспечение удачного ее исхода40.
Летом же из Причудья отправлялись на работу и многочисленные строительные артели – местные каменщики и печники, славившиеся своим мастерством по всему Остзейскому краю, брали подряды в Петербурге и других городах русских губерний. Развитию отходничества среди старообрядцев западного берега Чудского озера способствовало то, что они никогда не были прикреплены к земле, а числились записанными при разных городских обществах. К середине XIX века отходничество стало важным элементом хозяйственной жизни Западного Причудья. Значительная часть женского населения в летние месяцы уходила работать на кирпичные заводы и нанималась в работницы к эстонским крестьянам. Особенный размах батрачество приобрело в буржуазное время, когда резко сократились масштабы промыслового рыболовства и уменьшился объем доступных причудским мастерам строительных работ.
Те же из местных жителей, кто оставался дома, занимались преимущественно своим огородом.
Все эти формы хозяйственной деятельности безусловно оказали большое влияние на бытовой уклад жителей западного побережья Чудского озера. Подвижное и свободное от крестьянского труда население с постепенным ослаблением религиозно-бытовых запретов все более и более ориентировалось на культуру городского мещанства.
С особой силой это сказалось на характере необрядового песенного фольклора Западного Причудья. В самом плачевном положении оказалась песня, не связанная своим исполнением с устойчивыми формами народного гулянья. С большим трудом удалось разыскать в материалах русского фольклорного фонда записанные в Западном Причудье или же от здешних уроженцев произведения, выделяющиеся своими художественными достоинствами на общем фоне «мещанского» романса.
За рамками нашей публикации остались частушки или, как их здесь называли, «припевки», «припевочки», «прибабуньки»41, которые были широко известны на западном берегу Чудского озера. Уже в первых записях местного фольклора частушки встречаются довольно часто, а в предвоенные и особенно в послевоенные годы они вообще занимали господствующее место в песенном обиходе здешнего населения. Вездесущая частушка проникла и в непременные хороводы молодежных гуляний на Святках или же после Пасхи. Близкие по ритму таким популярным в Западном Причудье хороводным песням, как «Распотешно было Груне» или «Милый бережком идет», частушки объединялись в своеобразные «циклы», сопровождая привычную обрядность деревенского хоровода.
Тем не менее старинные хороводные песни сохранились здесь лучше, чем «долевые». И это, пожалуй, в равной степени относится к записям их, сделанным как в старообрядческой, так и в православной среде. Во всяком случае записанный в 1929 году проф. Паулем Аристе от жительницы дер. Малые Кольки О. Каялиной репертуар хороводных песен немногим уступает собранным в то же самое время Федором Коняевым хороводным песням в дер. Нос.
И все же есть любопытная закономерность: в тех случаях, когда песня менее связана с устойчивыми формами деревенского быта, становится заметным известное превосходство песенной культуры дер. Нос, где традиционные элементы сохранились лучше и полнее, чем в песенных репертуарах соседних старообрядческих деревень. Среди фольклорных материалов, собранных в дер. Нос, значительно чаще встречаются произведения старинной любовной лирики и народных шуточных песен, не говоря уже о беспрецедентном для Западного Причудья богатстве плясовых песен, записанных в конце 20‐х годов на Егорьевском празднике Ф. Коняевым. Эта особенность песенного репертуара православной деревни осознавалась и некоторыми из местных информаторов: так, жительница г. Калласте З. Кроманова противопоставляла «чужим» и «модным» песням, которые заносились сюда отходниками и рыбаками, «свои» песни дер. Нос42.
Очень возможно, что на характере песенной культуры старообрядческих деревень отразилась и безусловная «недоброжелательность» религиозно-бытовой доктрины старообрядчества по отношению к «мирскому» фольклору. Показательными в этой связи являются сведения о смене прежних молодежных «супрядок», сводившихся лишь к совместной работе парней и девушек по вечерам (нередко под надзором стариков), «вечеринками» с песнями и танцами. Этот важный момент местной бытовой истории, отразившийся в воспоминаниях многих здешних информаторов, совпал с началом ослабления религиозности старообрядческого населения Западного Причудья, когда стал падать и авторитет многочисленных религиозно-бытовых предписаний, жестко регламентировавших всю практическую деятельность и досуг последователей «старой веры»43.
Тогда же сформировался и песенный репертуар молодежной «вечеринки», состоявший из популярных «городских» песен. Вряд ли наступившей эпохе «мещанского» романса предшествовал период широкого бытования старинных «долевых» песен среди причудских старообрядцев – для них вроде бы уже совсем не оставалось места в религиозно-бытовом укладе некогда «крепко-верного» старообрядчества.
Выше уже отмечалось, что в Западном Причудье старинное песенное предание оказывается тесно связанным с разнообразной обрядностью деревенского обихода. Это становится особенно очевидным, когда мы обращаемся к описаниям местных семейно-бытовых обрядов.
С рождением или крещением ребенка, правда, никаких особых, отличных от церковных, обрядов обычно не связывалось. Разве что в г. Калласте через неделю после рождения ребенка замужние родственницы матери приходили к ней на так называемые «варуши» (от эст. varrud – крестины): «смотреть» ребенка – с пирогами и кренделями. Ефимия Зубарева рассказала, что прежде на «варушах» роженице подносили «кухон» (сладкий сдобный пирог из яиц) и крендели с вареньем44. В ее время на «варушах» не было «ни песен и ни басен». Впоследствии же смотрины ребенка превратились в обычное празднество, на которое стали собираться не только родственницы, но даже и соседские девушки.
Похоронная же обрядность уже заключала в себе элементы традиционного фольклорного «сопровождения». Правда, число записанных в Западном Причудье «голошений» по умершему крайне невелико (в более или менее целостном виде по материалам русского фольклорного фонда Литературного музея им. Фр.-Р. Крейцвальда нам известно всего лишь два текста), но о существовании здесь в прошлом похоронной причети говорили многие информаторы, и есть все основания считать причеть одним из характерных эпизодов местной семейно-бытовой обрядности. Любопытно, что сведения о бытовании похоронных причитаний на западном берегу Чудского озера идут только из старообрядческой среды (причем указывается в этой связи на женщин, для которых «голошение» по покойнику было уже чем-то вроде ремесла).
Наиболее ярко черты старинного фольклорного предания проявились в свадебной обрядности, которая, конечно же, всегда в значительно большей мере, чем другие формы местного бытового обихода, насыщена разнообразными деталями традиционных народных ритуалов и обычаев. В ее составе хорошо сохранился и дошел до нас давний по своему происхождению цикл свадебного фольклора – песни, причитания и приговоры. В записях свадебных обычаев, сделанных собирателями со слов местных информаторов, неизменно встречается специфическая «свадебная» лексика: слова и выражения, обозначающие определенный момент обряда («сватовство», «сглядины», «сговор», «девишник», «яишница», «отзывание» и т. д.), его персонажей («сватовья», «сваха» или «сват», «дружка», «поезжане» и т. д.), их отношения между собой (такое, например, как «залога» – знак просватанья невесты, который она должна была отдать своему будущему мужу: головной платок, одеяло или салфетку), или действия по ходу обряда («опевание» молодых), а также ряд характерных атрибутов свадебной обрядности (например, «краса» – елочка либо просто букет бумажных цветов, символизировавшие девичество невесты). Все это, несомненно, свидетельствует об исконности свадебных обычаев у старообрядцев западного берега Чудского озера.
Почему же приходится подчеркивать именно это, казалось бы, бесспорное обстоятельство? Дело в том, что местное старообрядчество по своему происхождению принадлежит к федосеевскому беспоповскому согласию45, вероисповедная доктрина которого решительно отрицала возможность существования брачной жизни в переживавшиеся с 1666 года ревнителями «старой веры» «последние времена». Отношение к семейной жизни как к «ереси» нередко приводило если и не к полному исчезновению свадебной обрядности из бытового обихода федосеевцев, то к ее заметной деформации.
Так было в Резекненском р-не Латвийской ССР, со старообрядческим населением которого причудские ревнители поддерживали давние культурные связи46. Здесь же, в Западном Причудье, федосеевское безбрачие, по-видимому, носило не столь ортодоксальный характер47, что и способствовало сохранению свадебной обрядности как бытового явления местной жизни: даже в дер. Раюша (не без оснований считавшейся «цитаделью» причудского федосеевства) удалось записать несколько свадебных песен. Встречаются, однако, и сведения о том, что среди здешних старообрядцев бытовали так называемые «свадьбы уводом», когда невесту просто выкрадывали из родительского дома. Но стремление некоторых православных информаторов объявить их типичными для старообрядческого быта (в свете многочисленных данных о сохранении свадебной обрядности у старообрядцев) представляется нам неосновательным: здесь, скорее всего, сказалась пристрастность их взгляда на чужую культуру, которая в противовес своей обычно видится беспорядочной и «беззаконной».
В целом свадьбы в Западном Причудье шли примерно по одному и тому же «сценарию», но если сравнить между собой сведения, полученные от старообрядок и православных, то обнаружится довольно любопытная картина: свадьба в старообрядческой среде оказывается более бедной обрядовыми частностями и «приговорным» сопровождением, чем у православных. Описания свадебного обряда, бытовавшего среди старообрядцев Западного Причудья, свободны от явных параллелей с красочной обрядностью свадеб Северного Причудья или Обозерья, которые заметны в воспоминаниях православных информаторов. Причиной тому могла быть замкнутость старообрядческого быта и почти полное отсутствие в прошлом смешанных браков с «иноверцами», в то время как у православных западного берега Чудского озера намечается более широкий круг родственных связей с другими русскими «колониями», существовавшими на территории Эстонии.
Что же касается свадебных песен, то и на православной, и на старообрядческой свадьбах их репертуар в отличие от чисто обрядовых элементов примерно одинаков как по числу песенных текстов, так и по степени их сохранности. Правда, и эта сторона свадьбы лучше и полнее отразилась в записях, сделанных от православных жительниц Западного Причудья, но здесь уже разница не столь значительна. Со временем (как, впрочем, и везде) собственно свадебные песни были потеснены проникавшими сюда из городской среды романсами, тематика которых как бы описывала свадьбу со стороны ее «реального» протекания, а не через призму архаической символики, чем отличается старинная свадебная лирика.
И тем не менее прежние свадебные песни не забывались, они продолжали бытовать здесь уже наряду с «городскими». Вообще же если сравнить между собой разновременные материалы русского фольклорного фонда Литературного музея им. Фр.-Р. Крейцвальда, сопоставить их с записями В. А. Боброва, то скорее можно прийти к выводу об устойчивости местного свадебного репертуара, чем о наличии в нем какой-то определенной тенденции к разложению, распаду и явному забвению составляющих его текстов. По крайней мере, так было до конца 40‐х годов, к которым относятся последние систематические записи более или менее квалифицированных собирателей, да и в студенческих записях, сделанных уже в 60‐е годы, нет-нет да и попадаются произведения, встречавшиеся здесь еще в начале нынешнего века. И все же очевидно, что сейчас старинный свадебный репертуар Западного Причудья находится на грани забвения: из активного бытования он перешел в пассивную память старшего поколения.
Свадебная песенность западного берега Чудского озера обнаруживает несомненную близость с песенной культурой соседнего русского населения как на территории Эстонской ССР, так и к востоку от Чудского озера, в пределах нынешней Псковской области. Наши наблюдения дают некоторое основание говорить о сходстве свадебных обрядов, бытовавших на берегах Чудского озера и шире – на всей Псковщине. Причем сходство это проявляется больше в песенном репертуаре свадьбы, чем в обрядовом действии (существуют и серьезные отличия в свадебной «терминологии», некогда употребительной здесь в разных районах намеченного ареала). Так, сравнивая записи свадебных песен, хранящихся в русском фольклорном фонде Литературного музея, с более или менее современными им публикациями И. К. Копаневича и других собирателей псковской песенности48, можно отметить, что примерно треть западнопричудского свадебного репертуара имеет соответствия в материалах, записанных на Псковщине. Свадебные песни, собранные в других русских губерниях, уже не столь очевидно напоминают причудские. Но и в границах этой общности свадебного репертуара есть место, отличающееся наибольшей близостью к Западному Причудью, это – Северное Причудье. Значительно меньше сходства с западнопричудскими свадебными песнями обнаруживается в фольклорных материалах, собранных в прилегающих к старообрядческим (но уже с другой стороны) деревнях Обозерья, которые можно считать естественным продолжением Печорского района Псковской области. Обозначилось ли таким образом какое-то направление культурной миграции, говорить пока трудно. Не следует забывать, что свадебная обрядность является здесь едва ли не единственным основанием в местной фольклорной традиции, по которому еще можно обнаружить прежние культурные связи и определить (хотя бы и в самом общем виде) возможные обстоятельства складывания западнопричудской общности в ряду других старожильческих групп русского населения на территории Эстонии. Ведь несмотря на более «скромный», чем в православной дер. Нос, характер свадебной обрядности у местных старообрядцев, она была и реально существовавшим фактом их семейно-бытовой жизни, и (что особенно важно) наиболее ярким проявлением старинной фольклорно-обрядовой культуры в их среде.
Местная сказительская традиция представлена в русском фольклорном фонде Литературного музея несравненно беднее и отрывочнее, чем она, вне всяких сомнений, существовала здесь в действительности. При этом добрая половина записей произведений фольклорной прозы в материалах, территориально приуроченных к Западному Причудью, сделана в самом конце 20‐х годов среди жительниц дер. Нос. Наряду с любопытными образцами «сказок», «случаев» и «былей», полученными примерно в то же самое время от учеников русского училища в г. Муствеэ, носовские материалы Ф. Коняева и составляют основной фонд прозаического фольклора, записанного на западном берегу Чудского озера. Как можно судить по очень немногочисленным записям от местных информаторов-старообрядцев, в их среде бытовали в основном те же жанры фольклорной прозы, что и у прочих русских старожилов Западного Причудья; имеются и очевидные схождения в сюжетном репертуаре сказок, быличек и анекдотов. Можно заметить, что в старообрядческой среде были популярны литературные переделки сказок, вроде пушкинского «Царя Салтана» или его же «Балды», изложенные чередующимся с прозой раешным стихом подлинника и, по отзыву исполнительницы, очень нравившиеся жителям деревни49, а также «Мертвой царевны» В. А. Жуковского, почти сплошь переданной стихами. Они вошли в местный фольклорный быт из тех же самых «книжек», из которых жительница г. Калласте П. Кривоглазова в свое время узнала о существовании Бабы-Яги50.
Возможно, что характер устной повествовательной традиции в старообрядческой среде существенно искажен материалами русского фольклорного фонда Литературного музея им. Фр.-Р. Крейцвальда. В самом деле, удивительно почти полное отсутствие легенд и преданий (как, впрочем, и духовных стихов) в записях от информаторов-старообрядцев – собраны лишь отдельные сюжеты. Записанное же (прежде всего сказки, былички, анекдоты), конечно, представляет собой поверхностный и наиболее «мирской» слой собственно старообрядческой культуры.
Не принимая во внимание несомненных упущений в собирании фольклора среди старообрядцев Западного Причудья, легко прийти к заведомо неверным выводам относительно характера местной фольклорной традиции. Так, например, в записях от старообрядцев почти не встречаются духовные стихи (исключением являются единичные примеры сравнительно новых по своему происхождению «стишков», вроде «Умоляла мать родная…», заменявших здесь на время поста мирскую обиходную песню), в то время как по материалам, собранным Ф. Коняевым в дер. Нос, видно, что в православной среде старинные духовные стихи пользовались известным вниманием. Правда, здесь они фигурируют под названием «легенд», нередко даются в прозаическом пересказе и наряду с собственно легендарными сказками составляют заметное явление православной традиционно-фольклорной культуры. Есть все основания видеть уже в этой особенности материалов русского фольклорного фонда существенное искажение реальной культурной ситуации.
С другой стороны, количественное и качественное превосходство записей из дер. Нос, в которых отразилась «мирская» струя старинного сказочного предания, представляется нам одной из действительных и весьма существенных (в плане сопоставления с устно-поэтической традицией, бытовавшей в старообрядческой среде) особенностей фольклора православных жителей Западного Причудья. Новеллистические сказки, былички (на долю которых приходится больше трети общего числа произведений фольклорной прозы, собранных на западном берегу Чудского озера) и анекдоты занимают более или менее одинаковое место в репертуарах старообрядческих и православных рассказчиков и рассказчиц. Волшебные же сказки или сказки о животных гораздо чаще встречаются у православных, среди которых записаны такие сюжеты, как «Жучка», «Кот-министр», своеобразный вариант состязания ерша со щукой в плавании, «Аленький цветочек», «Братец и сестрица», «Конек-Горбунок», «Правда и Кривда», «Царь Салтан», «Безручка» и «Снегурочка», в которой героиня растаяла в доме от печки. Все волшебные сказки, кроме последней, распространены и в эстонском фольклоре. Среди старообрядцев записан лишь один сюжет «животной» сказки, а из волшебных – «Царевна и служанка» и сказка о царевиче Коле, занимательные приключения которого содержат целый ряд элементов сказочной фантастики; в целом же они составляют настоящий авантюрно-сказочный роман. Бедность «мирской» фольклорно-прозаической традиции в старообрядческой среде могла быть обусловлена прежней нетерпимостью религиозно-бытовых установлений: говорят, что, по мнению стариков, рассказчицам (как и песенницам) угрожала слепота.
Лучшая же сохранность архаического сказочного материала у православных жителей Западного Причудья вполне соответствует общему характеру их фольклорной традиции, отличавшейся известной консервативностью обрядовых и песенных элементов. Итак, несомненно, что судьба традиционного устно-поэтического наследия оказалась более счастливой в православной среде. Этому способствовали различные факторы культурно-бытового уклада местного православного населения, среди которых немаловажное значение принадлежит гораздо меньшей (сравнительно с тем, что было у старообрядцев) строгости требований религиозного «благочестия», направлявшихся, помимо прочего, и на искоренение «мирского» (часто «языческого») начала в общественной и частной жизни.
В то же время традиционный фольклор старообрядческого населения Западного Причудья более беден архаическими элементами; старинное бытовое предание сохранялось им явно хуже, чем его православными соседями. Однако состав и характер устно-поэтической традиции в старообрядческой среде и изучены менее обстоятельно. Очень возможно, что у старообрядцев западного берега Чудского озера еще удастся обнаружить достаточно давние и интересные образцы фольклора, являющегося наследием древнерусской и собственно старообрядческой духовной культуры.
Наша публикация никоим образом не претендует на полное и обстоятельное освещение русской фольклорной традиции в Эстонии: по большей части здесь представлены сохранившиеся образцы традиционной обрядности и старинной песни. Однако она в какой-то мере подводит итог проделанной многими собирателями работы и может служить основой для дальнейшего собирания и издания фольклора русских старожилов Эстонской ССР. <…>
«Колыбельная» из Причудья 51
По характеру своего бытования, по диапазону социальных функций, которые он обслуживает, и по заложенным в нем возможностям познания и осмысления окружающей действительности фольклор представляет собой выдающееся явление культуры. Для того чтобы лучше понять специфику этого явления, есть смысл обратить внимание и на некоторые интересные особенности культуры тех социальных или религиозных общностей, которые не являлись хранителями традиционного фольклора и чье отношение к нему нередко носило характер явной враждебности.
В ряду противников традиционного фольклора видное место занимает русское старообрядчество, в полной мере унаследовавшее от времен «благочестия» и представление церковной иерархии о необходимости решительной борьбы с отклонениями от религиозно-бытового «благообразия» в народной жизни. По примеру Стоглава или постановлений церковных властей середины XVII века, ратовавших за прекращение народных празднеств и искоренение суеверий, многократные запрещения, вроде 18‐й статьи федосеевского «Польского» Устава, принятого в 1751 году,
Поющих песни бесовские, и играющих в карты, и в варганы, и в дуды, и бранящихся матерны, и пляшущих, и яицами катающихся и на качелях качающихся, и на масленой катающихся, да творят сии вси 500 поклонов до земли52, —
непосредственно касались именно тех бытовых явлений, которые в наибольшей степени были проникнуты традиционным фольклором.
Известно, с какой тщательностью регламентировалось бытовое поведение приверженцев «старой веры» и как сурово наказывались малейшие отступления от многочисленных «правил», распространявшихся даже на частности повседневной жизни. Особенную творческую активность в этом отношении проявляли руководители федосеевского согласия (к которым, кстати сказать, принадлежали и предки нынешнего старообрядческого населения Причудья53), что прежде всего было следствием бытовавшего среди последователей Феодосия Васильева представления о возможности замены «по нужде» причастия постом, молитвами, личными добродетелями и правыми делами54 – «воздержницы, подвижницы и жизнию своею спасаемся». Именно поэтому федосеевские начетчики настойчиво и обстоятельно занимались составлением (применительно к тем возможностям, которыми располагало их общество) различных «уставов», не только фиксировавших состав и порядок молитв, но и определявших собой обширный круг домашнего «богослужения». В этом обществе, чьим жизненным идеалом был монастырь55 и которое действительно пыталось основать свой быт на монастырских началах, не оставалось места народной, как, впрочем, и всякой другой «мирской», песне даже в домашнем обиходе.
Заменить ее был призван духовный стих56, который не без оснований считается ведущим жанром старообрядческого фольклора. Отчасти заимствованный из древнерусской «околоцерковной» литературы, отчасти вышедший непосредственно из старообрядческой среды, широко распространенный в старообрядчестве, духовный стих если и интересовал исследователей, то, как правило, лишь в качестве материала для иллюстрации специфического умонастроения, которым было проникнуто старообрядчество57. Со своей чисто литературной стороны, как и по особенностям бытового предназначения, старообрядческий духовный стих изучен совершенно недостаточно.
Что касается выяснения тех бытовых функций, которые в свое время обслуживались духовным стихом, то дело это сейчас, когда он почти не встречается в обиходе исчезающего старообрядчества, довольно трудное, но не совсем безнадежное, так как есть немало наблюдений и замечаний собирателей, сделанных еще во время его активного бытования. Зная их, нельзя согласиться с мнением известного знатока старообрядческого духовного пения В. З. Яксанова, который, специально останавливаясь на роли духовных стихов в воспитании старообрядчества, писал о них как только о «безобидном», хотя и «глубоко поучительном развлечении»58. Более верно, на наш взгляд, оценивал место и значение духовных стихов в «самом обиходе жизни старообрядчества» Я. А. Богатенко, говоривший о их бытовании не только в обстановке праздничного отдыха или семейных торжеств, например свадьбы, но даже во время работы59. Указания на это можно найти и в публикациях старообрядческих стихов60. Как это довольно часто бывает с произведениями, проникавшими в крестьянский обиход из иной среды и которые прикреплялись к обряду на основе тематического соответствия их характеру обрядного «действия» (показательно в этой связи повсеместное бытование романсов «Зачем ты, безумная, губишь» или «Подул осенний ветер с поля» в роли свадебных песен), духовный стих, вытесняя «мирскую» песню, тоже как бы «дифференцируется» по бытовому употреблению, хотя, конечно, «возможности» у него для этого куда более ограничены, чем у «городского» фольклора. Тем не менее духовный стих глубоко проник в повседневный обиход старообрядчества, обосновавшись и там, где бытовой «почвы» традиционного фольклора не коснулись разнообразные меры, предпринимавшиеся для поддержания религиозно-нравственного «порядка», пытаясь обслуживать те функции, которые, казалось бы, никак не относятся к сфере его «компетенции». Мы имеем в виду т. н. биологическую поэзию, как остроумно определил колыбельные песни один из их исследователей61.
В сборнике духовных стихов, полученном несколько лет тому назад проф. Ю. М. Лотманом из г. Муствеэ (б. посад Черный)62, среди таких популярных в прошлом у старообрядцев произведений этого жанра, как «Стих плача преболезненна кафоликов», «Стих о смерти» («Взирай с прилежанием, тленный человече»), «Стих о потопе» («Потоп страшный умножался»), «Стих о скончании света» («Егда приидет кончина всего света») и «Плач Адама», помещается любопытный и сравнительно мало известный «Стих колыбельный Исусу Христу»63:
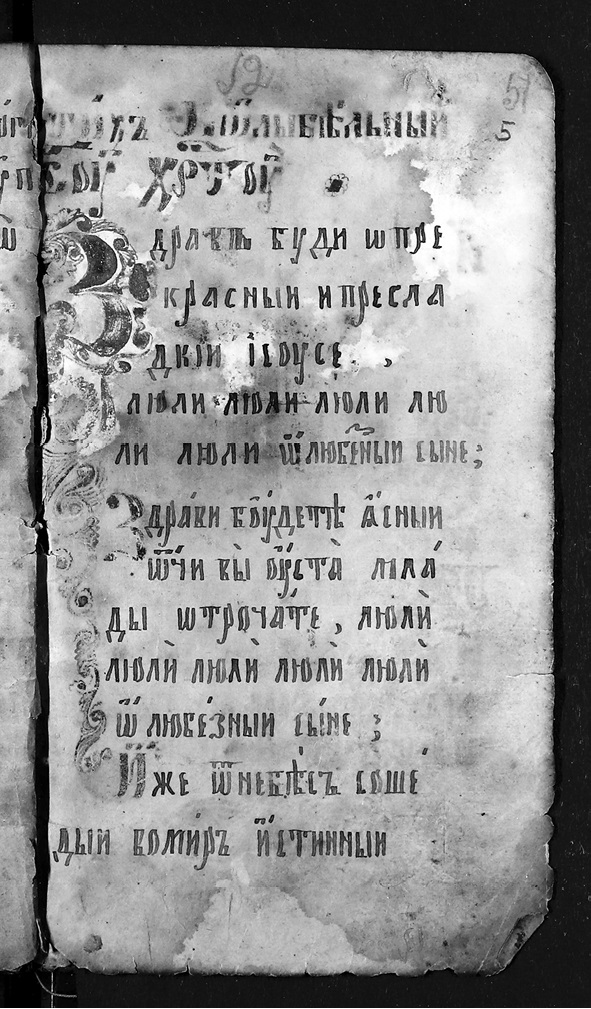
«Стих колыбельный Исусу Христу». ИРЛИ РАН. Древлехранилище им. В. И. Малышева. Причудское собрание. № 126. Л. 5 – 5 об.
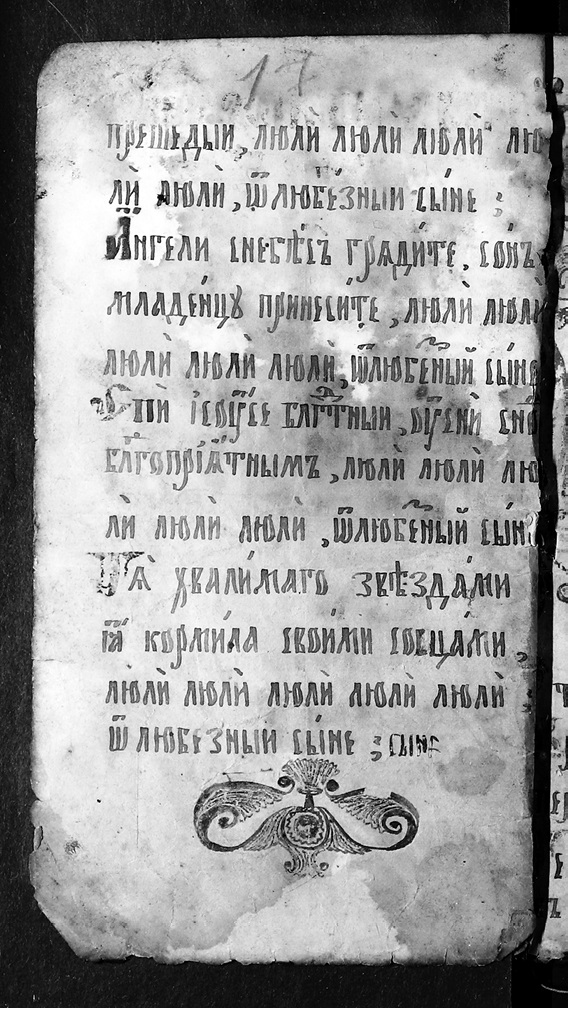
Здрав буди, о, прекрасныи
и пресладкии Исусе.
Люли́, люли́, люли́, люли́, люли́.
О, любезныи сыне!
Здрави будете, ясныи очи,
вы, уста млады отрочате.
Люли́, люли́, люли́, люли́, люли́.
О, любезныи сыне!
Иже от небес сошедыи,
во мир истинныи прешедыи.
Люли́, люли́, люли́, люли́, люли́.
О, любезныи сыне!
Ангели с небес грядите,
сон младенцу принесите.
Люли́, люли́, люли́, люли́, люли́.
О, любезныи сыне!
Спи, Исусе благодатныи,
усни сном благоприятным.
Люли́, люли́, люли́, люли́, люли́.
О, любезныи сыне!
Тя, хвалимаго звездами,
я кормила своими сосцами.
Люли́, люли́, люли́, люли́, люли́.
О, любезныи сыне!64
Трудно сказать, использовался ли этот стих в Причудье в качестве колыбельной песни – данных о его бытовании у нас нет65, – но то, что он вполне мог употребляться при убаюкивании ребенка, свидетельствуется сопроводительной заметкой к публикации того же текста Е. Р. Романова, который записал его у ветковских старообрядцев66.
Отличия «Стиха колыбельного Исусу Христу» от весьма немногочисленных в русском крестьянском быту колыбельных, содержащих в себе какие-то определенные реалии христианского «мира», как, например, текст, приведенный в одной из своих статей В. Н. Харузиной, сразу же бросаются в глаза:
Успения Мать
Уложи младеня спать
На тесову на кровать.
Уложи, усыпи
На всю темную ночь.
Как я байкала, качала
И Успенью завичала.
Богородица Мария,
Уложи дитя скорее
На всю темную ночь,
На весь белый день
Да на всю темную ночь.
Как я байкаю, хожу,
Да никому я не скажу;
Как я байкала, качала
Божьей милости начало67 —
Если в народной колыбельной Богородица лишь заступила место таких типичных образов «материнской» поэзии, как Сон, Дрема, Угомон или Кот68, которые призываются к ребенку для того, чтобы он заснул, то «Колыбельная Исусу Христу» всем своим содержанием, оформленным в стилистике торжественного красноречия, принадлежит к жанру духовных стихов. Это не просто ряд обычных «колыбельных» мотивов, в котором отразилось религиозное настроение матери, а – собственно духовный стих, по своему тематическому «сходству» с бытовым контекстом колыбельных песен проникший и закрепившийся в их сфере. Способствовала этому и вполне ощутимая тенденция его ритмики к сближению с обычным размером колыбельных песен, кстати, разного происхождения – четырехстопным хореем, который, по сути дела, «задается» ритмическими особенностями «припевов», состоящих из разных вариаций слов «лю́ли» или «бáю». Хотя и несомненно, что «Стих колыбельный Исусу Христу» написан т. н. виршевым стихом.
Точнее, не написан, а переведен, вероятно, с латинского оригинала, каким-нибудь южнорусским грамотеем XVII века. Еще П. А. Бессонов утверждал, что Стих этот – прямой перевод с латинского69, и даже сопроводил его публикацию текстом на латыни, который якобы послужил источником для «колыбельной». Очень может быть, однако, что латинский текст духовного стиха и составлен где-то на Украине: наличие в одном из рукописных сборников произведений «виршевой» поэзии вместе с русским вариантом «Стиха колыбельного Исусу Христу» латинского и греческого70 наводит на мысль о возможности его появления в результате версификаторских «экзерциций» какого-то православного (или униатского?) ученого монаха или одного из многочисленных в то время «школяров». Питомцы Киево-Могилянской академии должны были упражняться в писании стихотворений – на латыни и греческом языке71, и, естественно, приобретали определенный навык в этом занятии. Польско же католические образцы, под влиянием которых развивалась «школьная» гимнография, едва ли содержали в себе текст, аналогичный нашему «Стиху колыбельному Исусу Христу»72.
Конечно, не стоит совершенно исключать и возможность непосредственного перевода Стиха с латинского оригинала. Сомнения Е. Р. Романова в справедливости взгляда П. А. Бессонова на происхождение «колыбельной»73 кажутся неосновательными, тем не менее в бывших у нас под рукой антологиях латинской средневековой гимнографии X. А. Даниела, Ф. И. Монэ – просматривали мы и сборник латинско-немецкой религиозной поэзии Э. Э. Коха – подобный текст не зафиксирован.
Но даже если бы мы и не знали тех источников, из которых «Стих колыбельный Исусу Христу» был заимствован старообрядческой средой, он все равно заметно выделялся бы на общем фоне других духовных стихов своими особенностями, явно «несозвучными» характеру православной, в ее русской «редакции», религиозности, как народной, так и, разумеется, богословско-догматической. Прежде всего это касается характера обращения Богородицы к Христу, своею «интимностью» резко противоречащего традиционным для русского духовного стиха «плачам» и «молениям», с которыми Богородица только и выступает там в своем общении с Исусом. Хотя на Руси и были известны апокрифические сочинения, более подробно, чем каноническая литература, повествовавшие о земной жизни Христа и о предшествовавшей его рождению жизни самой Богородицы74, но, по справедливому замечанию Г. П. Федотова, народное творчество, проявившееся в духовных стихах, «разрешило» себе обработку лишь темы «страстей»75, отголоски которой проникли даже в описание младенчества Христа.
Совсем иной подход к этой теме свойственен обширному и детально разработанному циклу «рождественского» фольклора, бытовавшего в форме колядных песен на Украине, – здесь грозные предзнаменования будущих «страстей» отступают на задний план ввиду особенной важности самого события Рождества. В украинских колядках76 встречается и описание той же самой ситуации, которая легла в основу нашего духовного стиха, например:
А Марiя чиста
Сина пистує
При своєму сосцi,
Ёго пiтає:
«Ой, сину мiй, квiте райський,
Посiти мнi, во-зраильскiй,
Утiхо моя»77.
Обращение Богоматери к Христу в украинских колядках редко связывается с темой «плача» младенца, предвидящего свои будущие «страдания», что в большей степени присуще польским религиозным песням. Здесь «материнство» Богородицы чаще выражается как бы само по себе, не осложняясь другими темами «рождественской» легенды. Еще ранее, чем были записаны колядки, старинный духовный стих представлял общение Богоматери с Христом совершенно в том же духе:
Mapiя Дева ся притуляет,
Аби не змерзло, Дитя вкривает,
Притискает, притуляет,
Пилюшками обвивает:
Лю, лю, лю, лю, лю, лю, лю, лю78.
Заметим, что «убаюкивание» Христа Богородицей неизменно сопровождается в колядках указаниями на громкое пение ангельскими «хорами» вполне канонической молитвы «Слава в вышних Богу».
Подобное изображение Рождества, проникшее в самую толщу народных поверий и представлений, несомненно, могло способствовать созданию, не говоря уже о заимствовании из «латинской» поэзии, нашего Стиха, в котором сошлись воедино «славословие» Богу и «колыбельная» младенцу. И все-таки «Стих колыбельный Исусу Христу» уравнял такие, казалось бы, несовместимые значения в своем культурном контексте, как «аллилуйя» и «люли»79 – для его создания требовалась уже известная «легкость» в обращении со «святынями», что вряд ли допускалось ортодоксальным православием. Киево-могилянская «братия» вполне была в состоянии «отважиться» на это80.
Правда, продукт киевской «учености» не нашел применения себе на родине – практической необходимости в нем, по сути дела, не было: ни украинский «вертеп», ни «школьная» драма не давали по ходу представления слова членам «святого семейства»81. Почему же эта «псальма» была усвоена старообрядами? Как видно из разысканий В. Н. Перетца в области песенного фольклора, малорусские «вирши» и «псальмы» вообще оказали сильное влияние на старообрядческие духовные стихи, причем значительная их часть непосредственно вошла в религиозно-бытовой обиход старообрядчества82. Можно привести немало примеров заимствования произведений на религиозную тематику и из «светской» литературы.
Старообрядчество известно своей исключительной преданностью дониконовскому религиозно-бытовому укладу жизни. Его доктрина настоятельно требует от своих приверженцев безоговорочно отрицательного отношения к «внешнему» миру как к «царству еретических новшеств». Но в случае «нужды», которая по пословице «закона не знает, а через шагает», старообрядческие деятели не упускали возможности воспользоваться уже «готовым» решением каких-то проблем, неизбежно возникавших по ходу исторического существования старообрядчества. Когда же требовалось обосновать необходимость такого рода заимствования, то оно чаще всего лишалось своего самостоятельного культурного значения и объявлялось лишь «средством», с помощью которого достигаются цели, вполне соответствующие характеру данной культуры. Отбор «чужого» материала, когда в нем ощущалась определенная потребность, культурой – даже такой, как старообрядческая – регламентируется лишь самыми общими соображениями относительно его приемлемости – т. е. он не должен был содержать каких-нибудь «еретических» догматов.
Что же касается именно нашего текста, то на нем, возможно, лежала еще и некая «печать» «старины» – в том его списке, с которого началось «продвижение» «Стиха колыбельного Исусу Христу» в старообрядческую среду, вместо «православной» формы имени Христа «Иисус» могло стоять и «Исус», употребительное в южнорусской письменности вплоть до середины XVIII века83.
Надолго обосноваться среди старообрядцев «колыбельной» Исусу помогло утверждение ее в сфере «женского» фольклора: здесь содержание Стиха вряд ли вызывало недоумение, соответствуя представлениям о Богоматери как о роженице и т. п.84 в народных верованиях – вне зависимости от того, были их носители православными или старообрядцами.
Ориентировавшееся на «старую» книгу, старообрядчество оттуда же черпало не только образцы, но и материал для культивируемой у себя религиозной поэзии. Тексты тщательно записывались и сохранялись, что ставило их в один ряд с обращавшейся в старообрядческой среде церковной литературой времен «благочестия». Выполнять же они были призваны те функции, которые прежде в кругу людей, не причастных к церковной жизни, обслуживались лишь устной народной песней. Заменяя ее, духовный стих – по характеру своего бытования и месту в повседневном обиходе – становился фольклором.
Материалом нашей статьи послужили в основном те явления старообрядческой культуры, которые можно охарактеризовать как один из результатов сознательных усилий, предпринимавшихся с целью воплотить в реально существующей культуре представления о ее идеальном состоянии85. Старообрядчество, безусловно, стремилось организоваться на основах присущего ему самосознания, представлявшего свое общество единственным и достойным хранителем «древлего благочестия». В этой связи, хотя и на единичном примере, было любопытно проследить, как и с помощью каких средств пытались изменить реальный быт в соответствии с требованиями его «модели»86.
Из заметок о старообрядческой культуре: «Великое понятие нужды»
Изучение частных аспектов старообрядчества заметно опережает осмысление его как целостного явления культуры. Характер «творчества, образовавшего плотные общества с своеобразными формами», выдвинувшего «свой идеал жизни» и попытавшегося «осуществить его бытом и уяснить вероисповедной формулой»87, все еще не стал предметом серьезного и основательного анализа. А между тем внимание к особенностям этого творчества, его логике не только позволит уточнить сложившееся представление о сущности старообрядчества, о перспективах исследования его в типологическом плане, но наверняка будет полезным и для общей теории культуры, потому что дело касается самих принципов культурного строительства.
Основная проблема, которую церковный раскол XVII века поставил перед ревнителями «древлего благочестия», была проблема «спасения». Прежде это решалось довольно просто: исполнением определенных правил религиозно-бытового поведения. Однако теперь, когда «старая вера» постепенно лишилась своей опоры: иерархии (епископов и даже священников «древлего поставления» с дьяконами), – поневоле пришлось задуматься над тем, как в создавшихся условиях, с наступлением церковной «нужды», сохранить «благочестие» и тем самым обеспечить себе «спасение». Поэтому вопросы организации жизни в обстановке «гонительного» времени, ее культовой стороны оказались в центре внимания поборников «старой веры», стали предметом острых разногласий между ними и в конечном итоге привели к раздроблению их на отдельные, враждовавшие друг с другом «согласия».
Самые крайние варианты решения этих вопросов нашли выражение в религиозно-бытовых укладах нетовщины и беглопоповщины. Нетовцы как бы навсегда остались в том «бедственном» положении, в которое мирян, ревнителей «древлего благочестия», повергло установление «еретических новшеств» в русской церкви – свою «смертную нужду» они попытались восполнить духовно, символически (все внешние проявления «веры и жития» представали у них знаками «внутренней жертвы», приобщения к главнейшему христианскому таинству – по их мнению, «всяк день причащается» даже тот, «кто от своего труда питается»), а в остальном положились на Божию милость («на Спаса»). Беглопоповцам же, начавшим принимать к себе священников господствовавшей церкви, отрекшихся от ее «ересей», удалось сохранить возможность реального совершения почти всех таинств, и это, как они надеялись, должно было гарантировать им спасение. Противоположность укладов объясняется разницей во взглядах на характер переживаемого момента: если нетовщина считала его кануном светопреставления, временем царствования антихриста, то для беглопоповщины «плачевные» обстоятельства были явлением временным, «отступление» господствовавшей церкви в «ересь» отнюдь не представлялось окончательным и необратимым, а тем более это «отступление» не распространялось, по их мнению, на всю «вселенную». Отличия в мировосприятии сказывались и на отношении к своей «нужде»: одни понимали ее только как бедствие, несчастье (и все их внимание сосредоточивалось на причинах бедствия, источнике его – антихристе); другие же акцентировали в ней значение необходимости, потребности в чем-либо (и в связи с этим активно исследовали возможности ликвидации своей ущербности и достижения церковной «полноты»). Основываясь на соответствующих прецедентах в истории церкви, беглопоповцы нашли выход из создавшегося положения и воссоздали церковную «старину»: поначалу еще в виде «сельской» церкви (только со священником), но впоследствии – и в полном ее объеме, восстановив у себя епископский «чин».
Более сложной выглядит история двух крупнейших беспоповских согласий – федосеевского и поморского, которые, в отличие от нетовщины, не ограничились только надеждами «на Спаса». Лишившись «древлего священства» и ни во что не ставя «беглых» православных «попов», определенные круги поборников «старой веры», в которых решающий голос принадлежал, по всей видимости, церковнослужителям (причетникам) – тому «пономарю», что «один истинный и непоколебимый раб Божий <…> со своими христолюбивыми друзьями» остался «при запустении на месте святе»88, – обратились к различным исключениям из «правил» религиозного обихода и прецедентам церковной истории, свидетельствовавшим о возможности отправления культа без участия священнослужителей, и взяли их за основу своего религиозно-бытового уклада. Таким образом им удалось сохранить при себе два таинства (крещение – с опущением в нем полагающихся по «чину» слов священника, и покаяние – совершавшееся по образцу «старчей исповеди» в монастырях), а также – в соответствии с уставом келейной службы и указаниями общих уставов на особый порядок богослужений в монастыре (в случае временного отсутствия там священника) – воссоздать «соборную службу». То, что при «самом цветущем благочестии» было исключением (отступлением от нормального порядка), у поморцев и федосеевцев стало повседневным обычаем. Однако этот религиозно-бытовой уклад с самого начала предполагался обоими согласиями как временный.
В вопросе же о том, что ожидает ревнителей «древлего благочестия» в будущем, мнения федосеевцев и поморцев расходились: первые сразу же решили, что «церкви истинной нигде нет» и жили как «умершей матери сироты» – предчувствием надвигающегося светопреставления; вторые не теряли надежду на восстановление «церкви истинной», т. к. считали, что она «побеже в пустыню» и «скрывается» там во всей «полноте и нерушимости». Это, на наш взгляд, и предопределило различную судьбу первоначального религиозно-бытового уклада в обоих согласиях: когда в беспоповщине заговорили о необходимости восстановления таинства брака, поморцы и федосеевцы отнеслись к этому далеко не одинаково. Федосеевцы не признали действенность бессвященнословных браков, т. к. это было бы отступлением от «установлений предков», утверждавших безысходность «бедственного» положения беспоповщины в настоящем (и объявлявших «мертвым, неключимым и недейственным» все в «писании», что противоречило им – как возможное лишь во времена «благочестия», которые безвозвратно прошли). Поэтому ни о какой реабилитации семейной жизни в рамках федосеевской культурной традиции не могло быть и речи: признание федосеевцами бессвященнословного таинства брака неизбежно приводило к полному разрыву со своей культурой, о чем, помимо прочего, свидетельствовало и изменение в генеалогии «приемлющих брак»: «что вышло от наших предков, изложено в Книге Кормчей. Вот эта книга и является нашими предками. Нельзя считать предками лично наших дедов и прадедов»89. Среди поморцев же признание бессвященнословных браков происходило по мере того, как они разочаровывались в своих поисках «сокровенной церкви». Осознание ими себя как единственных в мире хранителей «древлего благочестия» в корне меняло смысл существования поморской культуры – из временного устроения она превращалась в преемницу «истинной церкви». В этой связи восстановление таинства брака у поморцев означало их переход к стабильному и благоустроенному (по образу и подобию «древлего благочестия») религиозно-бытовому укладу. О характере его благоустройства свидетельствует сам поморский «чин» брачного таинства: он создавался не на основе «исключений» из «правил», но – по аналогии со старинными церковными обрядами, которые только приспособлялись к возможностям совершения таинства простецом-наставником. Мысль о постигшем «старую веру» бедствии становится здесь лишь помехой инициативе, порожденной потребностью воспроизвести «древлее благочестие» в его «видимых» (вещественных) формах.
Мы рассмотрели если и не все, то, по крайней мере, основные тенденции в отношении противников никоновских «новшеств» к постигшему их «бедствию». Будучи поставленными в трудную, поистине трагическую ситуацию, они тем не менее продемонстрировали удивительную и весьма разнообразную изобретательность в создании таких религиозно-бытовых форм жизни, которые бы помогли сохранить «благочестие» и тем самым обеспечили бы им будущее спасение. Жизнестроительство определялось «великим» понятием «нужды»: оно то существенно ограничивалось и даже приостанавливалось – когда ревнители «старой веры» связывали себя представлением о «нужде» как о бедствии; то отличалось особой активностью, которую стимулировала потребность в восстановлении дониконовской церковной «старины». Сложная диалектика «случая» и «закона», «смотрительного» и «обдержного», исключительного и нормального лежит в основе любого из ответвлений старообрядческой культуры.
Об этой ее особенности когда-то много и подробно писалось, и мы в основном лишь напоминаем давно уже известные вещи, позаимствовав у одного из своих предшественников даже формулу, ставшую подзаголовком наших заметок90. Однако, заняв по отношению к старообрядчеству сугубо полемическую позицию, «расколоведы» были далеки от того, чтобы объективно оценить достижения старообрядческой мысли. До сих пор глубокий культурологический смысл выработанных ревнителями «древлего благочестия» концепций своего положения в мире остается не раскрытым. А между тем каждая из этих концепций развивает фундаментальное представление о том, что культура может существовать как бы в двух состояниях: нормальном, во всей своей «полноте» и совершенстве, и исключительном, когда стесняется и ограничивается исполнение правил («законов»), регулирующих поведение ее носителей (тогда-то и наступает та «смертная нужда», для которой «закон не лежит» и «чрез» который она «шагает»).
Это представление в той или иной степени свойственно любому обществу: примером тому – совокупность мер исключительного характера, применяемых государством в целях самосохранения, когда вследствие войны или народных волнений возникает угроза самому его существованию. Было бы любопытно сопоставить возникающую при этом ситуацию катакомбного существования и повышенной изоляции (или самоизоляции с целью самосохранения в условиях беззащитности) с тем бедствием, в которое поборников «старой веры» ввергли литургические реформы патриарха Никона. Можно, наверное, найти и более специфические феномены человеческой культуры, которые, подобно старообрядчеству, пытались или пытаются разрешить проблему сохранения своих ценностей в крайне неблагоприятных условиях, исходя при этом из принципиальной возможности жизнедеятельности общества как в рабочем, так и в аварийном режимах. Во всяком случае, это направление типологического изучения старообрядческой культуры представляется нам гораздо более существенным и корректным, чем традиционные сопоставления беспоповщинских «догматов» с протестантскими доктринами.
О влиянии старинной письменности на мировоззрение русских старожилов Прибалтики
Продолжая свои «очерки» русского фольклора Прибалтики91, предлагаю вниманию читателей обзор верований, которые выражают представления русских старожилов Прибалтики о будущей судьбе своего общества. Они имеют сугубо эсхатологический характер, так как наши информанты принадлежат к старообрядческой беспоповщине, а она всегда осознавала свое бытие кануном светопреставления, существуя в безотрадной атмосфере «антихристова царства», наступившего с утверждением «еретических новшеств» в русской церкви92. Поэтому речь пойдет о будущем всего человечества и мира в целом, которое предсказывается информантами исходя из того, каким изображает его авторитетное для них предание. Чаще всего это «святые книги»93: информанты будто бы только передают то, что «сказано»/«писано»/ «показано»/«предсказано» в «библии» или «писании». Среди старообрядцев «писание» всегда было предметом особенного уважения и легко может оказаться, что ссылка на «книги» является лишь своеобразной гарантией истинности собственных «лжеумствований»94 наших информантов. Какова же действительная природа эсхатологических верований русских старожилов Прибалтики? На этот вопрос мы и попытаемся ответить.
В эсхатологических верованиях наших информантов нет единства взглядов на судьбы мира и человечества. Сосуществуют несколько концепцией, среди которых наибольшим своеобразием (по отношению к древнерусской эсхатологии95) отличаются представления о будущем «конце света»: что означает здесь или гибель человечества, или мировую катастрофу вообще96. В популярных на Руси эсхатологических сочинениях и сказаниях этот момент особо не акцентируется – все внимание поглощено изображением обстоятельств пришествия и последующего суда над человечеством: решительные же перемены в природе имеют не столько катастрофический, сколько очистительный смысл, а уничтожение всего человечества к моменту пришествия предсказывается разве что в некоторых редакциях Вопросов Иоанна Богослова Господу на горе Фаворской97. Может быть, поэтому среди информантов и существуют разногласия о характере «конца света»: кое-кто из них просто говорит в этой связи о различных эпизодах традиционной эсхатологической легенды, которые с большим или меньшим на то основанием считаются поворотным пунктом в будущих судьбах мира и человечества – от появления «огненной реки» до «второго пришествия».
Тем не менее представления о «конце» человечества и даже мира («света») в целом у определенной части информантов существует уже как особая эсхатологическая концепция будущего «краха»/«всегубительства»/«погубительства». Самым же популярным образом «конца света» оказывается «большая»/«всемирная»/«страшная»/«последняя» «война», когда не только «все люди погибнут», но и «всё-всё погибнет: и люди, и звери»/«никого не будет и расти ничего не будет», а в довершение ко всему: «расколется земля на четыре части»/«бомба землю расколет до середины – вот и конец света». Однако видеть в представлении об этой катастрофической «войне» (ср. «не было свету конца и не будет – <вот> если только война») лишь позднейшую инновацию было бы неправильно. Дело в том, что «война» (вернее, войны) – это обязательный атрибут изображения мира накануне пришествия в старинной письменности, но, свидетельствуя о масштабах социального хаоса «последних времен», они предполагают в итоге только решительное сокращение численности людей (а отнюдь не уничтожение всего человечества). Иногда даже информанты, которые предсказывают гибель человечества во «всемирной войне», кажется, осознают несоответствие своих слов смыслу традиционной эсхатологической легенды: «если война – никого не останется: ни праведных, ни грешных», – говорит один информант и продолжает, – «а в писании сказано <только. – А. Б.>, что снидутся люди тогда из семи городов в один жить»98. Стоило, правда, подойти ко многим эпизодам войн, предсказанных старинной письменностью, в отрыве от их контекста, как они могли показаться действительно гибельными для человечества: такой, например, легко представляется брань трех царей в Житии Андрея Юродивого (или трех юношей бесстыдных в Откровении Мефодия Патарского), когда «не останется ни един же их»99/«не будеть в то время мужа добра, но вси будуть погибли»100. Мы можем с полной уверенностью судить о знакомстве некоторых информантов с Откровением Мефодия Патарского101. Не является ли и война «трех держав», вследствие которой – по одному высказыванию – «все люди погибнут», глухим отголоском изображения губительной брани трех царей в древнерусских литературных сказаниях; и не объясняет ли это происхождение столь необычного для традиционной эсхатологии образа «всемирной войны»? Во всяком случае, именно представления о «последних временах», сопровождающихся (по мнению информантов) последовательным разрушением мироустройства102, определяют значение «всемирной войны» как катастрофы для всего человечества: она является апогеем социального хаоса, который часто приобретает здесь самодовлеющий характер и развивается до своего внутреннего предела – т. е. «всегубительства». То же самое происходит и с изображением природного хаоса «последних времен», когда аномальные изменения в природе (например, если «солнце яснее будет, чем обычно, в три раза») способствуют мировой катастрофе: «свет от солнца загорится»/«свет сгорит в огне».
Но «всемирная война» (или «огонь») – не только крайнее бедствие «последних времен», приводящее к гибели человечества; это еще и наказание за то, что «люди отступили от Бога»: как и на «страшном суде», в такой «войне» «никто не спасется» (потому что «все мы грешные, нет негрешных»/«а нас теперь не прощает Бог – мы проклятые, грешные»). Этот смысл «конца света» особенно заметен, когда в его образе «всемирная война» объединяется с распадением или расколом «земли» (ср.: «земля разойдется, будет трескаться»/«расколется земля на четыре части» и др.) и потрясением «всей вселенной». И это не случайно: землетрясение – обычное наказание для отступников в эсхатологической традиции, которая предсказывает даже распадение целого города103. Сопровождается потрясением мира и само пришествие, которое у информантов иногда изображается на фоне как природного, так и социального хаоса: «небо потрясется, земля поколеблется», и вместе с тем «в семи градах и в семи селах пройдет война»104. А когда оно именуется «концом света», то в предсказаниях о нем полностью доминирует тема социального хаоса: «война всемирная начнется. На небе на востоке крест покажется. В одном конце будет свадьба, в другом – похороны». Все это порождается единством умонастроения информантов: ожидается не милость, но наказание, – в известном смысле концепция «конца света» как «краха»/«всегубительства» и т. п. соответствует духу древнерусских сочинений и сказаний. Мы только пытались показать, что и ее развитие определенно могло произойти на основе традиционной эсхатологической легенды.
Концепции «конца света», представляющей его наказанием за воцарившееся на земле зло, противостоит другой взгляд на будущую катастрофу, согласно которому она явится очищением мира, после чего сразу же должен наступить «новый мир» и пойти «новая жизнь». Одним из способов очищения мира у информантов выступает все та же «война»/«последняя война»: «если война наступит», то «может, два или три человека останется и пойдут новые люди, хорошие»/«будет последняя война. На земле останется девять человек. От них пойдет новая жизнь, выберут царя»/«будет <…> война. Тогда выберут царя и выберут такой род, который жить останется». Хотя формально такая «война» гораздо непосредственнее, чем гибельная для человечества «всемирная», напоминает собой многочисленные войны «последних времен» в старинной письменности – и там и здесь подразумевается лишь резкое сокращение численности людей; но функция ее оказывается куда более своеобразной: горстку остающихся в живых людей отождествляют с праведниками (которых и в случае «страшного суда» ожидается не слишком уж много). Так «одним» каким-то «родом»/«девятью человеками» и даже «двумя-тремя человеками» открывается «новая жизнь» – очередной этап в истории человечества. Зависимость представления о «последней войне» как о средстве очищения человечества от ее прообраза в книжном предании оказывается настолько сильной, что иногда сохраняется и память о последующих эпизодах эсхатологической легенды: в некоем, весьма отдаленном, будущем предполагаются и «второе пришествие», и «страшный суд». Это свидетельствует о том, что собственно война не является ядром концепции будущей очистительной катастрофы, а лишь только усвояется ею, и в виде «последней войны» как бы предлагается новое средство очищения мира.
В этой связи называют еще и «потоп», который – по образцу «Ноевого» – должен будет «за беззаконие погубить все». Конечно же, памятью о «Ноевом потопе» и определяются воззрения о периодическом очищении человечества от накопляющегося в нем «прегрешения»: «от Адама люди жили двадцать тысяч лет. За прегрешение он <Бог. – А. Б.> смыл всех с лица земли. (Остался только Ной с зятем. Когда на гору ходил судно строить – смеялись все)», – а «мы от Ноя живем» (ср. «озеро <имеется в виду оз. Разно в Латгалии. – А. Б.> образовалось от Ноевого потопа»/«латгальские холмы Ноевым потопом нанесены»/«батька наш – Ноев. Фамилия его такая, потому как от Ноевого потопа их род идет»), и потому – «конца света не будет, а перемены народу будут»: будь то от «потопа» (ср.: «может, опять потоп?») или от «огня» (т. к. Ною «сказали, что потопа не будет <…> – свет сгорит в огне»105). И чаще всего очистительную катастрофу, действительно, представляют в образе «огня»/«огненной реки», которая, помимо того, что «все пожжет»/«пожрет все соблазны» – «обновит землю» (это предсказывается и традиционной эсхатологической легендой), уничтожит заодно и «грешников»: «грешники сгорят» в ней, а «останутся одни праведники», «заселят землю» – «тогда-то на земле рай и будет». Концепция будущего очищения мира огнем поддерживается эсхатологическими представлениями раннего христианства106, восходящими в свою очередь к библейской традиции. Они не получили развития в древнерусских сочинениях и сказаниях на эсхатологическую тематику, и в них сохраняются лишь глухие отзвуки представлений о сгорании грешников в огне107 или о земном рае для праведников108. Отметим, однако, что даже идеи и не созвучные позднейшей эсхатологической легенде зачастую выражаются с помощью традиционных ее мотивов: помимо «огненной реки», в которую превратился здесь мировой огонь, и «креста» (он «будет ярче солнца и все расплавлять будет, пожигать. Святые невредимые останутся, а грешники сгорят»)109, укажем еще и на встречающееся у информантов изображение самого пришествия как источника возникновения очистительного огня: «Бог явится как молния110, и это <со>творится так быстро и так сильно, что об этом даже узнать нельзя. Кто грешники – сгорят в той молнии, кто праведник – останется в живых», – сообщая образному сравнению реальный смысл, информант возвращает пришествию библейский смысл наказания грешников111. Важно и то, что смысл очищения мира настойчиво пытаются передать привычной формулой, именуя его «страшным судом». Несмотря на исконную архаичность этой концепции, она определенно утверждается на основе традиционной эсхатологической легенды, тщательно используя те возможности, которые существуют в ней, для своего упрочения и развития.
Как и представления о «страшном суде» в виде мировой катастрофы, концепция будущего очищения мира существенно расходится с традиционной эсхатологической легендой лишь на сюжетном уровне, но и тут обе эти концепции как бы акцентируют ее отдельные моменты, придавая им сугубо самодовлеющий характер.
Значение традиционной эсхатологической легенды для представлений русских старожилов Прибалтики о будущем мира и человечества обусловлено широкой популярностью среди них самой этой легенды. Поэтому и ее эпизоды чаще всего сохраняют свой литературный облик: «последняя война» должна будет привести лишь к уменьшению численности людей (когда «останется одна страна» или «только один мужчина в целом свете»112); в «огненной реке» «грешные будут» только «мучиться», но и это необязательно: обычно предсказывается, что огонь их вообще не коснется – «люди» тогда «поднимутся на облака» (или, по словам другого информанта, «которые грешные – будут на облацех стоять, а праведные – на воздусях»113); «крест» же («восьмиконечный»), что «появится на востоке», будет единственно знаком «второго пришествия», которое, хотя и будет «как молния» («на востоке»/«от запада до востока»), но не приведет к немедленному уничтожению «грешников» и, несмотря на то что в момент «пришествия» – по традиции – «земля поколеблется» и «небо потрясется», собственно «конца света» в этой связи (как и ни в какой другой), конечно же, не предполагается.
Не «конец света» и не очищение мира огнем, а пришествие с воскресением мертвых и последующим судом над человечеством определяют эсхатологические чаяния большинства наших информантов. По их мнению, самые главные события будущего произойдут уже после того, как «с запада на восток»/«от востока до запада» «пойдет»/«потечет» «огненная река»/«огненное море», от которых «сгорит земля» (нередко предсказывается, что «будет гореть огнем <…> и вода»). Тогда «на востоке мы увидим крест» и «возгремит труба» – «все трубы и органы сверху загремят»/«архангел Михаил будет в трубу трубить»/«затрубят ангелы, архангелы»/«прилетят два ангела и будут держать в руках трубы. Один будет трубить в небо, а другой будет оповещать звуками грешных людей»114. Наконец, «воскреснут мертвые» («мертвые все встанут <или «восстанут». – А. Б.> из гробов»/«поднимутся из могил» – «войдут» «в свою плоть»/«в свои тела»)115, и «придет»/«спустится» «на землю» «Бог»/«Христос». Его пришествие скорее призвано внушить людям ужас («как молния появится на востоке»), чем вселить в них надежду – лишь однажды предсказывается, что тогда «петушок за тысячу верст пропоет, и свод небесный обелится». Ощущение собственной греховности («придут нас грешных судить») приводит многих информантов в отчаяние – ведь «суд» «страшный и будет»116: «в книгах сказано, что у людей волосы дыбом станут»117. Сам же «судья будет нелицемерный», а «суд» его – «праведным и честным»: «там никто уже не поможет – ни отец сыну, ни сын отцу»118. В результате «суда» «над всеми людьми – живыми и мертвыми» (мертвым «тоже будет суд: кто – в рай, кто – в ад») «будет разделение: праведных – направо, грешных – налево. «Вы делали дела хорошо, а вы – в муку вечную!»/«грешные пойдут в котел кипеть, а правильные – по праву сторону, в рай. Суд разберет, кого куда». «Петр и Павел – главные апостолы» – «будут стоять у врат рая, пропускать народ святой. У врат ада – змея. У змеи жало открыто длинное. И будут через него проходить грешники в ад».
И начинается «новая жизнь» разделенного на «праведников» и «грешников» («праведников от грешников Христос как молнией отсекает») человечества: первые с этих пор будут вечно жить в «раю», а последние – в «аду». Каким же представляется этот «иной»/«новый» мир для людей нашим информантам?119 В образе «рая», где «все хорошо», отчетливо воссоздаются традиционные черты «господнего сада»: «в раю – ангелы <…>, растут разные деревья, плоды»/ «в раю – и птицы всякие, и цветы»/«хрухтов много». «Очень красивая» обстановка соединяется с «полным удовольствием» райской жизни: «нет зла, нет зависти»/«там покойно все» – «кто честный, тот будет в раю в покое лежать»120/«сиди да песни пой». Совершенно иным выглядит у информантов «ад»: вместо «вечной жизни» в «раю», здесь – «плохая жизнь»; там – «очень красиво», в «аду» – «очень страшно»: «текут огненные реки, реки змиев»; если в «раю» – «ангелы», то в «аду» «живут бесы». Основным же пунктом противопоставления «ада» «раю» оказывается положение в них человека: «грешника» «на посылках замучают», тогда как «праведнику» предлагается «покой». Не привычные «муки», ожидающие людей в «аду» (называются, кстати сказать, только «котел» и «смола», которую на «грешника» «будут лить»), но зловещая необходимость для них быть там в постоянном (ср.: «на посылках замучают») движении – вот что в первую очередь тревожит воображение наших информантов: «сатана хочет, чтобы ему было на ком ездить и кого мучить». Таким образом, адская жизнь – это жизнь беспокойная: целиком подчиненная чужой, злой, воле (помимо самого «сатаны», еще и «бесам» (которые «на людях бочку со смолой <…> возят»), она будет состоять из «вечной муки» движением121. Что касается пространственного приурочения «рая» и «ада» нашими информантами, то по отношению друг к другу они занимают прямо противоположное положение: напомним, как «праведные» после «суда» должны будут «пойти – направо», «грешные» же – «налево»; это естественно трансформируется в противопоставление верха низу – о чем судят по изображению «рая» и «ада» на иконах – «вот у нас икона есть – „Страшный Суд“: больше ста лиц. Рай наверху, ад внизу». Конкретным же содержанием эти понятия верха и низа, как правило, не наполняются: если известно, что «рай на небе», то «ад – неизвестно где»; а когда говорят, что «ад – могила» (ведь «могила – по-еврейски: ад»122), то не определяют местонахождения «рая». Гораздо определеннее у наших информантов выражается стремление подчеркнуть, что «рай» и «ад» располагаются не здесь, но в ином мире («рай на небе – всё на том свете, и ад, наверное, там где-нибудь») или, по крайней мере, помещаются на периферии, в огромном удалении от человеческого мира – по пословице: «рай – самый край: сиди и песни пой: ад – самый зад: на посылках замучают».
Предсказания будущего суда над человечеством, за которым последует раздельное существование «праведников» и «грешников», в целом довольно-таки схематичны и, переиначивая одни подробности своих источников, не передают другие, подменяя их более привычными для информантов поверьями. Однако именно это и свидетельствует о том, что древнерусское эсхатологическое предание не только известно, но и усвоено нашими информантами, сохраняясь среди них в типичном облике народного верования.
Таким образом, все существующие здесь концепции будущих судеб мира и человечества развиваются в кругу традиционной эсхатологической проблематики, реализуя собой те «наброски, возможности нескольких систем»123, которые заложены уже в самой старинной письменности. Поэтому образ будущего у русских старожилов Прибалтики неизменно оказывается сотканным из мотивов, образов и деталей, почерпнутых в основном из древнерусской литературной традиции124.
Последние времена
Острые вспышки ожиданий «конца света» и «страшного суда» свидетельствуют о том, какую важную роль играет эсхатология в русской культуре.
Определенное представление о типичных для нее эсхатологических умонастроениях могут дать материалы, собранные в 70‐е годы студентами Тартуского и Латвийского университетов среди русских старожилов Прибалтики. Они принадлежат к старообрядческой беспоповщине, мировоззрение которой сохраняет и усугубляет эсхатологическую ориентацию древнерусского сознания125. Если для христианства вообще «история <…> длится под знаком конца»126, то старообрядцы-беспоповцы с самого начала существуют накануне светопреставления – в безотрадной атмосфере «антихристова царства», наступившего с утверждением еретических «новшеств» в русской церкви127. «Глубокий и радикальный пессимизм», который А. А. Потебня считал «характерной чертой тех слоев народа, для которых наибольшее практическое значение имеет поверье, обычай и вообще народная поэзия»128, составляет суть старообрядческой культуры.
Высказываясь о будущих судьбах мира и человечества, информанты стараются подчеркнуть соответствие своих слов тому, что «сказано» / «писано» / «показано» / «предсказано» на этот счет в «святых книгах» – «библии» или «писании». Предпочтение «книг» другим источникам знания о будущем имеет принципиальный характер. Считается, что в настоящее время иначе, как «по книгам», предвидение просто невозможно: если «раньше явления были», «пророки <…> пророчили», то «теперь явлений нам не будет – нам даны только книги». Вот почему информанты крайне редко облекают свое предсказание будущих судеб мира и человечества в апокалиптическую форму, зато настойчиво подчеркивают его книжную природу.
Практически же ценность «книг» заключается в том, что они указывают «приметы» (признаки) «конца света». Такие «приметы» имеют особое значение в общехристианской эсхатологии: писание умалчивает о времени мировой катастрофы – сообщается только ряд признаков, по которым можно судить о ее приближении129. В соответствии с этим «книжные» признаки грядущего светопреставления становятся важнейшим элементом эсхатологических верований старообрядческой беспоповщины. Даже те информанты, которые, вопреки писанию, все же называют точную дату «конца света»130, обосновывают свое мнение не столько хронологическими выкладками, сколько приурочивая к предсказанному ими моменту появление традиционных «примет» светопреставления.
А так как «конец света» чаще всего представляется здесь событием ближайшего будущего, то и его признаки связывают с современной обстановкой. Считая, что в них подразумеваются предметы и явления окружающего мира, информанты используют «приметы» «конца света» как ключ к познанию и оценке окружающей действительности.
Особенно показательно восприятие информантами различных новшеств. «Всякая мелочь, прежде невиданная, предвещает конец света»131, потому что отождествляется с какой-нибудь из его «примет». Вот и «телевизор» уже успели истолковать таким образом, будто бы он воплощает в себе предсказание «писания» о том, что накануне светопреставления «с неба посыплют огненные стрелы, загремит, да взыграют струны»132: «огненные стрелы» как бы соприсутствуют в изображении на телевизионном экране, а «струны» ассоциируются со звуковым сопровождением. Аналогичным путем эсхатологические прообразы устанавливаются и для других новинок и нововведений.
Однако далеко не все «приметы» «конца света» представляются образным подобием определенных предметов и явлений. Многие из них (и очень важные – например, предсказания «войн» или торжества «греха» и «безбожия») просто отождествляют с фактами современной жизни, что особенно подчеркивает ее сходство с «последним временем». Более того, само отношение «примет» к действительности может быть неоднозначным: наряду с всеобъемлющей метафоризацией мира вещей для старообрядческой эсхатологии характерна и реализация традиционных «примет» – метафор, когда с забвением внутренней формы используется их прямое значение – в результате нейтральный прежде предмет наполняется сугубо эсхатологическим смыслом. Так, предчувствуя обещанный «святыми книгами» перед «концом света» «голод», одна информантка называет среди признаков будущего «неурожая» и «паутину на смороде». Столь многозначительной эту мелочь делает буквальное понимание давней и все еще популярной «приметы» «конца света» – «паутины», которой (как и «путам»/«кишкам») обычно уподобляются «провода» («железная проволока»), «телефон» и т. п. А возможным такое обращение с традиционной «приметой» стало потому, что забывается один из основных мотивов старообрядческой эсхатологии, изображающий окончательную победу зла перед светопреставлением в виде опутывания мира антихристовой сетью133. Среди различных вариаций этого мотива (ср. уподобление «проводов» непосредственно сети134) «паутина» и встречается чаще других, и происхождением своего эсхатологического смысла, по-видимому, обязана тому же кругу представлений, что и сеть. Если сетью/сетями обозначались дьявольские козни (так как считали, что главные усилия дьявола направлены на уловление душ135), то с ними связывалась и «паутина». Вот эта мировоззренческая основа уже не ощущается нашими информантами. Поэтому образ «паутины» утрачивает свою смысловую структуру, что и приводит к его произвольному истолкованию.
Пример с «паутиной на смороде» – далеко не единственное свидетельство тому, что среди информантов зачастую отсутствует правильное понимание смысла старинной эсхатологической образности (и прежде всего – ее слоя, восходящего к традиционным представлениям о дьяволе). Это же проявляется и в неожиданных сближениях разнородных эсхатологических образов. Так, например, «провода» предсказывались «старыми людьми» еще и в виде «змей», которыми «будет <…> вся деревня проедена». Некогда с этим действием «змей» / «змея» («змий» – обычный для христианской культуры образ дьявола) связывалась совсем иная по своему характеру символика светопреставления – ср. высказывание «столовера» в рассказе Алексея Ремизова «Пожар»: «расщепился на Москве царь-колокол на мелкие осколки, и каждый осколок в змея обернулся, и уползли змеи под колокольню Ивана Великого. Колокольня качается, а как грохнет <…>, наступит всеобщее скончание живота»136. Лишенное же этого контекста действие «змей» (здесь – «проевших деревню») оборачивается «приметой» «конца света», подменяя собой традиционную в таких случаях «паутину» (о которой тем не менее напоминается в указании на зловещее свойство «проводов»: «деревня опутана ими»). Хотя минимального внешнего сходства «проводов» со «змеями» оказалось достаточно для того, чтобы с помощью этого образа указать на эсхатологическое значение очередного предмета действительности, о его символической природе информанты, кажется, и не подозревают. Он стал расхожим штампом, который применяют к самым разнообразным новшествам – от самоваров (что «змеями» «перед концом света <…> на столах сипеть будут»137) до «самолетов»138 – скорее по привычке и о чьем содержании не задумываются, довольствуясь его традиционной эсхатологической окраской. Можно сказать, что в современной старообрядческой эсхатологии образ змей (как и образ «паутины») является реликтом прошлых верований, когда во многочисленных «змеях» легко угадывалось наступление царства антихриста (дьявола).
Характер эсхатологической образности, символизирующей дьявола, по-видимому, связан с тем, что сам этот персонаж христианской мифологии не находит себе места в мировоззрении многих наших информантов: концепцию внешнего (по отношению к человеку и обществу) отрицательного/разрушительного начала в мировом процессе, которое традиционно олицетворялось образом дьявола, вытесняют представления совершенно иного характера, усматривающие источник зла внутри человеческого общества – в людях. В противовес привычным для народной религиозности (хотя и довольно редко встречающимся по нашим материалам) суждениям о жизни как об арене борьбы внешних сил – Бога и дьявола (ср.: «говорят, есть два царства, богово и чертово. Бог держит людей в мире, черт делает все наоборот» / «промеж <„Богом“ и „нечистым“. – А. Б.> война идет»), развивается идея сугубо человеческой ответственности за деградацию общества в «последние времена».
Она принципиально отличается от воззрений (бытующих и среди определенной части наших информантов), по которым зло исходит от людей, ставших орудием вредительской деятельности дьявола. Согласно этим воззрениям, любой поступок, вплоть до систематического отступления от предписанных норм человеческого общежития («если мы живем и не делаем, как в книге писано…»), объясняется дьявольским обольщением («сатана соблазняет на зло» / дьяволы «направляют на богопротивное дело» – «сатана народу дает плохой ум» и вообще «смущает людей на все дела»). Не важно, «живет ли дьявол» «меж людьми» или же «вселяется в них (что чаще всего изображается так, будто бы он «в воде сидит и людей ловит», а «напьются люди воды – тут и ссора, драка в семье»), инициатива зла принадлежит только внеположному разрушительному началу. Эсхатологическим смыслом эти воззрения наполняются, когда обольщение представляют уже не выборочным (ср. поверья о колдунах и пр.), а всеобщим – «все мы теперь в руках его <дьявола. – А. Б.>».
Идея же саморазрушения человеческого общества возникает на почве иных демонологических мотивов. И если в высказываниях тех, кто считает людей самостоятельным источником зла, какие-то моменты напоминают представления о дьяволе-соблазнителе, то это сходство является совершенно случайным. Так, когда один из информантов заявляет, что «теперича уже не черт нами владеет, а люди – чертом», – он вовсе не имеет в виду исконный смысл обладания «чертом» (по народным верованиям – специальными чертями-помощниками дьявол наделял колдунов), но пытается выразить мысль об особом, превращенном, характере «последних времен». Именно она и определяет последующее обращение информанта к студенткам: «сами вы моду выставляете, в штанах ходите», которое заключается многозначительным указанием на то, что дьявол в настоящее время бездействует: «черт» здесь только «смотрит и радуется».
Это представление о бездействии дьявола неразрывно связано с идеей саморазрушения человеческого общества: «ходит черт и жалуется – нечего ему делать: всю его работу делают люди». Причем говорится уже не о «вредительстве» отдельных лиц (какого-то конкретного «паскудного человека») или определенной категории людей («нехороших»/«злых» и т. п.), а о поголовном приобщении ко злу, когда «каждый человек – другому первый враг». Поэтому все человеческое общество начинает изображаться по образу и подобию «нечистой силы»: сменив в качестве разрушительного начала дьявола, люди «уподобились бесам» до того, что даже внешне походят на «чертей» – «сами черные, глаза красные», но, главное, они не хотят «осенять себя крестным знамением», так как «после Никона» «все – дьяволы».
Осмысляя переход инициативы зла к людям как подмену человеческого общества «чертовым царством», информанты исходят из представлений о всеобщем превращении, которым охвачен мир накануне светопреставления. Те же представления обычно сказываются и в объяснении причин саморазрушения человеческого общества: «люди» не просто «перестали бояться черта», но теперь уже «черти нас боятся» и поэтому – «бес от людей ушел» / «антихрист схоронился (…) от людей». Однако сама мысль о том, что люди стали автономными источниками зла, вовсе не является продуктом современного эсхатологического сознания. И когда одним из информантов предсказание о бездействии дьявола возводится ко времени Андрея Юродивого («в ранние годы бес сидел на камне и плакал. Приходил Андрей Уродлив, спрашивал: „Бес, что ты плачешь?“ – „Эх, скоро нам работы не будет, некого будет соблазнять. Интерес кого от церкви отбить, смутить“»139), то это только подтверждает давность нынешних представлений. Старообрядческая эсхатология развивает некоторые положения средневековой народной религиозности, по которым дьявольская деятельность направлялась исключительно на преодоление благочестия («интерес кого от церкви отбить, смутить»); праведники окружались искушающими их бесами, тогда как у грешников им было нечего делать140. Ощущение всеобщей греховности, принимающей с приближением «конца света» беспрецедентный размах, актуализирует эти идеи о возможном самоустранении дьявола от вмешательства в человеческую жизнь и концентрирует внимание информантов на внутренних причинах зла, царящего среди людей.
Общемировоззренческий смысл подобного умонастроения раскрывается в его отношении к категориям естественного/сверхъестественного и видимого/невидимого, которыми по традиции оперирует мышление данной среды.
Так, убежденные в исключительной греховности современного общества информанты считают, что сверхъестественный мир добра и благодати (Бог, ангелы, святые) ныне уже ничем не проявляет себя в человеческой жизни и вообще делается невидимым для «забывших Бога» людей. Если «Исус Христос шесть недель, от Пасхи до Вознесенья» и «ходил по земле» (другой информант даже утверждает, что это «раньше Бог ходил по земле»), то «никто его не видит, так как все грешные». Только «лжепророки» «говорят, что видели Бога или Исуса Христа, но это – неправда»: «Христа никто не видит». То же самое говорится и об «ангелах», которые «ни к кому из нас грешных не являются» (да и в будущем «нашему брату ангела не придется увидеть»); и о «святых», что «раньше <…> по земле ходили»141 и чьи «явления» «раньше праведным были», а «теперь – нет»; и даже о том, что сейчас «и явлений чудотворных икон нет». В общем, как утверждает один информант, «никаких явлений нам не будет»142.
О современном же состоянии сверхъестественного мира зла и скверны мнения информантов существенно расходятся. Многие убеждены в том, что его отличает неизменная явленность людям – «нечистая сила» и «сейчас встречается», как она «встречалась» когда-то «в прежность». Таким образом, невидимому сверхъестественному миру добра противостоит видимый («до конца света») сверхъестественный мир зла: «бесов многие видели, ангелы никому из нас грешных не являются». Эта коллизия, конечно, способствует объяснению греховности человеческого общества воздействием на него извне, со стороны представителей сверхъестественного мира зла. Однако не меньшее число сторонников имеет другая точка зрения, согласно которой и мир зла становится невидимым для людей: «нечистая сила» «раньше, говорят, в прежности была» и «бесы являлись в разном виде», а «сейчас нечистой силы нет». Едва ли авторы подобных высказываний просто «берегутся» от «нечистой силы» (как известно, «про дьявола говорить грех – они ждут, кто про них вспомнит»)143 – ведь речь идет уже о том, что весь сверхъестественный мир, прежде (когда «и святые, и бесы по земле ходили») имевший непосредственное отношение к человеческой жизни, «являясь» людям и «направляя» их или на «богоугодное», или на «богопротивное дело», «теперь» совершенно отвернулся от них. Этой не-явленности сверхъестественного мира оказывается достаточно, чтобы объявить его несуществующим, так как критерием существования признается лишь видимость деятеля (предмета) явления. И «черта нет, поэтому его никто не видел», и потусторонняя жизнь вызывает сомнения: «оттуда никто не приходит и нам не рассказывает», – кругозор информантов принципиально ограничен видимым миром («на небо» ведь «не полезешь»). Только в таком контексте выявляется истинное значение многочисленных указаний информантов на отсутствие «нечистой силы» в настоящее время.
Связываясь с мыслями о нынешнем «прегрешении народа», эти воззрения оборачиваются идейной проблематикой ухода дьявола от людей и т. п. Но невидимость сверхъестественного мира иногда обусловливается иными обстоятельствами – например, невозможностью увидеть его представителей: человек обязательно «умрет» при виде как «ангельской красы», так и «черного, некрасивого, страшного сатаны» (впрочем, по другим сведениям, он бывает наподобие «ангела»: столь же невыносимо «красив»144). Разнообразие мотивов, объясняющих невидимость сверхъестественного мира, лишь подчеркивает исходный характер этого представления, которое, по сути дела, и определяет идею сугубо человеческой ответственности за состояние своего общества.
В собственно эсхатологическом плане ей более всего соответствует отрицание предопределенности светопреставления и связанных с этим хронологических выкладок: «конец света» «пошлется нам за большое беззаконие», но, когда точно «Господь не сможет с нами совладать» и «разгневается на людей», неизвестно. Это зависит только от «поведения людей» – «Бог сказал: „Глядя по людям – и убавлю, и прибавлю“». Сам же принцип человеческой самодеятельности вовсе не исключает возможности существования среди людей инициативы добра. И действительно, есть информанты, которые считают, что если люди будут «веровать», «усердно молиться», «народ будет жить лучше, крепче веру держать», то «Бог» «прибавит веку» / «продлит <…> время жизни еще дольше» и «конец света наступит не так скоро» – «отодвинется срок». Однако старообрядческому мироощущению более свойственно наделять людей инициативой зла, что ни в коем случае не «отодвинет», а, наоборот, должно приблизить «конец света»: «а может, это и раньше случится» – «люди» обязательно «будут сильно грешить», так как «живем в самом страшном времени».
Вся изображаемая информантами картина человеческих «прегрешений» и «беззаконий» делает «маловероятной» надежду на то, что «Бог продлит <…> время жизни»145 – люди должны быть «готовы всякий день, всякую минуту ко второму пришествию»146.
Важнейшим нарушением «прежнего закона» считается отход человечества от религии. Иногда его представляют еще только как ослабление «веры»: «раньше вера крепче была», а «мы остываем» и «не будет теперь вера возобновляться, на ущерб пошла» – «дети еще держат веру, а внуки совсем из формы выйдут». В этой связи приводится и соответствующее предсказание «писания»: «почему меньше верить стали? А в писании так и написано: „Храмы ваши опустеют, меньше будет в ваших храмах приходящих и молящих“»147. Чаще же говорят не об ослаблении «веры», но о полной утрате ее. Поэтому видоизменяется и характер того, что некогда предсказывалось «святыми книгами», – в них, оказывается, «было написано»: «…опустеют ваши храмы, не будет в них ни приходящего, ни молящего». Так оно и вышло: «некогда и некому молиться» / «некому молиться, и люди знающие теряются».
Тем не менее информанты редко говорят о современном безверии человеческого общества. Мысль о том, что «сейчас <…> ни во что не верят», постоянно опровергается указаниями и на «смешение веры», и на существование «перед концом света на земле семидесяти семи вер», а самым популярным является представление о распространении лжеверия в «последние времена». Вместо «Бога» «теперь в космос верят, в радио, в телевидение». «Кино» становится храмом «лжеверы»: «теперь народу больше в кино хочется, чем в церковь», и «детей с малых лет» «ведут <…> не к божьему служению», а «в кино». Истинные же «храмы», как и предсказывалось, «превратились в хранилища и в места для бесовских игр»148. «Не будет ни ладана, ни кадила, а будет только табачное курило», – говорит один из информантов, используя давнюю старообрядческую характеристику православия149: как и в прошлом, этой формулой пытаются изобразить антимир, порожденный лжеверием.
Лжевера привлекает «бессмысленных» прежде всего своей видимой легкостью: отступают, «чтобы как легче было». Однако, с точки зрения «знающих людей», любое облегчение жизни неизменно сопровождается утратой «веры». Вот, например, «сейчас человек мало работает – за него все машины делают»: «…у меня плита газовая <…> – чирк спичкой – она сама и горит, и варит. Раньше человек все сам делал, пешком ходил пятьдесят-шестьдесят верст, если коня у него нет, а теперь на машине едет. Людям теперь легче работать». Но именно поэтому, заключает информант, и «праведных меньше стало». Более того – «вера» делается просто ненужной: «у Бога помощь просили» в прежней «тяжелой жизни», а «теперь» – «не верят». Такая «легкая жизнь» и является той «хорошей жизнью», которую антихрист «сперва даст людям…».
Сам же образ антихриста, этого лже-Христа христианской эсхатологической легенды, среди наших информантов помнится довольно плохо. «Антихристом» чаще всего называют или любого представителя «нечистой силы» («много было разговоров об антихристе – все больше про домового») или «самого главного среди бесов» («сатана и антихрист – одно и то же. Антихрист – это по-новому, по-научному. Антихрист – значит: анти+Христос, т. е. не спаситель, а враг рода человеческого – дьявол»). Значительно реже слово «антихрист» понимается в его общем значении: «по грамматике – тот, кто не верит в Христа» / «сама по себе объясняет частица «анти», т. е. это – человек, идущий против Христа», а также – «кто в Бога не верует», или, наконец, «антихристом звали каждого, кто не староверческой веры». В этой связи некоторые информанты вспоминают патриарха Никона, которого их предки «антихристом называли»150, – и если одни продолжают видеть в нем «антихриста» (т. к. Никон «еретик был, самый главный-от»), то другие считают, что «Никон им <„антихристом“. – А. Б.> не был: «он ведь не шел против, а только изменил книги» (или – «только молитвы изменил»).
Почему же в высказываниях информантов традиционный образ антихриста (в христианской эсхатологии это совершенно особый человек греха, через посредство которого и будет действовать дьявол перед светопреставлением) так часто подменяется более заурядными врагами истинной «веры»? Дело, наверное, в том, что все наши информанты являются старообрядцами-беспоповцами, а беспоповщина (как федосеевцы, так и поморцы) основывает свое существование на учении о т. наз. духовном антихристе: согласно этому учению антихрист воцарился в русской церкви с 1666 года и царствует духовно, проявляясь в ересях, которые содержит послениконовское православие. Таким образом, под антихристом здесь понимается не особый человек, но – дух зла, что в значительной степени способствует отождествлению антихриста с «нечистой силой». Может быть, поэтому и встречаются высказывания, где об «антихристе» говорится, что это – «дух», «черт» / «черт, невидимый дух» / «нечистый дух». Во всяком случае, «чертом» «антихриста» считают даже те, кто утверждает, что он «появился в 1666 году, должен был появиться после Никона». Этой эсхатологии без антихриста очень соответствует характер одного из отголосков популярной в прошлом легенды о царе Михаиле151: говоря о том, что «конец света» будет, когда придет царь Михаил, сядет на престол, сложит над головой руки и скажет: «Больше не могу», – информант переиначивает кульминационный момент старинного сказания, где Михаил «снем <…> с себя венець и возложит на крест, все людем видящим, и воздев руце свои горе на небо и даст царство Богу и отцу»152 в преддверии царствования антихриста; здесь же, вместо этого, наступает светопреставление.
Тем не менее традиционный образ антихриста все же сохраняется в памяти отдельных информантов. Однако представления «знающих людей» об антихристе носят, как правило, весьма общий характер: «скоро народится» / «родится в народе» «антихрист»; он «будет людей совращать» / «всех будет обращать в свою веру» – «будет выдавать себя за Христа и смущать верующих»; «кто ему поверит, тому он деньги даст, а кто – нет <…> того антихрист будет долго мучить» (или даже «уничтожит»), – вот и все сведения, которыми обычно на этот счет располагают информанты.
Лишь в одном высказывании христианская эсхатологическая легенда излагается более или менее подробно: «…объявится на земле антихрист <…> Праведные пойдут на службу к нему, а в заверенье разрежут мизинец и подпишутся кровью своей – значит, служить ему будут верой и правдой. Тогда гром загремит, Илья спустится. Он и сейчас гремит там – слышно его. Сильная битва будет Ильи и антихриста и отрубит антихрист Илье голову». Следует обратить внимание на то, как здесь представляются известные эпизоды этой легенды: наложение антихристовой печати превращается в заключение договора с «нечистой силой», который обычно скрепляется распиской, подписанной кровью из мизинца153; а упоминая из обличителей «антихриста» только одного – Илью, информант как бы воссоздает поединок бога громовержца (ср.: «он сейчас гремит там <на небе. – А. Б.>») с его противником – змеем154, но с характерным для эсхатологического контекста финалом (победой «змея»/«антихриста»). Под влиянием традиционных верований происходит фольклоризация христианской эсхатологии. Любопытно, что именно в усвоении традиционного образа антихриста народная эсхатология более, чем когда-либо, основывается на фольклорно-поэтических представлениях (ср. еще изображение антихристова царства: «три с половиной года будет править антихрист – три года не будет кукушка куковать, шесть годов соловей не будет петь»155), хотя обработка литературного предания в собственно фольклорном духе в общем не характерна для эсхатологических верований наших информантов.
Отголоски легенды об антихристе встречаются и за пределами ее непосредственного отражения в высказываниях информантов. Так, например, лжезнамения, которыми антихрист – по сказаниям о нем – привлечет к себе человечество, превращаются в обычные «приметы» «конца света»: «написано, что вокруг земли будут летать»156; «когда изменят луну и солнце, тогда – и конец света»157. Однако субъект действия здесь выражен в неопределенно-личной форме, что уже может свидетельствовать о забвении источника этих «примет». Окончательно же всякая связь с антихристом теряется при их истолковании: предсказанное изменение «луны и солнца» видится, к примеру, в том, что «человек – на луне, скоро и до солнца доберется».
Легенда об антихристе не пользуется среди наших информантов той популярностью и не имеет того значения, которые свойственны ей в литературной традиции. Деятельность обыкновенного человека и состояние человеческого общества в целом – вот что прямо беспокоит информантов и является главной темой их высказываний. Вместе с тем эсхатологические представления информантов в известной мере определяются содержанием старинных сказаний об антихристе. Можно даже предположить, что и существующий здесь образ лжеверы (хотя бы в некоторых своих чертах – вспомним «кино») восходит к описанию мечтотворений антихриста в эсхатологической письменности158. Однако у информантов, вопреки церковному преданию, лжевера является причиной человеческих «беззаконий», но отнюдь не следствием исполнившегося нечестия мира. Характерное для народной эсхатологии совмещение черт искушения (лжеверой) и нечестия в изображении кануна светопреставления приводит к тому, что и сам антихрист иногда выступает в типичном обличье людей «последних времен» – ср.: «антихрист будет ходить полуголый».
Человеческое общество перед «концом света» представляют во всем противоположным нормальному. Его социально-культурные ценности утрачиваются вместе с истинной «верой»: «правды не будет на земле»; «люди <…> ничего не будут знать», они «потеряют всякий стыд и совесть», «среди них исчезнет страх»; взаимоотношения между людьми перестанут характеризоваться «любовью», «сочувствием», «пониманием» и «почитанием» («почтением»). Изображается мир «неправды», «бесстыдства» и «ненависти».
С утратой людьми «всякого стыда и совести» непосредственно связывается «безобразие» их внешности. Особенное беспокойство вызывает внешний облик девушек. Говорилось же в «святых книгах» о том, что «девушка красу свою будет губить»: «девицы косу не возлюбят» и «обрежут ее – и стало так: „волосики свои подстригаете, крутите“». Столь же остро переживается и отсутствие головного убора: «раньше девушки покрытые ходили, а потом стали распокрытые ходить» («а раньше распокрытые только на девишнике сидели, а то ходили в гарусках, атласах да платках»). Однако чаще всего обращается внимание на то, что стирается разница во внешнем облике между мужчиной и женщиной: женщины начинают одеваться «по-мужски» – «бабы сейчас» «как мужики в брюках»/«в мущинских штанах» «ходят» (одна информантка «мужчину от женщины» отличает уже «только по башмакам»); тогда как «мужики молодые» делаются похожими на женщин своей внешностью —«волосища отпустили, а бороды постригли». «Мужчину от женщины не отличишь»: «вот в штанах идет, волосы страшные – не различишь никаким путем. Набьет харю, и не поймешь, кто» – сбывается предсказание о том, что «пойдут времена – мужчины от женщины не отличишь» / «будет время: женщины пойдут – не познаешь, кто муж, а кто жена»159. С нейтрализацией противопоставления мужского женскому иногда даже связывают само «пришествие»: оно произойдет, «когда мужчину не отличить будет от женщины».
Стремление изобразить крайнюю степень человеческих «беззаконий» как нейтрализацию основных социальных противопоставлений особенно отчетливо проступает в высказываниях информантов о взаимоотношениях между людьми в «последние времена». Считается, что если «раньше» люди относились друг к другу с «любовью» («сочувствием» и т. п.), то накануне светопреставления «народ друг друга не любит» / «люди <…> все время грызутся» – как и предсказывалось: «злость будет – будут друг друга ненавидеть». Таким образом, «ненависть» становится принципом человеческих взаимоотношений, что извращает самую их суть: «каждый человек другому – первый враг». В обстановке всеобщей «грызни» уничтожается и традиционная иерархия общества – «царей и князей истекут». Нейтрализуется важнейшее в социальном плане противопоставление старших младшим (как главных неглавным): «теперь все равные стали» (тогда как «Бог <…> лес не сравнял и людей не сравнял»160), – что воплощает собой представление о хаотическом состоянии общества перед «концом света».
Противопоставление старших младшим отчасти нейтрализуется и в возрастном отношении: исполняется, например, предсказание о резком сокращении времени детства («младенцы будут только до трех лет») – «сейчас уже детей отдают в детские сады». Однако чаще мысль о всеобщем превращении накануне светопреставления (переходе предметов, явлений, качеств в свои противоположности) развивается инверсией (а не нейтрализацией) противопоставления по возрасту: «безобразная» и потерявшая «всякий стыд» «молодежь» в «последние времена» главенствует над старшими – она будто бы «все знает, а староверов в ноги втоптала, их не признают».
Говоря о взаимоотношениях между «родителями» и «детьми» перед «концом света», информанты, как и в изображении общественного хаоса, развивают тему всеобщей «ненависти» и «грызни», которая здесь уже явно выражается нейтрализацией противопоставления своего чужому: свои превращаются в чужих. Инициаторами внутрисемейной «грызни» обычно объявляются «дети»: предсказывалось, что «дети будут беззаконные, не будут чтить родителей»/«перестанут стыдиться отца-матери»161 – вот «дети родителей» и «не слушаются» (а все потому, что их «не учат уважать родителей»). Со своей стороны, «родители» тоже «станут их <детей. – А. Б.> меньше любить»162: «мать <или, по другому высказыванию, «родители». – А. Б.> будет своего дитенка на блуд приводить»163 – «сейчас живут даже без росписи в ЗАГСе»; «мать будет своих детей как змея поедать»164 – «сейчас хочет – рожает, хочет – убивает в себе своего ребенка». Будет так, что «мать и батька по одной тропке пойдут, а дети – по другой»; в конце концов все они станут чужими друг другу – «матку <бросит. – А. Б.> в одну сторону, батьку – в другую, детей – в третью». Родственные связи окончательно порвутся во время «войны», которая уже сама по себе представляется информантам апогеем всеобщей «грызни» «последних времен» – «сын на отца <…> а брат на брата» «поднимут» «руку»/«копье» и «пойдет отец на сына, сын на отца и стронется вся вселенная»165.
«Конец света» приурочивают к нейтрализации любого социального противопоставления потому, что ею знаменуется крайняя степень какого-то из многочисленных «безобразий» в человеческом обществе. Вот и всеобщего «пьянства», когда оно достигает того, что «в каждом доме будет кабак», будет достаточно, чтобы «погубить людей». Здесь нейтрализуется противопоставление «дома» «кабаку»: «дом» превращается в питейное заведение (т. е. становится не-домом), и в результате человек теряет свое место на земле. Это соответствует представлениям об утрате людьми покоя перед «концом света»: «народ <…> будет ходить как пьяный, не зная, куда голову приклонить» (а «молодежь» уже сейчас «не сидит на месте, все разъезжаются»). Хаотическим и безостановочным движением, которое напоминает информантам поведение «пьяного», подчеркивается глубина человеческого «незнания» (ведь люди тогда «ничего не будут знать») и все «бессмыслие» жизни в «последние времена»166.
Изображая общество накануне светопреставления, информанты стараются представить его во всем противоречащим «прежнему закону», который отличали истинная «вера» и культурные ценности, порядок (незыблемость социальных противопоставлений) и покой. Возникающий образ являет собой столь разительную аномалию человеческого общежития, что нередко сопровождается традиционным сравнением его с животным миром (с «псами» или вообще со «скотом»). Среди их общих признаков фигурирует и «хладнокровие» людей, и то, что человек только «жрет да и все» (причем еще «все с одного котла будут есть»), и «бесчинные браки» (когда «живут даже без росписи в ЗАГСе»), наконец, «женщины на полях» тоже уподобляются «скоту». Во всяком случае, изображение людей, потерявших человеческий облик и живущих «скотской» (или «бесовской» – см. выше) жизнью, вполне соответствует представлениям информантов о характере будущего антиобщества. Иногда «скотство» людей вписывается в более общую аномалию «последних времен»: в «злобе» своей «люди <…> как звери будут, а звери – ручными»167, – к этому взаимному превращению приурочивается и «конец света» (который таким образом может быть даже следствием инверсии противопоставления: здесь – «людей» «животным»).
Однако природный мир, как и общественная жизнь (основанная на всеобщей «ненависти» и угрожающая «последней войной»), обычно предполагается враждебным по отношению к человеку и усугубляющим его «страдания» накануне светопреставления: «будет на земле мор – войны и голод». Тема будущего «страшного, сильного голода» проходит через многие высказывания, выражаясь по большей части в одних и тех же стереотипных формулах литературного происхождения. Влияние традиционной образности на мировосприятие информантов столь велико, что следы этих формул обнаруживаются и в высказываниях, которые, казалось бы, являются непосредственными наблюдениями над природой. Так, говоря о «неурожаях», одна информантка (между прочим, та самая, у которой и «вся сморода в паутине» – см. выше) упоминает в этой связи «червей на полях» – известную деталь изображения бесплодия как наказания отступников168 (другим информантом она воспроизводится уже в более соответствующем контексте: «плоды ваши съедят черви угрызением горьким»). Все же не «черви» будут главными виновниками того, что «сто <или «семь». – А. Б.> мер посеем да одну выжнем»169. Причиной этой аномалии объявляется засуха: «три года засуха будет – и лето плохое, и зима плохая», или, варьируя традиционную формулу – «небо не дает дождя» («не даст Бог дождя» / «когда не будет дождя» – это опять-таки может представляться так, что «дождя нет», «туча ходит по небу, да рукой ее не словишь»), «земля – плода» («не станет родить земля» / «земля не будет давать урожая, плодов» / «земля тогда повысохнет»). Помимо отсутствия «дождя» и «плодов», «высохнут реки» / «источники повысохнут – даже мокрые болота воскурятся». Эта аномалия фигурирует и среди «признаков» «конца света»: Иоанну Златоусту приписывается предсказание о том, что «возгорятся <…> блата»170 – и толкуют его в связи с добычей торфа. «Конец света» приурочивается здесь к видоизменению мокрого в сухое – переход явления в свою противоположность знаменует собой крайнюю степень тех метаморфоз, которыми, по мнению информантов, будет охвачен природный мир накануне светопреставления.
Вот и тема «голода» постепенно развивается в изображение природных метаморфоз: «воды и еды не будет», так как «небо не даст дождя, земля – плода» и «источники повысохнут», а это в свою очередь связывают с тем, что «небо будет медное, а земля железная» (когда говорится только о «земле», то она тоже может стать «медной»)171 и, «вместо реки», «будет золото течь» («а оно уже не надо будет – надо будет только воды напиться; человек бегит, думает, что блестит – значит, река, а это – золото. А оно уже никому не надо, ничего на него не купить»/«серебро и золото по дорогам будут валяться, но никому оно не нужно будет – все будут искать воду»)172. Все эти метаморфозы (наряду с отличавшим «засуху» превращением мокрого в сухое) объединяются представлением об отвердении природы к «концу света»173, которое приводит ее в единообразное, металлическое, состояние: «небо» делается «медным», «вода» – «золотом» (и «серебром») и «земля» – «железной». Состоянию природы соответствует изображение еще одной аномалии «последних времен» – превращения тяжелого в легкое (что обосновывается появлением «самолетов» и «кораблей»): «железо» будет «летать по воздуху» и «плавать по воде», – металлическую природу населяют особые металлические существа. Они принесут людям не меньше страданий, чем «страшное чудище Левофан» – «птицы стальные <„это, – поясняет информантка, – вертолеты и планеры“> людей клевать будут», тогда как «Левофан» «выйдет на сушу» и «будет из ста пастей людей пожирать и грызти»174. Возникает впечатляющий образ металлического мира, холод, бездушие и мертвенность которого подчеркивается еще и тем обстоятельством, что в нем будет царить тьма. Объясняя причины будущего «великого мрака», информанты говорят не столько о космической метаморфозе (причем в этой связи отмечается превращение лишь одного «солнца» – «в кровь»175), сколько о прекращении действия источников света: «померкнет» «небо»/«солнце», а «луна» «не будет светить» / «не даст света»176. Вероятно, поэтому погружение мира во тьму у информантов далеко не всегда означает окончательную катастрофу. В представлениях о «великом мраке» (как, впрочем, и о металлической природе) скорее сказывается стремление изобразить внешний мир таким образом, чтобы он воплощал собой всю безмерность «бедствий», которые ожидают человечество в будущем. Показательно, что, когда пределом существования этого мира объявляется «второе пришествие», его представляют уже не приходом «грозного судьи», а возвращением «спасителя»: «через тысячи лет – мать мне говорила – за тысячи верст по округе один петушок запоет и солнышко проглянет, и спаситель придет…»177.
Однако прежде чем изменится мир, меняются люди. Это они «достигли всего», что было предсказано в «святых книгах». Обычно «конец света» приурочивают к моменту полной деградации человеческого общества, причем с этим моментом одни информанты связывают совершенное исчезновение «верующих» («когда не будет ни одного верующего»), другие же – такое сокращение их числа, что «верующих» оказывается меньше, чем это необходимо для того, чтобы мог «стоять» «божий свет»: например, когда «истинно верующих» «будет меньше трех, тогда наступит свету конец»178. Параллельно исчезновению «верующих» на земле происходит заполнение «ада» «попами и архиереями». Однако общее значение процессов, протекающих в ином мире и чей предел означает собой «конец света», с деградацией человеческого общества непосредственно не связано – речь идет о ликвидации некоей имеющейся там пустоты, за счет которой пока и существует человечество: его существование теряет всякий смысл с заполнением этой пустоты. Ведь «конец света» наступит не только когда «ад заполнится попами и архиереями»179, но и когда «хорошими людьми наполнится» то «место на небе», откуда «слетели» свергнутые Богом ангелы180 – что не имеет уже никакого отношения к упадку «последних времен». Столь же абстрактным по своему характеру эсхатологическим значением отличаются и некоторые из тех процессов, что должны предшествовать «концу света» в земном мире. Предсказывают, например, что к «концу света» «землю перемерют не аршинами, не саженями, а пядями» (а так как светопреставления ожидают в ближайшем будущем, то и измерение земли «пядями» обычно считается уже свершившимся фактом – «земля вся измерена пядями»). Это представление поддерживалось традиционным для народных верований отношением к размежеванию земли, которое и за пределами старообрядческого общества казалось явным признаком перерождения мира181 – старообрядцы же считали его, наряду с определением меры и веса в торговле, печатью антихриста182. Возникло же оно на основе мысли об измерении/измеренности всего сущего в «последние времена»183, что является своеобразной формой усвоения идеи предопределенности «конца света», который наступит в результате исчисления лежащей в основе мира меры (числа)184: будь то – измерение земли «пядями» (а порою даже вершками185) или же перебирание ее по песчинке186.
Идея предопределенности «конца света» разделяется далеко не всеми нашими информантами. «Одной господствующей <…> системы нет, – писал о народной религиозности Л. П. Карсавин, – а существуют, сменяя друг друга и переплетаясь, наброски, возможности нескольких систем»187. Вместе с тем у различных эсхатологических концепций есть общий пункт. Это – занимающий центральное место в эсхатологии старообрядцев Прибалтики образ «последних времен». Возникший на основе самых разнообразных литературных источников и испытавший влияние фольклорных представлений, он выступает как полная противоположность тому, что считается нормой, воплощает собой социальный и космический порядок. Отклонения от этого порядка обусловлены разрушением определяющей его существование системы противопоставлений между явлениями действительности, нейтрализация которых ведет к хаосу, предвещает мировую катастрофу188. Образ «последних времен» строится так же, как и праздничный мир карнавала, но говорить о том, что эсхатологией будущие «события изображаются в карнавальном аспекте»189, вряд ли справедливо. Это – общий принцип конструирования другого мира, который в своем эсхатологическом варианте предстает страшным миром страдания и бедствий190.
«Старая вера»: историко-культурный текст русских старожилов Прибалтики
Изучая фольклор русских старожилов Прибалтики, я во время экспедиций 1970‐х годов просил своих помощников, студентов Тартуского и Латвийского университетов, не только записывать фольклорные тексты и их этнографический контекст, но и расспрашивать людей о различных аспектах старообрядчества, к которому принадлежало большинство наших информантов. В результате у меня скопилось довольно большое и разнообразное по составу собрание текстов, которое показывает, как местные старообрядцы представляют свою культуру, ее происхождение, особенности и перспективы.
Особое место в исторической памяти наших информантов занимает церковный раскол XVII века. Это понятно. Главной целью рассказов о возникновении «новой веры»191 и последующем гонении на «старую» является объяснение различных аспектов существования местного старообрядчества как особого общества: от его культурного самоопределения до происхождения старообрядческих поселений в Прибалтике. Однако их назначение стимулирует и относительно свободный характер рассказов о расколе, открывая их для сложной игры своеобразных культурно-исторических представлений, которая, тесно переплетаясь с типичной для этой среды фольклоризацией прошлого, зачастую приводит к тому, что теряется всякая связь с реальными обстоятельствами церковного раскола XVII века.
Основным элементом культурно-исторических представлений русских старообрядцев Прибалтики является противопоставление «старой веры» и «православия», в котором особое значение принадлежит определению своей культуры как «старой». Сообщая противопоставлению характер исторической коллизии, это определение служит неизменной основой старообрядческого культурного самосознания. Сущность «старой веры» раскрывается прежде всего во временной перспективе, которая разнообразится осмыслением «старой веры» то в связи с личным временем самих информантов («старые мы – Богу молимся по-старому»), то в реально-историческом контексте, когда история «старой веры» отсчитывается то «от христианства», то «от греков», а то принимает мифический образ «самой первой веры».
Единственный случай сопряжения «старой веры» с возрастом ее нынешних носителей лишь подчеркивает ведущую роль определения «старая» в ассоциативных представлениях, связанных с осмыслением особенностей своей культуры. И мифологизация «старой веры» является результатом столь же исключительного внимания к ее определению. В нем выделяется значение «исконности», которое придает «старой вере» типично мифологический характер: она идет «из глубины, с начала веку» или «испокон веку»; это – «самая старая» или «самая первая» вера («всякая другая вера» когда-то «от нее пошла»); а первыми «староверами» оказываются Адам и Ева.
Однако большинство осмыслений «старой веры» все-таки предполагает для себя какую-то историческую основу. Так, например, акцентируется преемственность «старой веры» по отношению к христианству – «наша вера от христианства идет по старому завету». Хотя конкретный момент возникновения «старой веры» и вызывает разногласия (один считает, что это произошло, «когда родился Христос»; другой говорит, что «староверы были еще до распятия Христа»; третий уверен, что «старая вера образовалась, когда воскрес Исус Христос» и т. д.), существует твердая убежденность в том, что «старая вера появилась от Христа». Отождествление «старой веры» с христианством сказывается и в рассказах о церковном расколе, когда «гонение веры» изображается как «убиение» тех, «кто веровал во Христа» и «стоял за старых евангелистов». А один из информантов смешивает раскол со «страстями Христовыми»: «они, никониане-то, <…> Бога нашего мучили. Бог терпел, потому и людей заставил терпеть». Характерно, что представление старообрядчества «Христовой верой» отнюдь не является преградой настойчивому мифологизированию его облика: во-первых, само христианство иногда считается такой же «первой верой», как и старообрядчество; а, во-вторых, «старая вера» и в этом контексте удостаивается многозначительного титула «самой первой хресьянской веры».
Очень часто утверждается, что «старообрядцы произошли из Греции»: «старая вера» связана с «греками», «Грецией», «греческими временами» – «старинной греческой верой» вообще. Старообрядчество считает себя преемником старинного, «греческого» православия, и это представление отражается во многочисленных высказываниях информантов о том, что книги в их церквах – «греческие», а само богослужение ведется на «греческом» языке.
Однако для большинства наших информантов «старая вера» правильна и праведна только потому, что она «древнее»/«старше» любой другой веры: «первоначальная вера, она – правильная». Характерно, что даже в высказываниях о том, что она «идет от христианства», можно встретить важное уточнение – «по старому завету». Итак, основной чертой единственно праведной, «старой веры» оказывается ее «древность»: она «ветхий завет», тогда как православие – «новый завет».
Иногда новизна «православия» лишь заявляется информантами: говорят о «новшествах», «нововведениях», «новом учении» или даже «новом законе», – но конкретный характер этой новизны остается неясным. Можно сказать, что в этом случае неопределенной «древности» своей «старой веры» соответствует столь же туманное «новшество» никоновского православия. В противопоставлении двух культур многое определяется названием одной из них («старая вера»), которое неизбежно заставляет видеть в другой ее антитезу – веру «новую». И это становится общим местом целого ряда высказываний.
Однако большинство информантов более или менее осведомлено о том, что именно «выдумал» и «установил» патриарх Никон, создавая свой «новый завет». Выясняется, что «новая вера» – это, по сути дела, «переписанная» вера «старая». В ней «изменены» Писание и «книги», церковный устав и «служение», иконы и крест; имя Бога Исус переиначено в Иисуса, а двуперстие переделано в «трехперстие» («щепотку»). Изменения обычно объясняются тем, что Никон «захотел облегчение веры сделать – это не нужно, то не нужно; службу сократил…». Об этом, по мнению информантов, свидетельствует и «отмена постов» Никоном, и такие его акции, как перевод им бывших у «староверов» «греческих» книг на русский язык или перепечатка этих книг гражданским шрифтом. Даже православный четырехконечный крест кажется «полегче», чем «осьмиконечный». Наконец, и желание Никона, «чтобы попы были женаты» (с характерным замечанием при этом: «все ведь природа – она везде побеждает»), также выставляет «новую веру» верой «легкой»192. «Старая» же вера – «крепкая вера»: к Никону «перешел» тот, «кто был послабже».
В то же время собственно «новшеств» в «православии» оказывается не так уж много. Одно дело, когда в этой связи называются созданные Никоном «хор» и «ликовое <хоровое. – А. Б.> пение», и совсем другое, когда утверждается, например, что Никон «ввел причастие» или «предложил молиться за царя». Любопытно, что один из информантов, отметивший, что «у нас в религии царя нет», использует это обстоятельство для объяснения отличия в названиях богослужебных храмов у православных и старообрядцев: «потому у нас и не церковь, а <…> моленная». Очевидно, что основой его умозаключения послужила своеобразная этимология слова «церковь», которое возводится к слову «царь». Если продолжать этот ряд сомнительных «новшеств», то следует еще раз указать на введенных Никоном «женатых попов», тогда как о своих «попах» утверждается, будто бы они «у нас в виде того, как еще принял Владимир Мономах от Греции – с тем мы и остались». Все это существовало в дониконовском православии, будучи атрибутами несомненно «правильной» веры, но по ряду причин отсутствует в старообрядческой беспоповщине, поэтому и осмысляется как никоновское «новшество».
Отождествление дониконовского «благочестия» с церковно-бытовым укладом беспоповщины является гораздо более ощутимой тенденцией культурно-исторических представлений наших информантов, чем осознание ими утрат, которые понесла старообрядческая «старая вера». В ряду этих утрат называется уменьшение числа церковных таинств (за исключением «крещения» и «покаяния», другие таинства в беспоповщине просто невозможны); помнится и «отпавшее причастие». Однако самое большое сожаление вызывает отсутствие «священства»: «мы остались простецами; специальной одежды нет – в халатиках служим». Для объяснения каждой из утрат иногда привлекается авторитетное обстоятельство эпохи раскола. Так, отсутствие причастия оправдывается тем, что какой-то «архиерей» («Никон [!] что ли», – хотя речь может идти только о Павле Коломенском. – А. Б.) «мертвый уже <…> рукавом благословил, что причастия уже не надо». «Священство» же отсутствует потому, что «последний наш епископ» Павел Коломенский «благословения <…> никому не мог передать»; «не успел благословить» и протопоп Аввакум.
Очевидно, что на фоне представлений о «новой вере» живее и обстоятельнее делается облик «старой»: ее «древность» и «праведность» расцвечиваются весьма содержательными подробностями. Столь же конструктивной оказывается взаимосвязь «старой» и «новой» вер в осмыслении характера и значения событий «раскола»: и та и другая обогащаются новыми деталями, благодаря которым образы этих вер в рассказах о расколе приобретают стабильный и законченный вид.
Осмысление «раскола» несколько шире знания обстоятельств церковной истории XVII века. «Расколом» может оказаться любая давняя «распря», что провоцируется значением самого слова «раскол». Иногда рассказ о «расколе» подменяется апокрифическими деталями более раннего разделения между восточным православием и католичеством. Особую роль сыграла весьма популярная легенда о происхождении католического «брадобрития»: «С каких-то женщин пошло. К одной женщине лет тыщу тому пришел один мужик. Женщина ему: „Если сбреешь бороду, буду тебя любить, а нет – не буду“. А когда тот мужик бороду сбрил, женщина его не приняла и сказала ему: „Ты изменник!“». От него и пошло православие».193 Однако подобные отступления от событий русского церковного раскола все же немногочисленны.
Иное дело, что сами эти события могут стать основой различных толкований исторического прошлого. В зависимости от того, какая сторона церковного «разделения» выпячивалась старообрядческой средой, определяется и нынешнее понимание существа раскола. Так, известной двойственностью отмечен образ патриарха Никона: он либо «раскольник», либо «изменник». С каждым из этих представлений о Никоне связана и особая концепция его деятельности и вообще – взаимоотношений обеих вер. Если Никон-«раскольник» разделяет единую «с древности» веру «на две половины», то Никон-«изменник» просто переходит в неизвестно когда и кем созданное «православие».
В рассказах о Никоне-«изменнике» исторические события эпохи раскола довольно часто подменяются соответствующими житейскими ситуациями: «Патриарх Никон был старообрядец. Должности у него не было. Принял он православную веру…» Более того, эти рассказы совершенно умалчивают о «расколе»: им чужда мысль о некогда «единой вере». Очевидно, их авторы считают, что нынешнее «многоверие» («семьдесят семь вер сейчас на земле») существовало и в прошлом. Поэтому и появляется рассказ, в котором «раскол» замещается выбором веры: «Царь Алексей Михайлович решил узнать все веры на земле, и поэтому от каждой веры были посланы люди к царю. От староверов был послан один умный человек, которого звали Никон. Но он ото всех скрыл, что он православный, и пошел к царю от православных. Так вот старообрядцы остались без посла»194. Образ Никона-«изменника» серьезно смещает историческую перспективу в осмыслении информантами прошлого своей культуры вплоть до того, что исчезает само понятие «раскол»: «старая» и «новая» веры оказываются сосуществующими еще до начала деятельности Никона, и их генезис остается неясным.
В то же время Никон-«раскольник», как правило, является еще и основателем «новой веры» / «православия». Рассказы о его деяниях представляют собой своего рода этиологию «православия». Никону приписывается введение исключительно всех «новшеств», которыми, по мнению информантов, отличается «православие»: именно он «переписывает» и «изменяет» «старую веру». Единоличное участие Никона в создании «православия» по достоинству ценится его последователями: «православные <…> относят Никона патриарха к двенадцати апостолам, среди которых он почитается больше всех».
Кто же он, этот демиург «новой веры»?
Традиционный демонизм Никона не пользуется у информантов особой популярностью. Прежние легенды о его связях с «бесами» известны здесь лишь в отдельных и разрозненных эпизодах: «А сделать реформу <…> Никона научил нечистый дух. У Никона был гость; и, когда ночью явился нечистый, он, чтобы узнать, спит ли гость, стал колоть в пятки иголками, но тот выдержал, чтобы услышать, о чем будет идти речь»; или же просто «Никон знался с бесами, в правой пяты крест носил»195. Ослабление демонических черт в нынешнем образе Никона соответствует общей трансформации воззрений этой среды на источник личных и общественных неурядиц: вместо «беса» им все чаще выставляются «сами люди». Поэтому и замечания, вроде того, что «Никон – такой бес, хромой и горбатый <…> Когда Никон появился, бес сказал: „иду ему в уши“ <…> и тогда он все книги собрал и сжег»; или – «патриарх Никон? А еретик был, <…> начальник всех бесов и есть», – встречаются сравнительно редко.
Как это порою свойственно мифическому культурному герою, демонизм в нем уживается с чертами трикстера (плута). Образ Никона также не лишен известной доли комизма. Одна из многочисленных вариаций легенды об обмане римским папой своей паствы196 начинается так: «Был католический поп Вейскуп. Однажды он напился и заснул, а Никон взял и бороду ему выбрил…»197. Наречение озорника «Никоном» могло произойти лишь под влиянием восприятия Никона в старообрядческой мифологии как культурного героя.
Более распространенным образом Никона оказывается изображение его человеком «дурной породы». Отмечается сомнительное происхождение патриарха: Никон «откуда-то взялся», «нехороших родителей он был», или, наконец – «безродный выблядок»; припоминается и то, что он не русский – «с Мордвы». С этим связаны и указания на низкий прежде социальный статус Никона: он – «выскочка», «расстрига» и т. п. Когда же речь заходит о его действиях и поступках, то Никон предстает или в фольклорном облике ловкого и умного обманщика, или типичным (с точки зрения житейского обихода) «нехорошим человеком». В первом случае его определяют «ученым» или «умным человеком», «грамотным митрополитом», который «нашел» какие-то «ошибки» в книгах, но – «ум» и «грамотность» Никона служат только обману: «Никон сам написал священные книги и закопал их в горах; потом приручил голубей, чтобы они ему горох с ушей выклевывали. Людям Никон говорил, что ангелы ему нашептывают, что в горах закопаны книги, в которых описаны новые законы…» Естественно, что «нехорошему человеку» легко приписываются всяческие отрицательные свойства. Он – и «блудник»: «имел много жен»/«завел себе любовницу»; и жесток в обращении с другими: «людей избивал/притеснял» (не говоря уже о том, что Никон «всех <…> убил», кто не подчинился его «новым законам»); но чаще всего Никон корыстолюбив и любыми путями стремится к обогащению: «А Никон был латыш, ему бы только деньги брать»; «Евреи подкупили его, чтобы он изменил церковный устав. <…> Золотишка ему подкинули» / «Им были назначены дни приношений. В определенный день прихожане должны были приносить ему золото, драгоценности».
Вместо неизменного прежде «дьявола», инициаторами «раскола» объявляются уже привычные «ненавистники» христианской церкви. Однако причина «раскола» все настойчивее ищется в самом Никоне: «личный интерес» «обманщика» и вообще «нехорошего человека» – вот что лежит в основе «раскола» и к чему, по распространенному здесь мнению, восходит созданная этим отрицательным культурным героем «новая вера».
«Силу» Никону придает поддержка его «нововведений» государственной властью. Иногда он соблазняет власть «облегчением веры» (поэтому «за Никоном и царь пошел, и правительство, а это – главная сила»); иногда патриарх склоняет «царя» на свою сторону, потому что «предложил царю молиться за него». Никон действует, «будучи близок царю и имея большую власть», или же считаясь даже «другом царя». В некоторых рассказах роль царя делается более существенной: он не только «дал силу» Никону, но и сам принимает активное участие в церковной реформе. Никон же становится его помощником: «патриарх Никон – царский служака. Его в патриархи избрали за то, что у него горло широкое». Однако есть и противоположное мнение: никоновской реформе помогло только то, что «Наталья Кирилловна была слабой женщиной, а Петр – малолетний».
Очевидно, что указание на «малолетство» Петра (помешавшее ему воспрепятствовать «нововведениям» Никона) является своеобразным отражением легенды о Петре I как справедливом царе198. Еще определеннее этот образ Петра сказывается в тех высказываниях информантов, где именно он карает Никона: «А Петр посадил Никона в тюрьму за то, что людей притеснял». Конечно, такое изображение Петра I не меняет устоявшейся оценки его как «гонителя» старообрядчества, но оно делает понятнее и как бы естественнее (в фольклорном плане) частную судьбу патриарха Никона. Иначе крах демиурга «новой веры» с трудом укладывается в рамки навязанного ему образа культурного героя: ведь наказывают патриарха его же приверженцы. Поэтому в рассказах о его падении появляется справедливый царь, что вносит известный диссонанс в традиционный облик царя-противника «старой веры»: даже Алексей Михайлович «был очень рассержен», узнав о корыстолюбии «близкого» к нему Никона, и тот «вынужден был скрыться в надежде, что через некоторое время гнев царский утихнет. Но царь не простил Никона, и вернуться он не мог».
Итак, жизненный итог «основателя» православия оказался неутешительным: его «предали анафеме» / «низвергли» / «посадили в тюрьму» («на семнадцать лет», – как уточняет один информант); наконец, «он вынужден скрыться» и «о дальнейшей его судьбе ничего не известно». Однако православные «после жалели» Никона, а теперь «относят <…> к двенадцати апостолам, среди которых он почитается больше всех».
Однако прежде Никон устраивает «гонение веры». Естественно, что подчинился Никону и принял его «новые законы» лишь «кто был послабже» – «тот и перешел». «Истинные» же христиане «пошли по старой дороге и веровали в правду». Дело доходило до того, что «никонеане <…> Бога нашего мучили. Бог терпел, потому и людей заставил терпеть». Этому высказыванию вторит и другой информант, по словам которого: «гонение веры было в России; кто веровал во Христа – избивали, кто за православную – живой оставался. А кто за старых евангелистов – того убивали». «Избиение» и даже «убийство» противников «новой веры» (причем иногда приписываемые лично патриарху Никону) – повторяющийся мотив рассказов о расколе, который, впрочем, редко детализируется (ср.: «что было с людям: и на кострах жгли!»).
Судьба «отцов и страдальцев» эпохи раскола дает несколько более подробное изображение «гонения на веру». Особенно, когда они вызывают интерес. Боярыню Ф. П. Морозову упоминают немногие, а о том, что известна ее сестра Е. П. Урусова, можно только догадываться по некоторым обстоятельствам рассказа об одной «княгине», которой «говорили: „Иди в православную церковь!“ Не пошла. У ей умер ребенок. Пятнадцать лет она пробыла в тюрьме, а от веры не отказалась»199, – но участь этих «мучениц» сильнее захватывает воображение некоторых информантов и рассказывается гораздо более пространно, чем судьба «последнего епископа» Павла Коломенского200. О Морозовой сообщаются следующие сведения: «Мученица она была, за веру страдала. До раскола-то она богатой была, слуг много имела. Выезжала на двенадцати лошадях в колымаге. За веру ее мучили. Сперва всех слуг замучили, потом детей показнили, потом за нее взялись. Крепко мучили. Запрягли худую лошаденку, шелудивую и облезлую, а ее на простые сани кинули, привязали цепями и повезли на позор. Картину-то201 видели? Вот как там все было. Народ вокруг стоял, плевал, а иные жалели – кто за крепкую веру стоял. Думали: отречется с позора, а она все свое кричала. Истовая была. Тогда ее казнить стали. Вырыли четырехсаженную (восьмивершковую, значит) яму, в одной сорочке ее туда кинули на мороз, стражу поставили, а она и из ямы свое кричит, людей наставляет, как жить и верить верно. Замучили ее». В то время как о «служаке при церкви» Павле Коломенском повторяется только то, что он был «сожжен» – «на костре» или «в срубе».
А самый популярный «мученик через правую веру» – безусловно, протопоп Аввакум. Благодаря своей известности Аввакум как бы заслоняет собой других «страдальцев», исполняя заодно и чужую роль в истории старообрядческой культуры. Так, именно Аввакум (а не епископ Павел Коломенский) порой не успевает «благословить», в связи с чем, как считают более осведомленные в своем положении информанты, у старообрядцев-беспоповцев и отсутствует «священство». Вообще же, образ протопопа Аввакума – это образ «страдальца» и «писателя». Хорошо помнится, что он, «ревнитель старины», «о старой вере писал» и «написал много книг». Его мучения многочисленны и разнообразны: «был в тюрьме»; «отсылали в другие города» / «сослан в Сибирь»; «посажен в яму»; «на костре сожгли». Есть рассказы, навеянные его «Житием»: «Сколько раз сослан! В Даурию его Никон сослал с семьей: два мальчика и жена брюхатая. В дороге жена и родила <…> А когда в Пустозерске были, посадили их в сруб в деревянный, а там только маленько окошко. А они только хлеб и воду и ели, в срубе испражнялись, вся жизнь их там была…». Однако встречаются и довольно характерные домыслы о судьбе Аввакума: «Он или удрал в сибирские леса, или на Соловецкие острова».
Еще любопытнее, что и один из основоположников старообрядческой беспоповщины Феодосий Васильев202 иногда считается руководителем «староверов», бежавших от «притеснений» на Север: «Когда старообрядчество бежало в Выговские леса к Белому морю, их настоятель Федосей поставил крепко свой закон…» Есть и рассказ, связывающий его жизнь и с Соловками203. Объясняя характер федосеевского жизнестроительства, один из информантов упоминает Соловецкий монастырь, где «когда-то <…> жил Федосей. Он, пожив там, решил, что монастырь можно ввести и у себя дома». По другим же сведениям, Федосей «был наставником в Москве вскоре после переворота». Однако о том, что основатель федосеевского согласия имел самое непосредственное отношение к возникновению старообрядческих общин на территории Латвии и Эстонии, – прочно забыто.
Лишь имена неких Парамонов и Никит, сохранившиеся в названиях деревень, еще продолжают напоминать местному старообрядческому населению о его «дедах и прадедах», которые появились и обосновались здесь во времена «гонений» на «старую веру».
Очевидно, что рассказы о расколе в значительной степени обусловлены старообрядческой книжностью (причем не столько рукописным наследием, сколько разнообразной печатной продукцией нового времени – учебниками, календарями и т. п.). Однако письменность настойчиво дополняется житейским опытом, привлекаются расхожие фольклорные мотивы – в результате возникает своеобразная мифология культуры. За множеством индивидуальных значений и ассоциаций (связанных с присущими культуре понятиями и традициями) угадывается устойчивая система представлений, которая и определяет особенности рассказов об актуальном прошлом – об эпохе церковного раскола XVII века.
II. ГОРОДСКОЙ ФОЛЬКЛОР XIX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА
Городской фольклор 204
Город играет все большую роль в развитии общества. Изучение города становится одним из основных направлений исследования в общественных науках XX века. Городом занимаются историки, экономисты, социологи, психологи, этнографы, даже лингвисты.
В двадцатые годы устной словесностью города заинтересовались и наши фольклористы. Начали появляться статьи, готовился специальный сборник, который так и должен был называться – «Городской фольклор»205. Однако дальше этого дело не пошло. Городской фольклор постепенно перестал привлекать внимание исследователей. Сейчас о городском фольклоре гораздо чаще пишут журналисты, им гораздо больше интересуются литературоведы и искусствоведы, чем специалисты-фольклористы.
Отрицательную роль сыграло то, что под «городским фольклором» понимали лишь фольклор мелкобуржуазной (мещанской) среды. Это не только предопределило негативное отношение к нему, это привело к тому, что городской фольклор вообще выпал из поля зрения науки, которая изучает устное народное творчество. Согласимся с тем, что мещанский фольклор далеко уступает крестьянскому и рабочему фольклору по своей художественной ценности, не будем спорить о том, можно ли относить мещанство (мелкую буржуазию города) к народу, но – давайте изучать этот фольклор. Изучение мещанского фольклора поможет лучше понять особенности крестьянского и рабочего фольклора, глубже осмыслить специфику фольклора как искусства устного слова, уяснить характер и пути его развития.
Следует подчеркнуть: мещанский фольклор не исчерпывает собой всю устную словесность города, весь городской фольклор. Отличительным признаком города является сложность и пестрота его населения. Если взять русский город XIX века, то в нем, кроме мещан, жили крестьяне, солдаты, купцы, разночинцы (артисты, учителя, чиновники и т. д.), духовенство, наконец, дворяне. Каждая из этих групп городского населения имела свой жизненный уклад, свои потребности, привычки, вкусы. Жизненный уклад основывается на непосредственном, устном, словесном общении людей между собой. Это общение обязательно включает в себя различные формы фольклора, которые образуют определенный социально-культурный вид устного коллективного творчества – «солдатский фольклор», «мещанский фольклор», «дворянский фольклор» и т. д. В рамках городской общности возникает и развивается «рабочий фольклор». Основные группы городского населения подразделяются на более мелкие, жизнь и быт которых отличается известным своеобразием. Ремесленники, торговцы, прислуга, канцеляристы – среди мещан; артисты и чиновники – среди разночинцев; армейские офицеры и светская аристократия – среди дворян, – все они обладали и своим собственным фольклорным репертуаром изречений, «шуток», анекдотов, «историй» и т. п. Обучение подрастающего поколения в учебных заведениях приводит к появлению «школьного» и «студенческого» фольклора, не учитывая которые мы также очень обедняем свое представление о городском фольклоре. Все эти социально-культурные виды и разновидности фольклорного творчества и образуют сложную систему фольклора русского города XIX века. Городской фольклор – это не фольклор какой-то одной, может быть, и самой представительной группы городского населения; это – фольклор всего городского населения.
В связи с тем, что этот фольклор почти не исследован, наша лекция является лишь своего рода введением в его изучение.
Она основывается на материалах самого разного характера: от этнографических данных до художественной литературы. Художественная литература всегда тесно связана с городским фольклором. Соприкасаясь с нею в общем потоке городской словесности, он часто оказывается источником образов, мотивов и сюжетов художественной литературы: «устный, нефиксированный пласт культуры в определенной мере является ключом к письменным текстам, позволяя расшифровать их реальное содержание»206. Это очень характерно, например, для творчества такого писателя, как Достоевский, интерес которого «к фольклору, и именно – городскому»207 все более выявляется в работах современных исследователей208. Изучение устной словесности, окружавшей литературу и отражавшейся в ней, способствует более глубокому пониманию ее художественного смысла. Обращаясь к будущим учителям, хочу познакомить их прежде всего с фольклорным контекстом русской классической литературы.
Внимание к городскому фольклору XIX века обусловлено еще и другой, методической задачей лекции. Многие из вас – горожане. Стоит только присмотреться к своей жизни – и в ней легко обнаружатся формы устного общения, произведения устной словесности, которые имеют чисто фольклорный характер. Основываясь на материалах нашей лекции, попробуйте самостоятельно разобраться в современном городском фольклоре. Выполнением этого практического задания и завершится изучение темы «Городской фольклор».
Древнерусские города, по словам историка, «есть порождение сельской стихии. Органически связанные с селом, они не противостояли ему, но, напротив, являлись как бы ступенью в развитии сельских институтов. Именно поэтому древнейшие города, возникшие вокруг центральных капищ, кладбищ и мест вечевых собраний, ничем не отличались от поселений сельского типа»209. Они были административными и идеологическими (религиозными) центрами определенной территории («области», «волости»), которая составляла экономическое, военно-политическое и, наконец, культурное целое.
Об исконном единстве культуры древнего города и прилегавшей к нему округи можно судить хотя бы по характеру отправления архаичных, дохристианских ритуалов в русском городе нового времени. Один из таких ритуалов – весенний праздник Ярилы. «В этот день (4 июня) воронежские горожане и окрестные крестьяне, собравшись на площади, избирали „Ярилу“. Избранному надевали особый колпак, давали бубенцы („позвонки“), назначали ему свиту. „Ярила“ ходил, приплясывая, и все празднество это ознаменовалось плясками и играми, кулачным боем и, конечно, лакомством и пьянством. Люди ждали праздника Ярилы как „годового торжества“, наряжались в этот день в лучшее свое платье»210. Объединение окрестных крестьян с горожанами в праздновании Ярилы восходит к культурной общности древней «волости», для которой даже город XVIII века остается местом совершения основных культовых, обрядовых действ.
Единство культуры обусловливает и единство фольклорной традиции. Фольклор древнего города не отличался от фольклора прилегавшей к нему сельской округи. Город наследует фольклорный фонд доклассового родового общества: «заговоры и заклинания, календарные обрядовые песни, свадебные песни, похоронные плачи, песни на тризнах, на пирах», а также, продолжает Д. С. Лихачев, «легенды, мифы, предания и, весьма вероятно, сказки»211.
Все эти жанры сохраняются и в фольклоре русского средневекового города. Многочисленные свидетельства тому можно найти в исследованиях городского быта Древней Руси, принадлежащих И. Е. Забелину и Н. И. Костомарову, работу которых продолжает М. Г. Рабинович, чья книга «Очерки этнографии русского феодального города» (М., 1978) интересна еще и тем, что дает массу сведений об элементах традиционной культуры и быта в жизни горожан XIX века. Из этих сведений, как, впрочем, и из ряда других материалов по городскому быту XIX века, видно, что в нем продолжает существовать большинство жанров древнейшего фольклора: обрядовая поэзия, сказки, легенды, заговоры и т. д.
Менее ясна судьба фольклорных текстов.
Мы не знаем самих произведений древнейшего фольклора, у нас очень мало достоверных записей русского городского фольклора XI–XVII веков. Поэтому приходится исходить лишь из материалов более позднего времени. Известные нам записи произведений традиционного фольклора, бытовавшего в русском городе XIX века (см., например, обрядовые песни из очерка И. Кокорева «Свадьба в Москве»), показывают, что эти произведения мало чем отличались от соответствующих образцов современного им крестьянского фольклора.
Это может объясняться, конечно, и тем, что исполнителями произведений традиционного фольклора являются не потомственные горожане, а выходцы из деревни, составлявшие значительную и постоянно увеличивавшуюся часть городского населения. Любопытный пример сохранения крестьянского фольклора в городе приводится в статье Г. Г. Шаповаловой «Деревенская частушка в городе», где описывается, как люди, приехавшие в Ленинград в 30–40‐е годы, собираются по субботам и воскресеньям в Удельном парке, чтобы там поплясать и напеться частушек, которые они молодыми привезли с собой из своих деревень и с которыми они так и живут в большом современном городе212. Этот момент, момент бытования собственно крестьянского фольклора в городской среде, всегда следует иметь в виду при изучении устной словесности города.
Однако исполнителями произведений традиционного фольклора часто оказываются именно потомственные горожане. Возьмем те же песни, певшиеся на изображенной И. Кокоревым свадьбе «среднего круга», который располагается между «сановитым купечеством» и «зажиточным мещанством»213. Сходство этих песен с деревенским свадебным фольклором объясняется либо тем, что у истоков данной городской традиции стояли выходцы из деревни, либо тем, что она является прямым продолжением или развитием того фольклорного наследия, которое город получил от древнейшего доклассового общества. В любом случае свадебные песни имеют общий источник своего происхождения – архаическую фольклорную традицию.
Существование и развитие архаической фольклорной традиции отнюдь не замыкалось рамками деревенской общины. Это происходило и в русском средневековом городе, культура которого была неотъемлемой частью традиционной народной культуры. Многообразные и разносторонние связи между деревней и «большой деревней» (как еще в XIX веке называли многие русские города) способствовали единству фольклорных традиций города и деревни. Этим одним, общим фольклором и является так называемый «традиционный» фольклор.
Следует отметить, что традиционный фольклор сохранялся во всех слоях феодального общества, всеми группами русского городского населения XI–XVII веков. Фольклор был явлением быта как «низов», так и «верхов» города (вплоть до царского двора в Москве). Огромную роль он играл и в жизни городских «верхов» XVIII – начала XIX века.
Что говорить о рядовых дворянах того времени, если народная песня звучала при дворе Петра, если его дочь Елизавета, отличаясь той же любовью к народным песням, любила еще и перед сном слушать сказки, которые рассказывали ей бравшиеся с улицы старухи и торговки, если на придворных балах в екатерининское время играли в жмурки и в веревочку, ворожили, гадали, а в день Рождества 1765 года «сперва взявшись за ленту, все в круг стали, некоторые ходили в кругу и других по рукам били. Как эта игра кончилась, стали опять все в круг, без ленты, уже по двое, один за другого гоняли третьего. После сего золото хоронили; «Заплетися плетень» пели, по-русски плясали… <…> Во время этих увеселений вышли <…> семь дам: это были в женском платье граф Гр. Гр. Орлов, граф А. С. Строганов, граф Н. А. Головин, Петр Богд. Пассек, шталмейстер Л. А. Нарышкин, камер-юнкеры: М. Е. Баскаков, кн. Анд. Мих. Белосельский. На всех были кофты, юбки, чепчики; князь Белосельский был проще всех одет, он представлял гувернантку или даму и смотрел за прочими дамами. Ряженых посадили за круглый стол, поставили закуски, подносили пунш, и потом все плясали и шалили»214. Многочисленные свидетельства такого рода, характеризующие быт русского общества конца XVIII – начала XIX века, подобраны в книге Н. Н. Трубицына «О народной поэзии в общественном и литературном обиходе первой трети XIX века» (СПб., 1912). На «схематичность наших представлений о пропасти, якобы лежавшей между сознанием образованного дворянина и фольклорным миром», совершенно справедливо указывает Ю. М. Лотман215: дворянство долгое время было таким же хранителем традиционного фольклора, как и остальные сословия, группы городского населения.
Итак, город выступает в качестве хранителя текстов и жанров традиционного фольклора.
Вместе с тем во всех приведенных выше примерах бытования традиционного фольклора при дворах русских царей и цариц XVIII века есть целый ряд обстоятельств, которые самым неблагоприятным образом отразятся на его судьбе в жизни высших городских сословий, а затем и основной массы горожан XIX – начала XX века.
Обратим внимание прежде всего на то, что святки празднуются исключительно в своем кругу. Двор как бы замыкается в себе, но точно так же и все остальное дворянство старалось обособиться и отделиться от окружающего мира.
Даже участвуя в общих праздничных гуляньях, дворянство выделялось особой манерой поведения, своими нормами праздничного веселья. В то время как на знаменитых московских гуляньях под Новинским балаганные «паясы, в праздничных белых и разноцветных нарядах, своими натянутыми каламбурами смешат и искусно привлекают к себе чернь, которая, по-своему, отзывается самыми лестными похвалами»216 и т. д., «господа» развлекают себя чинным «каретным гуляньем». За церемониально-показной, зрелищно-декоративной стороной «гулянья в экипажах» очень трудно разглядеть его ритуальную основу – архаичную символику кругового движения в весенних обрядах.
В условиях города, – пишут этнографы Л. А. Анохина и М. Н. Шмелева, – складывались такие формы праздничных развлечений, увеселений, украшений, торжественных церемоний и т. п., которые все более и более отрывались от своей первоначальной основы и приспосабливались почти к любому празднику (например, гулянья с платными развлечениями, одинаковые на Пасху, Троицу, Петров день или любую ярмарку). <…> Наряду с традиционными праздничными обычаями в городе формировались новые, соответствовавшие иным, чем в селе, условиям жизни: официальные приемы, военные парады, балы, званые торжественные обеды, поздравительные визиты и т. п., не связанные или отдаленно связанные с народными обрядами217.
Бытовые новшества возникают в высших слоях городского общества, но постепенно «каждая среда вырабатывала свои, несколько особые формы праздничного времяпровождения, в разной степени сохранявшие традиционные черты, отвечавшие ее образу жизни в целом»218, но равно чуждые характеру традиционной календарно-обрядовой поэзии, которая так или иначе уходит из городского быта.
Можно предположить, что календарно-обрядовая поэзия не отвечает новым условиям жизни города. Возьмем праздник Нового года. Наблюдая за тем, как в господском доме «в 12‐м часу зажгли елку, затем стали ужинать и ровно в 12 часов с бокалами шампанского в руках стали поздравлять друг друга», выходец из деревни удивлялся: «в деревне у нас этот вечер просто считался кануном Васильева дня, и матушка уверяла, что новый год начинается первого марта, в тот день, когда сотворен мир»219. Это действительно новый праздник, развившийся именно в городской среде. В проведении этого праздника есть свои обычаи, но нет особых новогодних песен. Лишь в очень редких случаях можно говорить о возникновении в городе специфически календарных песен. Такова, например, «Татьяна», которую пели в день основания Московского университета, сначала отмечавшийся только его воспитанниками, а затем ставший праздником всего русского студенчества:
Да здравствует Татьяна, Татьяна, Татьяна!
Вся наша братья пьяна, вся пьяна, вся пьяна.
В Татьянин славный день220.
– А кто виноват? – спрашивал чей-то бас. – Разве мы?
Хор отвечал:
Нет! Татьяна!
И все подхватывали:
Да здравствует Татьяна, Татьяна, Татьяна!
Лохматый студент приятным баритоном запевал:
Нас Лев Толстой бранит, бранит
И пить нам не велит, не велит, не велит,
И в пьянстве обличает.
– А кто виноват? – спрашивал тот же бас. – Разве мы? Нет! Татьяна!
И опять все разом:
Да здравствует Татьяна, Татьяна, Татьяна!
Вся наша братья пьяна…221
Однако то, что свойственно одной из групп городского населения, не показательно для города в целом, песенный быт которого все более и более высвобождался из-под власти природных ритмов и терял связь с чередой особых календарных праздников.
Обособление дворянского сословия в первую очередь сказалось на семейно-бытовой обрядности, которая самым непосредственным образом связана с нормами поведения, интересами и ценностями социальной группы. Именно в дворянской среде начался процесс отступления традиционной свадебной обрядности, которая в конечном счете выпала из ритуала городской свадьбы. Если в первой половине XIX века «средний круг» городского населения еще слушал старинную свадебную песню, то уже в начале XX века на купеческой свадьбе оркестр играет «что-нибудь иностранное»: «1) Свадебный марш. Соч. Мендельсона. 2) Бандитенштрейхе. Соч. Зуппе. 3) Вальс. Соч. Вальдтейфель»222 и т. п. Вот что писала по этому поводу исследовательница брака и свадьбы у русских горожан Г. В. Жирнова:
В городской свадьбе в отличие от крестьянской мы не обнаружили традиционного жанрового многообразия народных песен, синкретически связанных с обычаями и обрядами. <…> полностью отсутствовали свадебные причеты… <…> Не обнаруживаются и собственно свадебные лирические песни, которые пелись хором в разные моменты в течение всего свадебного цикла. В то же время «величальные», шуточные «корильные» песни, сопровождавшие свадебное застолье, встречались главным образом у городского крестьянства. <…> К концу XIX века эти жанры свадебной поэзии вытесняются частушкой. <…> На свадьбах зажиточного мещанства, купечества и разночинной интеллигенции пели главным образом городские песни, модные в то время «жестокие романсы», а также песни и романсы литературного происхождения.
<…> У дворянства, крупного чиновничества, богатого и влиятельного купечества не было принято петь, сидя за свадебным столом. <…> Нередко устраивались специальные свадебные концерты с участием профессиональных артистов.
Таким образом, в середине XIX – начале XX века у социальной верхушки городского общества песенно-музыкальное сопровождение свадебного празднества имело совсем мало общего с народной обрядовой традицией. Оно сложилось и развилось под сильным влиянием профессионального искусства в соответствии с нормами общественного поведения и светского этикета223.
Основоположник этих новых норм общественного поведения и светского этикета Петр I запретил во время погребения царицы Прасковьи Федоровны (супруги царя Иоанна Алексеевича) идти за ее гробом плакальщицам. Плакальщицы были обязательными участницами похоронного обряда в Древней Руси. Они «шли впереди и по бокам похоронного шествия с распущенными волосами и нарочно искаженными лицами. Они кривлялись и вопили, то громко вскрикивали и заливались плачевными причетами, то заводили тихим, пискливым голосом, то вдруг умолкали и потом заводили снова; в своих причетах они изображали заслуги покойника и скорбь родных и близких»224. Запрещенная Петром, похоронная причеть довольно быстро прекратила свое существование в дворянском кругу и мало-помалу вообще уходит из городского быта.
Столь красочно изображенных Н. И. Костомаровым плакальщиц М. Г. Рабинович считает явлением, присущим именно городу225. Действительно, профессиональное исполнение фольклора – одна из древних традиций городского быта. При царском дворе и у знатных господ существовал специальный «штат шутов, шутих, сказочников, песельников, скоморохов, не знавших никакой другой обязанности, кроме той, чтобы в часы досуга потешать господ и гостей»226. Горожан на праздничном гулянии развлекали их собратья по ремеслу, бродячие скоморохи: музыканты, кукольники, краснобаи-потешники.
В русском городе нового времени преемниками древнерусских скоморохов являются балаганные «деды»-зазывалы, раешники, петрушечники и т. п., в выступлениях которых на праздничных гуляниях ярко и непосредственно выражается юмористическая стихия народного творчества227. Если балаганные «деды» лишь временно исполняли обязанности городского «артиста», то описанные Д. В. Григоровичем шарманщики (см. его рассказ «Петербургские шарманщики») были профессиональными мастерами уличных представлений, без которых трудно представить себе повседневный быт Петербурга XIX века.
Все это – важные и характерные явления городского фольклора XIX века. Однако, как и традиционная обрядовая поэзия, они представляют собой фольклор, мало-помалу уходящий из быта русского города. Его тексты давно перестали считаться достоянием городской общности, а исполнение их уже не побуждает всю аудиторию к активному соучастию в нем, к сотворчеству. Для значительной части городского населения ситуация устного общения в этих случаях утрачивает фольклорный характер, превращается в своего рода концерт, представление, зрелище, в котором «одни активно действуют – другие созерцают»228. Эти явления сохраняют свою актуальность лишь для фольклорного быта городских «низов». Но и отсюда их начинают вытеснять специфические формы развлекательного искусства – цирк и эстрада, быстро развивавшиеся в русском городе на протяжении XIX века.
Они возникают на основе фольклорного творчества. Весьма показательны, например, случаи, когда балаганный «дед» становится профессиональным актером и увеселяет публику уже на эстраде или в цирке229. Так фольклор перестает быть фольклором, превращается в профессиональное искусство.
Профессиональное искусство постепенно пронизывает собой публичную жизнь города. Сочетаясь со все более усиливающейся официальной, торжественной стороной городских праздников и обрядов, оно образует новые формы быта, в которых уже не остается места не только традиционному фольклору, но и любому другому виду коллективного творчества.
Сохранение и развитие традиций устного коллективного творчества все более связывается с такими явлениями в жизни города, которые сохраняют черты свободного и непосредственного общения между людьми, поддерживают его активный и самодеятельный характер.
Они отнюдь не являются порождением городской цивилизации.
Воскресеньем крестьяне «пользуются, чтобы сойтись вместе и потолковать о том, о сем, занимаясь в то же время плетением лаптей», – писал корреспондент из Есютинской вол. Вельского у. – Собирались для этого на одном из привычных мест – на завалинке какой-нибудь избы; сначала приходил один крестьянин <…> и принимался за работу; постепенно заполнялась вся завалинка. <…> Темой разговоров были прежде всего полевые работы или сенокос и все, что с ним связано. Применительно к сенокосу, например, свойства травы в этом году <…>, погода, качество привезенных кос и т. п. Серьезное обсуждение дел перемежалось остротами, поговорками. Хозяйственную тему сменяли рассказы бывалых людей: недавние солдаты рассказывали о своей службе или развлекали односельчан анекдотами; имели успех и истории странствующих швецов и чеботарей. Временами затягивали песни. Собирались, преимущественно, мужчины среднего и старшего поколения. <…> Иногда подходили парни с гармошкой. Могла возникнуть здесь же борьба или игра в городки, лапту и пр., с участием взрослых мужчин и парней. Сидящие на завалинке ободряли борцов и игроков, иронизировали над ними. <…> Самое широкое бытование имели в коллективном общении крестьян среднего и старшего поколения былички, бывальщины, легенды, предания, былины и другие жанры устного творчества, перемежавшиеся с меморатами и слухами о вполне реальных событиях общегосударственного значения230.
Если взять любое описание того, что происходило по вечерам во дворе большого городского дома – например, из книги А. Вьюркова «Рассказы о старой Москве», мы увидим, в сущности, ту же самую картину: местные новости сменяются обсуждением таинственного сна, который приснился одной из присутствующих, былички и бывальщины – сказкой, а рядом молодежь поет романсы и частушки…231 А так ли уж далеко от этого быта отстоит жизнь светского салона, в устной словесности которого слухи и сплетни соседствуют с историческими анекдотами, а «страшные» истории, вроде рассказанного Пушкиным «Уединенного домика на Васильевском», – с шутками и bon-mots салонного красноречия.
Все это – явления одной природы. Они основываются на более или менее свободном и непосредственном общении между людьми, которое создает все необходимые условия для совместного, коллективного творчества.
Вместе с тем нельзя не видеть и существенных различий между деревенским и городским видами этого творчества. То, что в деревне еще крепко связано с праздником, представляя собой особую, внеобрядовую сферу праздничного времяпровождения, город превращает в обычное явление повседневного досуга. В городе невозможно и объединение всех его жителей: свободное и непосредственное общение горожан редко выходит за рамки относительно малой группы людей. Очень показательны в этом плане даже картины городского «гуляния», когда оно не сковано строгими формами праздничного этикета:
Все пространство <…> усеяно было пестрыми толпами горожан, которые сидели на земле отдельными кружками. В одном месте курили молча трубки и сигары, в другом разговаривали, в третьем слушали заливные песни цыганок, в четвертом потешал честную компанию удалой детина, играя на берестовом рожке. Везде забавлялись и <…> пили чай232.
Отдельный «кружок» – характерное явление городского быта.
Он может ограничиваться даже членами одной семьи, в кругу которой бытовал и бытует свой, «домашний» фольклор: «словечки», шутки, воспоминания-мемораты, к которым постоянно возвращаются в семейных разговорах, наконец, самые настоящие «фамильные предания». Существованию последних многим обязаны как наша история, так и наша литература (они были очень важны, например, для Толстого во время работы над «Войной и миром»). Хотя «домашний» фольклор слишком связан с бытом своей семьи, чтобы играть заметную роль в устной словесности города, он интересен и важен для изучения особенностей тех специфических форм коллективного творчества, которые лежат в основе городского фольклора.
Светский салон, разночинский «кружок», мещанская «вечеринка» – вот лишь некоторые виды коллективных встреч, коллективного общения в русском городе XIX века. Мы взяли самые что ни на есть обычные виды коллективных встреч в каждом из основных городских сословий, но рядом с ними существовали и другие, представлявшие меньшую или, наоборот, большую свободу участникам коллективного общения, как, например, бал и дружеская пирушка в дворянской среде. Все эти формы коллективных встреч почти не изучены с фольклористической точки зрения, а между тем именно в их условиях существовал и развивался городской фольклор. Не случайно один из его исследователей, говоря об улице в период расцвета городского уличного творчества, сопоставил ее с клубом233 – не «улица», а «клуб», как и предшествовавшие ему формы коллективных встреч русских горожан XIX века, служит основной движущей силой городского фольклора, потому что здесь сильнее, чем где-либо, проявлялся дух коллективного творчества.
Основное место в устной словесности города занимает говорение. Существовали формы коллективного общения, из которых было вообще исключено всякое любительское, а тем более общее, хоровое пение, тогда как ни одно общение не обходится без каких-нибудь разговоров.
Содержание этих разговоров зачастую сводилось к различным «слухам и толкам». Любое событие вызывало волны самых невероятных слухов. Вспоминая об аресте петрашевцев, Некрасов в 1871 году писал:
Помню я Петрашевского дело,
Нас оно поразило, как гром,
Даже старцы ходили несмело,
Говорили негромко о нем.
Однако, если обратиться к мемуарной литературе, видно, как громко и много говорили о «деле» Петрашевского, сколько «слухов», «нелепых россказней», «сплетен и выдумок» гуляло в то время по Петербургу. Они ярко отражают мировоззрение различных кругов столичного населения: чего стоит, например, слух о безбожниках-петрашевцах, которые «будто бы в пятницу на страстной неделе <…> кощунствовали над плащаницею»234.
Еще больший, на мой взгляд, интерес представляют «неосновательные рассказы» про «зеркальную», небольшую проходную комнату в здании III отделения, «наслышавшись» которых, один из арестованных ходит «все время около стен, боясь вступать на средние квадраты паркета…»235. Здесь «надо иметь в виду упорно державшиеся слухи о том, что в III отделении в кабинете шефа жандармов имеется кресло, которое опускает сидящего до половины в люк, после чего скрытые палачи, не видя, над кем они учиняют экзекуцию, секут его. Разговоры о таком «келейном» наказании, – пишет Ю. М. Лотман, – циркулировавшие еще в XVIII веке в связи с Шешковским (см. воспоминания А. М. Тургенева), возобновились в царствование Николая»236. Однако «такого рода слухи циркулировали в кругах молодежи еще в 60‐х годах и даже в начале 70‐х»237 годов XIX века.
Этот весьма характерный и сам по себе слух просуществовал столь долгое время, что заслуживает внимания даже по соображениям чисто фольклористического порядка. Мы привыкли отмахиваться от «молвы»238, не замечая при этом, какими устойчивыми бывают мотивы «слухов и толков», которые в той же мере, что и фольклор, являются продуктом коллективного творчества.
Да это и есть фольклор: особый – городской, но фольклор. Отлучать его от фольклора только потому, что тексты такого рода воспроизводятся однократно для каждого слушающего, нельзя. Ведь в таком случае нам придется исключить из рассмотрения и анекдот, чего вроде бы делать не принято.
О «страстишке к анекдотам» городских людей писал еще Некрасов:
у нас очень много охотников до анекдотов: анекдоты составляют насущную, ежедневную пищу наших разговоров, и, не будь на свете анекдотов, нам пришлось бы погибнуть во цвете лет от апатии и геморроя, назло автору книги: «Нет более геморроя». Мы теперь играем в преферанс и изредка рассказываем анекдоты239.
По своему происхождению анекдот близок «слухам и толкам»: первоначально под ним понимали неизданное историческое свидетельство, однако впоследствии он стал означать краткий и остроумный рассказ о забавном происшествии или метком ответе. Именно такого рода анекдоты и имел в виду Некрасов. Бытовых анекдотов XIX века сохранилось не так уж много, известные нам мало чем отличаются от современных – ср.: «Какое сходство дамы с каретой? И та и другая ломаются и притворяются»240.
Анекдоты, как и слухи, зарождаются в условиях непосредственного общения между людьми. Рядом со сплетником (сплетницей) в салоне или на вечеринке можно было встретить остряка, чьи остроты и каламбуры легко превращаются в анекдот и быстро распространяются в разных кругах городского общества. Острослов и сам по себе представляет одну из местных достопримечательностей, рассказы о нем становятся анекдотическим эпосом своего круга и даже целого города241. Иногда острослов и сплетник сливаются в одном лице: примером тому – известный П. В. Долгоруков, «салонный bel-esprit, умеющий остро сказать, зло подсмеяться, ехидно посплетничать на чужой счет»242.
Вот так же слух и анекдот неразрывно связаны между собой в городской молве. Она ориентируется на новость: будь то реальная или выдуманная информация об изменениях, происшествиях в окружающем мире или же открытия изобретательного и находчивого ума, которые столь развлекают и забавляют городского человека. Эта сфера городского фольклора в полной мере отражает специфику городской культуры, городского образа жизни, наконец, особого, городского мироощущения.
Есть и другие, более традиционные жанры фольклорного говорения в городе: сказы, былички и бывальщины, предания и легенды и т. д., – каждый из которых, безусловно, интересен и важен. Однако не они, как мне представляется, определяют своеобразие городского фольклорного рассказа и вообще – городского фольклора.
Связь городского фольклора с повседневным бытом горожан, отражение в нем обычных, будничных забот и интересов городской жизни сочетаются с такими же тесными отношениями его со сферой профессионального искусства: литературой, музыкой, театром и т. д. Салонные беседы, разговоры в интеллигентском «кружке» или на мещанской «вечеринке» часто прерывались чтением, пересказом литературных новинок. В обстановке живого и непосредственного коллективного общения возникают сложные полулитературные и полуфольклорные формы словесной игры, стихотворных экспромтов или импровизированных рассказов. Иногда литература, как это было, например, в конце XVIII – начале XIX века, настолько срастается с бытом, что становится даже трудно провести четкую грань между письменными и устными, фольклорными явлениями городской словесности. Однако и во все другие времена между литературой и фольклором города происходит постоянный обмен мотивами, сюжетами и целыми текстами. Как в устном анекдоте легко встретить тексты из книг вроде «Анекдотов всех времен и народов», так и в литературе часто попадаются пересказы ходячих анекдотов и городских слухов, примером чего служит хотя бы повесть Некрасова «Новоизобретенная привилегированная краска братьев Дирлинг и Ко», в основу которой лег случай, наделавший «страшный скандал» в Москве и бывший там «предметом разговоров, куда ни приди»243. Напомню и об отголосках безобразовской «истории» во второй редакции гоголевского «Портрета»244. Самым же поразительным образцом слияния городского фольклора и литературы является знаменитый «петербургский миф», эсхатологическая легенда о будущей гибели петровской столицы, в развитии которой не только устные «слухи и толки» влияли на литературные произведения, но и сами литературные произведения порождали все новые «слухи» и даже исторические предания245.
Огромное влияние на устную словесность города оказывал и театр. Отмечу в этой связи слова Аполлона Григорьева о том, что «Гамлет» в переводе Н. Полевого «разошелся чуть что не на пословицы»246, но, конечно, куда более значителен вклад театрального искусства в городской песенный фольклор.
Больше известно о том, как горожане подхватывали и распевали оперные арии и хоры. Особенно счастливой в этом отношении была судьба «Аскольдовой могилы» А. Верстовского247: песни, романсы, мелодии оперы широко вошли в песенную культуру русского города XIX века – их можно было слышать не только в музыкальных концертах, но и на домашних «вечерах» и «вечеринках». Однако не меньшее распространение имели и самые разнообразные водевильные куплеты, которых сменяют к концу XIX века юмористические и сатирические куплеты эстрадного представления. Они, как, впрочем, и частушечное наследие русской эстрады начала XX века, совершенно не исследованы в плане своего фольклорного бытования, но есть все основания предполагать, что их роль в песенном фольклоре русского города была весьма и весьма значительной.
Эти жанры городского песенного фольклора все еще находятся в тени лирических песен и романсов, изучение которых давно уже показало, что история фольклорной лирики города, так называемого «бытового городского романса», тесно связана с развитием музыкального искусства в России XVIII – первой половины XIX века. Дело даже не в простом заимствовании текстов, созданных и исполнявшихся музыкантами-профессионалами. Анонимные песни, бытовавшие в городской среде, ее «гитарная» лирика показывает, что, изживая традиционную народную песню, русский город XIX века все более ориентировал свой песенный быт, свой песенный фольклор на доступные ему образцы музыкального (и поэтического) профессионального искусства.
Любопытным примером такой ориентации является «жестокий» романс, а точнее – лирико-эпическая баллада, возникшая в результате освоения городским населением литературной романтической баллады.
Эта <…> баллада была воспринята народом, получила распев и превратилась в песню-балладу нового времени. Характерно, что все особенности русской романтической баллады были сохранены народной средой. Мы увидим здесь и значительную долю психологического лиризма («Кончен, кончен дальний путь…»), и рыцарскую тематику («Мальвина»), и Кавказ («Хас-Булат»). Широкое распространение получили и самостоятельные народные сочинения, где романтической страной, далекой от привычной, обыденной действительности, является море, где поэтизируется жизнь рыбаков и матросов («Сказки морские» <…>)248.
Весьма популярным образцом этой баллады была «Морячка»: рассказ о том, как моряк обманом увозит с собой девицу, которая очень расстраивается, что ей суждено быть «простой морячкой»; однако тут же выясняется, что моряк – «сын наследный короля», целых восемь лет искавший и вот, наконец, нашедший себе супругу. Более поздняя баллада отличается какой-то особой кровожадностью, интересом к «самым кошмарным, зачастую патологическим фактам уголовной хроники»249 («Как на кладбище Митрофаньевском отец дочку зарезал свою…»). Этим она вполне соответствует общему характеру городского фольклора, его ориентации на новость, происшествие и т. д. Однако, в отличие от остроты или анекдота, усматривающих в новостях лишь их забавную сторону, «жестокий» романс изначально настроен на переживание печальных и трагических последствий «разлук», «измен» и тому подобных событий бытовой жизни. Смех должен дополняться и уравновешиваться слезами, вызвать которые и пытался мелодраматический, пошлый и примитивный, как сплошь и рядом определяют его, «жестокий» романс:
Стучат сапожки по бульвару,
Сигара светится во рту,
О дайте, дайте мне гитару,
Я про разбойников спою…
Мы не рассмотрели всех видов и жанров городского песенного фольклора. Он столь же мало исследован, как и фольклорное говорение русского города.
Можно было отметить лишь какие-то общие его особенности, что, впрочем, характерно и для всей нашей лекции о городском фольклоре.
Пора подвести итоги.
Долгое время русский город был хранителем традиционного фольклора. Однако экономическое, социальное и культурное развитие города в XVIII – начале XX века приводит к существенным изменениям в бытовой жизни горожан, что самым неблагоприятным образом сказалось на судьбе традиционного фольклора в городе. Постепенно из фольклорного обихода выпадают целые области и жанры традиционного фольклора. Это прежде всего произошло с его празднично-обрядовой стороной, так как в городской цивилизации она утрачивает свой глубокий символический смысл.
Вместе с тем нельзя не отметить и огромную роль города в сохранении традиционного фольклора, который из бытового превращается в культурное наследие. Фольклор записывается и публикуется, исполняется на концертах, широко используется в литературе и искусстве. Усвоение и переработка элементов традиционного фольклора играют большую роль в городской культуре XIX века.
Отступление традиционного фольклора из бытового обихода выдвигает на первый план в городском фольклоре устную словесность, связанную с внеобрядовой стороной быта людей, различными видами их свободного и непосредственного общения между собой. Дифференциация городского населения обусловливает существование городского фольклора в форме отдельных социально-культурных традиций устного словесного творчества.
Сама словесность в этих традициях могла быть и, действительно, была различной. Однако ей свойственны и некоторые общие черты. Городской фольклор отличается прежде всего сложностью своего характера: с одной стороны, он укоренен в бытовой повседневности, неразрывно связан с летучей городской молвой, а с другой стороны – он опирается на профессиональное искусство, многое заимствуя из него, приспосабливая его к интересам и потребностям бытовой жизни. Возвышение быта до уровня искусства и одновременно с этим обытовление самого искусства – основная особенность городского фольклора, который сохраняет и уравновешивает в себе различные явления городской культуры.
Городской фольклор порожден городским образом жизни и выражает мироощущение городского человека.
Городской фольклор в романе Достоевского «Подросток» 250
Вспоминая свою старую квартиру, Макар Девушкин упоминает и о сказках, которые длинными зимними вечерами рассказывала его хозяйка. Отчетливое противопоставление прежнего уединения и нынешней жизни героя «Бедных людей» в многонаселенной квартире распространяется и на эти «сказки»: антитезой к ним выступают «сплетни» и «толки» обитателей «Ноева ковчега». Место устно-поэтической традиции занимает здесь злободневная молва.
«Слухи» и «толки» являются характерной особенностью городского быта в произведениях Достоевского. Долгое время ими, по сути дела, и ограничивался весь репертуар устных словесных текстов, которые циркулируют в любой из изображаемых писателем общностей городского населения (от новой квартиры Макара Девушкина до города Скотопригоньевска в «Братьях Карамазовых»).
Только лишь в «Бесах» появляются достаточно ясные указания на то, что этот репертуар не исчерпывается одними «слухами» и «толками». Сравнивая Ставрогина с «иными прошедшими господами, о которых уцелели теперь в нашем обществе некоторые легендарные воспоминания», рассказчик приводит ряд рассказов «про декабриста Л[уни]на». Эти рассказы мало чем отличаются от «историй» и «анекдотов» о текущих событиях, которые столь обильно представлены в провинциальной «хронике» Достоевского. Оно и понятно: рассказы о Лунине – отголоски все той же молвы, в отличие от других, современных им «слухов» и «толков», сохранившиеся в «легендарных воспоминаниях» общества, ставшие его живой памятью. Особая функция подобных рассказов выделяет их в самостоятельный жанр городского фольклора, соответствующий историческому преданию в традиционной народной словесности.
Этот жанр становится предметом пристального внимания Достоевского в романе «Подросток».
Хозяин квартиры, где живет ушедший из дома Аркадий, бедный чиновник Петр Ипполитович рассказывает «преинтересную историю» о том, как при «покойном государе» некий молодой «мещанинишка» из Ярославской губернии остроумно и задешево освободил улицу «близ Павловских казарм» от лежавшего на ней огромного камня, посрамив тем самым англичан и Монферрана, требовавших за это большие деньги. «История» оказалась недостоверной. Объясняя Аркадию психологию бытования подобных «историй», Версилов называет еще ряд сюжетов и исторических лиц, которые либо в прошлом, либо теперь фигурируют в рассказах той «жалкой среды», представителем которой выступает Петр Ипполитович. Любимые герои этих рассказов – ловкачи (как, например, престарелый министр Чернышев, так подделывавший свою внешность, что казавшийся тридцатилетним) или глупцы (вроде коменданта Башуцкого). Они же являются и основными персонажами бытового анекдота. Характерно в этом плане замечание Анны Андреевны Версиловой о Петре Ипполитовиче: «он очень веселый человек и знает множество анекдотов». Анекдотическими персонажами истории и ограничивается интерес к ней людей вроде Петра Ипполитовича. Ведь и его «история» о камне, будто бы убранном с улицы «близ Павловских казарм» – тот же анекдот о хитром и ловком человеке («русский ум»), лучше известных умников-иностранцев справившемся с трудной задачей.
Для Петра Ипполитовича это и есть настоящая история. Она отвечает его «патриотическому чувству». Именно это чувство заставляет его не верить анекдоту Версилова о купце, сыгравшем злую шутку с трактирщиком. Однако Версилов не зря, рассказывая Аркадию этот анекдот, называет его «старинным московским анекдотом à la Петр Ипполитович». Дело не в конкретных анекдотах – сам жанр анекдота лежит в основе исторических представлений Петра Ипполитовича: основная тема этого жанра – умственные способности человека, что соответствует тому исключительному значению, которое, по мнению Достоевского, придается «уму» в сознании людей из «интеллигентных классов» (см. его «Нечто о вранье»).
Историческими анекдотами отнюдь не исчерпывается интерес Петра Ипполитовича к «общечеловеческому, поэтическому». Он знает и о любопытном процессе в английском парламенте, где в прошлом веке судили «по нашим законам» Христа и вынесли ему обвинительный приговор, может потолковать и о модном ныне спиритизме. Его интересует все сколько-нибудь необычное, чрезвычайное и занимательное. Старого князя Сокольского он пугает своими воспоминаниями о фокусах «приезжего шарлатана», который на его глазах в «пятьдесят девятом году» отрезáл человеческие головы и потом приставлял их так, что они опять прирастали к шее. Это – типичный городской житель: общительный, любопытствующий, готовый даже стать шпионом, лишь бы испытать «радость интриги», оказаться в центре происходящих событий.
Далеко не случайно, что появление Петра Ипполитовича в романе совпадает со временем приобщения Аркадия к светской жизни. Отчетливее и полнее, чем все прочие персонажи «Подростка», он олицетворяет собой ее основную особенность – «лганье», которым, по мнению Достоевского, изложенному им в заметке «Нечто о вранье», проникнуто все общество: собрания, вечера, клубы… Версилов, которому писатель передает свои мысли на этот счет, прямо называет Петра Ипполитовича «типом» – типом «непорядочного» лгуна. Этот тип распространен, как отмечает Версилов, даже и в «самом порядочном нашем обществе», признаваясь, что и сам он принадлежит к нему. Мир светского общения попросту невозможен без подобных «типов». Они поддерживают его фундамент – праздную «болтовню» с ее непременными «остротами» и «анекдотами» (которые у Достоевского в этом контексте выступают прежде всего как веселые анекдоты). Втягиваясь в этот пустой и ищущий одних лишь развлечений мир, Аркадий приобщается к жизни, где царствует веселый анекдот. Он и сам должен стать «остряком, говоруном и рассказчиком». Этот момент обыгрывался в подготовительных материалах к «Подростку» (ср.: «неугомонно острит в обществе за картами, рассказывает анекдоты, говорит остроты и срезывается»), но в окончательном тексте романа осталось лишь его признание в том, что и он «несколько раз» рассказывал «про Чернышева».
Аркадию приходится преодолевать не только «школьнические, гимназические» черты в себе и своем поведении. Столь же незрелой оказывается и взрослая жизнь, которая временами обнаруживает поразительное сходство с жизнью детей, подростков: и это – не только альбом порнографических фотографий, которые Петр Ипполитович показывает старому князю Сокольскому – на фоне «гадких разговоров» подростков о женщинах, но и намерение соученика Аркадия по гимназии Ефима Зверева «бежать в Америку» – в параллель с рассказами о ней «государственных людей», что отражает всеобщую погоню за «придуманным», пренебрежение действительностью, «истиной». Характерно, что отмеченные здесь инфантильные черты взрослой жизни опять-таки связаны с Петром Ипполитовичем: выявляются в разговорах или событиях, происходящих на его квартире.
Ей противостоит дом, где живет мать Аркадия. Здесь Аркадий знакомится с человеком, фамилию которого он носит, – странником Макаром Ивановичем Долгоруким. Рассказывавший матери Аркадия, когда та была ребенком, сказки, он и теперь, перед смертью, занимает окружающих своими «историями». От него Аркадий впервые слышит «легенды из жизни самых древнейших подвижников», но более всего подростка поражают рассказы Макара Ивановича «из частной жизни». Обстановка рассказывания напоминает обычные формы светского общения («у нас установилось нечто вроде „вечеров“», – замечает Аркадий), да и сами рассказы пестры и разнообразны, как в любом непринужденном разговоре, и не имеют «никакого общего характера, нравоучения какого-нибудь или общего направления». Однако все это исполнено глубочайшего внутреннего смысла, потому что заключает в себе слово отходящего в иной мир старца: открывается то, что «поэтичнее всего, <…> даже фантастичнее всего, что мог бы налгать и напредставлять себе повадливый ум человеческий» – истина.
Одна из «историй» Макара Ивановича приводится в романе. Это и есть истинная история, которых «в наших городах и городишках случается тысячами, лишь бы уметь смотреть». Анекдотам городских «болтунов» и «дураков» противопоставляется народная легенда.
Летние Кузьминки в старом Брянске: «Проводы дремы»
Христианские святые Косма и Дамиан – врачи-бессребреники. В русской народной традиции Кузьма и Демьян выступали прежде всего как «божьи кузнецы», что обусловлено созвучием имени Кузьма со словами кузня, кузница, кузнец. Они покровительствовали не только кузнечному ремеслу, но и семейному счастью, в связи с чем на свадьбах заклинали Кузьму-Демьяна, который зачастую воспринимался как одно лицо, «сковать свадебку крепкую, вековечную, нераздельную»251.
Особое почитание Кузьмы-Демьяна, покровительствовавших браку и семье, было распространено среди девушек и женщин. Именно они праздновали летние и осенние Кузьминки, как назывались в народе дни памяти святых Космы и Дамиана – 1/14 июля и 1/14 ноября. Однако праздновали отдельно и по-разному. Если девичий праздник, приуроченный к осенним Кузьминкам, отличался спецификой и разнообразием своей обрядности252, то летние Кузьминки, судя по имеющимся материалам, носили более типовой характер: «Это чисто женский праздник с хождением в гости, обязательной растительной пищей, которую готовили и собирали вскладчину (женские братчины) с пивом, разговорами и песнями»253.
Естественно, что любое дополнение к материалам по летним Кузьминкам представляет интерес и заслуживает тщательного изучения. Некоторое время тому назад брянский историк и краевед Э. С. Голубева обратила мое внимание на заметку местного собирателя Павла Никитича Тиханова. Издавая в середине 1890‐х годов газету «Брянский вестник», он опубликовал в нем массу этнографического материала, среди которого была и заметка о «проводах дремы» в летние Кузьминки254. Впоследствии П. Н. Тиханов перепечатал ее с небольшими дополнениями в своей книге «Брянский говор. Заметки из области русской этнологии» (СПб., 1904).
Вот этот материал:
Дремá. – Проводы дремы. На летнего Козьму-Демьяна (1‐го июля) сыздавна в Брянске существует обычай «провожать дремý», каковой состоит в следующем: Ночью, чуть не вполночь (нéвголос), в некоторых местностях города, преимущественно на Судках, Ближнем и Дальнем, раздается где-нибудь на перекрестке крикливое женское пение, сопровождаемое битьем в заслонки, сковороды и т. п. Поют же при этом обыкновенно одну, приуроченную к сему песню, так сказать, главную или обрядовую, хотя не исключаются и другие:
Сухотá-ль моя, сухотá,
Некорыстная жена,
Некорыстная жена,
Мужа высушила,
Иссушила, сокрушила
Живо сердце до конца,
Румянийце из лица.
Как заставила ходить
По чужой стороне,
Приневолила любить
Чужемужнюю жену:
Чужемужняя жена —
Лебедушка белая,
А моя шельма-жена —
Полынь-горькая трава,
Полынь-горькая трава
Во чистом поле росла.
Через чистое поле
Перепелушка летит,
Она летит, летит, летит,
Перепырхивает.
Как из терема в терём
Красна девица бежит,
Она бежит, бежит, бежит,
Пусты речи говорит:
Загорися мой терём
Со широким со двором.
Сохрани, Боже, помилуй
Один дедушкин овин.
Ув овине дворянин
Каравать сгородил,
Каравать сгородил,
Перчаточки позабыл,
Еще скляницу вина.
Со того-ли с овинá
Загорелась слобода:
О, что ж это за пожар,
За пожарище (пажаришша) такой:
Он не низок, не высок —
Девяносто семь венцов.
Вариант:
Сухота ль моя, сухота,
Некорыстная жена,
Некорыстная жена,
Мужа высушила,
Иссушила, сокрушила,
И в чахотку удалá.
Чужемужняя жена —
Лебедушка белая,
Но моя шельма-жена —
Полынь-горькая трава,
Полынь-горькая трава,
У чистóм поле росла.
Исполнением этой песни и заканчивается «провожание дремы», после чего все расходятся домой255.
Опубликовавший первую и гораздо более архаичную версию «проводов дремы», бытовавшую по соседству с Брянском, выдающийся украинский историк и этнограф М. А. Максимович был склонен объяснять этот обычай практическими обстоятельствами. Он описал «обряд, который на розыгры ведется в Новгород-Северской стороне, над Десною»: «Молодежь собирается в этот день гурьбою в лес. Срубив несколько березовых ветвей, увивает их цветами, потом несет с песнями по селу и вокруг села, и наконец, бросает их в реку. Эти проводы весны, в виде потопленной березы, называются там проводами Дремы». Это описание он заключал: «В этом названии тот смысл, что следующим днем начинаются уже рабочие дни Петровки, в которые надо быть неусыпными и о которых поют на Украине:
Мала ночка – Петровочка,
Не выспалась наша девочка256.
Хотя в материале М. А. Максимовича «проводы Дремы» приурочены к началу Петровского поста257, его объяснение, исходящее из основного значения слова дрема, которое В. И. Даль определял как «наклонность ко сну, сонливость, или начало усыпленья, самый легкий сон»258, вполне подходит и в нашем случае. Если учесть, что как раз перед летними Кузьминками праздновался Петров день, который воспринимался не только как перемена времен года, но и как рубеж в сельскохозяйственной деятельности, то и брянские «проводы дремы» (будь то имя нарицательное или же персонифицированное воплощение идеи сна, как в колыбельных песнях259) можно истолковать в чисто бытовом контексте: «Женское лето – до Петра, с Петрова дня – страдная пора!» Вслед за летними Кузьминками у женщин начинались тяжелые трудовые будни.
В пользу такого толкования, казалось бы, свидетельствует и записанная П. Н. Тихановым песня. Обратим внимание на образ перепелки, в народных представлениях о которой подчеркивается тема хлебной нивы и жатвы260; не говоря уже об овине – специальном помещении, где сжатые снопы сушились перед обмолотом.
Однако есть основания усомниться в сугубо бытовой подоплеке «проводов дремы». Этому особенно способствует публикация М. А. Максимовича, благодаря которой «проводы дремы» определенно вписываются в ритуально-мифологический контекст «проводных» обрядов, с помощью которых боролись отнюдь не с сонливостью, но – с самой настоящей нечистой силой. Если брянский обычай исчерпывается отпугиванием при помощи ритуального шума, то в Новгород-Северском уезде появляется ритуальный предмет, от которого избавляются, обезвреживая его. Это пучок зелени: здесь – березовых веток, увитых цветами. В купальской обрядности пучок зелени – один из самых распространенных объектов, символизирующих ведьму. Выбрасывая зелень в реку, люди изгоняли вредоносных ведьм, пытаясь отправить разгулявшуюся в праздник нечисть обратно: на тот свет, в иной мир261.
Еще более отчетливо связь «проводов дремы» с предохранением от злых козней нечистой силы прослеживается в материалах, собранных на Рязанщине. Здесь зафиксирована обрядность Русальского заговенья (первого воскресенья после Троицы), в рамках которого наряду с похоронами куклы-Русалки выбрасывали в воду и дряму, как здесь «называется любой русальский букет, но желательно, чтобы в нем были ветки клена и крапивы»262. Отметим, что дрямой именуется сам ритуальный предмет. Его значение подчеркивается и местным названием Русальского заговенья – Дряменный день. Он символизировал собой русалку (считается, что «русалка в дряме живет»), в связи с чем оба обряда, совершавшиеся в Русальское заговенье, по сути дела дублировали друг друга. Между тем в обрядовых действиях с дрямой подчеркивается исходящая от нее опасность: после того как дряму бросали в воду, следовало как можно скорее убежать от реки263. Очевидно, что, избавляясь от дрямы, люди как бы очищали свой мир от нечисти.
Аналогии между новгород-северским обрядом и обрядовыми действиями с русальским букетом дрямой на Рязанщине достаточно очевидны. Однако дело, как видно, не исчерпывается их сходством. Описанный П. Н. Тихановым обычай позволяет нанести на карту изоглоссу, свидетельствующую о том, что в прошлом на большой территории, расположенной от Рязани до Чернигова, существовал единый обряд «проводов дремы». Остается гадать, сохранилось ли среди брянской бедноты, населявшей окраинные овраги264, хоть какое-то представление о назначении и внутреннем смысле этого обряда. Во всяком случае, изменение календарной приуроченности не должно было иметь катастрофических последствий: ведь проводы русалки происходили и в Петров день265, а период пребывания русалок на земле мог продолжаться до самой жатвы266.
Однако вернемся к концу XIX века, когда «проводы дремы» в Брянске являлись завершающей частью женского праздника на летних Кузьминках. Именно это обстоятельство и обусловило содержание песни, которая приурочена к «проводам дремы».
Она представляет собой монтаж разнообразных и по большей части трансформированных формульных тем плясовых песен. Особенно характерны изменения, которые происходят с ними в начале и в конце песни. Описание мужа, изнуренного «некорыстной» женой (бескорыстной и невыгодной, с его точки зрения), взято, например, из гораздо более типичной для народной лирики жалобы «удалого молодца» на неприступную «девчоночку»267; тогда как пожар, разгорающийся в заключительной части песни, нигде не достигает высоты в «девяносто семь венцов»268 – он гораздо слабее. Только такой пожар может являться параллелью к неуместной и неприличной мягкости мужа по отношению к жене:
Что это за пожар,
Что не жарко горит,
Да не вспыхивает?
Уж и что это за муж,
Что жены своей не бьет?269 —
о чем вообще не упоминается в нашем тексте.
Появление женщины в самом начале песни легко объясняется составом ее исполнительниц. Но масштабы пожара, который возникает по просьбе девушки и в отсутствие параллельной к нему картины из человеческой жизни (где женщина изображается страдалицей), становятся финальным аккордом песни, выявляют и подчеркивают основополагающее для нее представление об особой активности женского начала и даже о его власти над окружающим миром. Очевидно, что песня соотносится с атмосферой и идеологией женского праздника, предоставлявшего ее участницам редкую возможность освободиться от норм и запретов повседневности и поощрявшего смеховое выворачивание мира наизнанку, когда упразднялась привычная иерархия и женщины ощущали себя владычицами мира.
Комментарий к песне «Чубаровцы» («Двадцать лет жила я в провинции…»)
Отмечая интерес и внимание Ю. М. Соколова и его соратников к фольклорным текстам независимо от того, соответствовали ли они идеологической норме, авторы статьи, посвященной фольклористической работе Ю. М. Соколова в Твери, приводят в качестве примера песню «Чубаровцы», которая в 1931 году была записана от работницы Лихославльского льнокомбината Лидии Шептаевой:
Двадцать лет жила я в провинции,
Некультурна деревня была,
Про меня худой славы не было.
Вот однажды задумала я:
Деревенскую школу кончила,
Но учиться охота берет.
Город Ленина техникумами
И науками разным слывет.
Вот задумала в город ехать я,
Но не знала девчонка, того,
Что там, в городе, звери водятся
И живут хулиганы, ворье.
Вот однажды я по Чубарову
От подружки вечером шла,
Вдруг толпа стоит, меж собой смеясь,
Подошли, окружили меня.
И девчоночка поспугалася,
С плеч снимает пальто, отдала,
Но они стоят, усмехаются
И пальто от меня не берут.
Тут девчоночка догадалася.
– Отпустите, – я им говорю.
– Вот уж нет, – они говорят в ответ,
За бессильные руки берут.
Где таилась кругом тишина,
Дело гнусное совершилося,
И кругом была смята трава.
Тут очнулася горемычная,
В отделенье милиции шла.
Были пойманы звери лютые,
На суде рассказали про все.
Вместо всех наук, что я думала,
Мне пришлося на койке лежать.
Сохну, вяну я, стыд мне щеки жгет,
Со стыда горят мать, отец.
Тут молва прошла про чубаровцев,
Суд припас для них приговор:
Семерым расстрел, остальным тюрьма,
И короткий был с ним разговор270.
Источником этой песни являются материалы знаменитого «чубаровского дела». Информация о преступлении, совершенном в саду Сан-Галли, расположенном на Лиговке в районе Чубарова переулка271, впервые появилась в вечернем выпуске ленинградской «Красной газеты» от 10 сентября 1926 года:
Исключительный случай
Жертвою звероподобных сделалась 20-летняя девушка, Б-ва, сестра студента-медика, готовившаяся поступать на один из раб-факов, прож<ивающая> на Лиговской ул<ице>.
На днях, около 10 ч<асов> веч<ера>, Б-ва проходила по Чубарову пер<еулку>, на Тамбовскую ул<ицу> к подруге.
Вблизи Предтеченской ул<ицы>272 ее окружила толпа молодых людей в возрасте 19–25 л<ет>, в числе около 30 чел<овек>.
Взяв Б-ву за руки и угрожая ножевой расправой, хулиганы предложили ей следовать за собой.
Боясь, что неизвестные приведут свою угрозу в исполнение, девушка не решилась кричать и подчинилась требованию хулиганов.
Завязав глаза Б-вой грязной тряпкой, толпа под свист, крики и улюлюкание потащила ее на Предтеченскую улицу.
Дотащив до сада б<ывшего> Сан-Галли, звери втолкнули девушку в отверстие от разломанного забора и повлекли вглубь сада.
Здесь хулиганы сняли с Б-вой повязку, и она увидела себя окруженной толпой.
Предполагая, что неизвестные хотят ее ограбить, Б-ва стала снимать с себя пальто, предлагая отдать его добровольно «грабителям».
В ответ на предложение девушки послышался смех. Один из толпы заявил, что они не грабители, и предложил ей лечь на землю. Когда девушка заколебалась, ей подбили ноги. Она упала, потеряв сознание.
Опомнившись, Б-ва услышала разговор: «Она не дышит». «Надо оживить».
Посыпались удары в бок, грудь и другие части тела. Кто-то схватил Б-ву за волосы и стал таскать по земле.
Когда хулиганы увидели, что их жертва пришла в себя, они стали, один за другим, насиловать ее.
Б-ва билась в руках насильников, но совладеть с ними, конечно, не могла.
У выхода из сада к первой группе присоединилась вторая, в числе 10 чел<овек>, которые также приняли участие в насилии.
Лица некоторых Б-ва запомнила, разглядев их при свете спичек, которые хулиганы подносили к ее лицу, чтобы удостовериться, жива ли она.
Перед выходом из сада люди-звери взяли со своей жертвы клятву, что она никому не расскажет о случившемся. Вырвалась из рук насильников Б-ва только в 4‐м часу утра. С большим трудом она добрела до постового милиционера, которому и заявила о происшедшем.
Произведенной сразу же облавой милицией было задержано 5 чел<овек> участников насилия, из которых четверых Б-ва опознала.
Дело об изнасиловании Б-вой было в срочном порядке передано следователю 7 отд<еления?> т<оварищу> Ардамацкому.
При участии Угрозыска, в настоящее время выяснено и задержано 12 чел<овек>, обвиняемых в совершенном преступлении.
К выяснению личностей и аресту остальных приняты меры273.
Эта информация уже на следующий день была растиражирована местной и центральной прессой. Оставим в стороне все вопросы и недоумения, которые вызывает не только сама заметка274, но и весьма запоздалая по тем временам ее публикация, где рассказывалось о преступлении, совершенном отнюдь не «на днях», а в ночь на 22 августа. Если кто-то и сомневался в достоверности газетной информации о «чубаровском деле», то уж во всяком случае не люди, сочинившие, распевавшие и слушавшие «Чубаровцев». Об этом достаточно убедительно свидетельствует песня. Описывая преступление, она, по сути дела, пересказывает газетную заметку. Естественно, что в пересказе письменных источников задействованы и культурные стереотипы среды, которые могут трансформировать исходную информацию. Это характерно для описания поведения преступников на суде: их отличие от реальных «чубаровцев», отрицавших все обвинения и образовавших, по словам одного из освещавших процесс журналистов, «единый фронт лжи и утайки»275, объясняется, по-видимому, влиянием традиционного для песенного фольклора образа преступника, который признается во всех своих преступлениях.
Оглашение приговора, которым завершается песня, происходило 27 декабря 1926 года. Имея в виду, что 13 января 1927 года Верховный суд помиловал двух из семи приговоренных к высшей мере наказания, заменив им смертную казнь десятью годами заключения, можно предположить, что песня «Чубаровцы» возникла в конце декабря 1926 – первой половине января 1927 года.
Это не единственная песня, рассказывавшая о «чубаровском деле». Еще две песни сохранились в сборнике «Песни уличных певцов», материал для которого А. М. Астахова собирала в Ленинграде в том же самом 1931 году276, когда на Лихославльском льнокомбинате была записана песня «Чубаровцы» («Двадцать лет жила я в провинции…»). Одну из этих песен А. М. Астахова приводит по тексту, приобретенному ею от уличного певца А. Н. Соколова:
На «Кирпичики» народные
Эта старая песня теперь,
Дело Лиговки и Чубарова,
В этом деле участвовал зверь.
А теперь я вам расскажу, друзья,
Как сложилися дела у них.
Поздно вечером 40 пьяницев
Только что возвращались с пивных.
Собралась шпана толпой шумною
И пошли в сад Сангалий гурьбой,
Там и встретили они девицу,
Зверским басом сказали ей: «Стой!»
Бедна девица побледнела вся,
Она думала только одно,
Что раздеть хотят ее наголо,
И сама предложила пальто.
Но шпана в ответ засмеялася:
«Вы возьмите обратно пальто».
Взяли под руки и сказали ей:
«Нам совсем от вас нужно не то».
Бедна девица испугалася,
Стала банду просить, умолять,
Тут она сама догадалася,
Что ребята взять силой хотят.
Но шпана в ответ все смеялася,
Стали жертву свою потреблять,
И один сказал: «Не скончалась б,
Оживить ее надо опять».
Люди темные, люди зверские
Стали жертву по саду таскать.
Когда девица лишь очнулася,
То бандиты принялись опять.
Но пришел конец, и бедна девица
Без сознанья лежала в тени.
Тормошить ее, будить начали,
Привесть в чувство решили они.
Подняли ее и сказали ей:
«Ты молчи и ни слова нигде»,
Довели ее до Чубарова
И посмылась шпана в темноте.
И спустя 3 дня пошла девица
К испиртизму судебным277 и там
Осмотрели всю и сказали ей,
Что придется в больницу лечь вам.
Подлецы они бессердечные,
Погубили навеки меня:
Жись отравлена, жись погублена,
Не вернуть мне ее никогда.
В примечании А. М. Астахова указывает, что песня уличными певцами уже не исполняется, но продолжает бытовать среди городского населения.
Аналогична и судьба другой песни о «чубаровском» деле, которая помещена в сборнике А. М. Астаховой. Она плохо помнится уличными певцами, поэтому исследовательница приводит ее по тексту из «тетрадки» работницы швейной фабрики имени 1‐го мая:
На окраине большой Лиговки
Сад Санзали уныло стоит,
И за стенами, за заборами
Ветер жалобно как-то шумит.
Ленинград большой, шумны улицы —
Все затихло в ночной тишине,
Лишь по улицам-переулочкам,
Лишь проходит прохожий кой-где.
Одна девица по Чубарову
Раз домой торопилась она,
Вот подходят к ней парни бравые,
Человек их под сорок толпа.
Завопил один ей «Девчонка, стой,
Направляйся-ка с нами и ты».
Разговор не долг, схватил за руки,
Потащили девчонку они.
Притащили в сад, завязали рот
И теперь уж она не орет.
Было дальше что – дело ясное,
И наверное каждый поймет.
Издевалися, надсмехалися
И, насытившись вволю, ушли.
И осталась одинокая,
Сердце ноет и щемит в груди.
Но не долго так все скрывалося,
Быстро город об этом стал знать,
Все рабочие возмущалися,
Кинул лозунг: таких расстрелять.
Уголовное дело следствие
И по делу велося сему,
Были пойманы все голубчики
И предали их всех губсуду.
Жалко стало тут нашей девочки,
Жалко их или жалко себя,
Молодую жизнь загубили ей,
Никому уж теперь не нужна.
А мужчинам всем завещаем мы:
Не томитесь вы без жены
И не мучайте наших девочек,
Не нарушайте ночной тишины.
Общим для всех трех песен является их происхождение. Они восходят к информации о «чубаровском» деле в ленинградских газетах. Это показывает, насколько информативной была пресса середины 1920‐х годов. Именно из прессы заимствовались многие сюжеты «уличных» песен, представляющих собой весьма популярный, но до сих пор недооцененный пласт городского фольклора, остатки которого еще можно встретить в самых далеких уголках нашей страны.
Вместе с тем городские песни 1920‐х годов были достаточно разнообразны по своим особенностям, о чем убедительно свидетельствуют песни о «чубаровском» деле. Если для собранных А. М. Астаховой песен характерен интерес к самому событию, то перволичная форма повествования в песне, записанной на Лихославльском льнокомбинате, сосредотачивает внимание на личности жертвы преступления, которая, в сущности, рассказывает историю своей жизни.
Одним из основных жанров в репертуаре Лидии Шептаевой были «романсы, завезенные в Лихославль приезжими из Ленинграда»278. Вероятнее всего, что и песня «Чубаровцы» («Двадцать лет жила я в провинции…») ленинградского происхождения. Отсутствие этой песни в сборнике А. М. Астаховой может объясняться тем, что ее тема не вызвала в Ленинграде особого интереса и она быстро исчезла из песенного обихода. Другое дело – провинция: здесь история провинциалки, потерпевшей катастрофу в большом городе, сохраняла свою остроту и актуальность.
Песня о петербургском заводчике Путилове
Николай Иванович Путилов родился в 1820 году в семье мелкопоместных дворян Боровичского уезда Новгородской губернии. Он воспитывался в Морском кадетском корпусе, проявил себя как талантливый математик и по окончании курса в офицерских классах корпуса был назначен преподавателем математики, астрономии и навигации. Однако обстоятельства сложились таким образом, что многообещающий математик становится инженером-практиком, выдающимся организатором производства.
Н. И. Путилов отличился во время Крымской войны 1853–1856 годов, когда за год под его руководством была построена целая флотилия канонерских лодок и корветов, защитившая Петербург от нападения английского и французского флотов. Выйдя в отставку, он занялся строительством заводов: сначала железоделательных – в Финляндии, потом сталелитейного – на Неве, который по предложению Путилова был назван Обуховским (в честь основателя завода, металлурга П. М. Обухова). Важнейшим же событием в предпринимательской деятельности Путилова стала покупка им в 1868 году металлообрабатывающего завода, расположенного на Петергофском тракте. Он был небогатым человеком и не смог бы купить этот завод, если бы не огромный казенный заказ на изобретенные им рельсы нового типа, которые оказались прочнее и дешевле рельсов иностранного производства. В кратчайший срок Путилов наладил производство. Его неустанными трудами завод, вскоре получивший название Путиловского, превратился в один из крупнейших и самых передовых русских металлургических и машиностроительных заводов.
Однако был у Путилова и еще более амбициозный проект. Он мечтал о постройке торгового порта в самом Петербурге. В 1869 году Путилов приступил к реализации мечты своей жизни. Масштабы строительства были грандиозны. Создавался целый транспортный узел: к заложенному неподалеку от Путиловского завода порту прокладывался Морской канал и строилась железнодорожная ветка, связавшая порт с Николаевской железной дорогой. Это требовало больших денег. Интриги конкурентов и недоброжелателей привели к тому, что государство на этот раз не поддержало Путилова. Источником финансирования должно было стать учрежденное предпринимателем в 1873 году акционерное «Общество Путиловских заводов», но огромные траты на строительство привели к тому, что большинство его акций перешло Государственному банку. Дело дошло до того, что у Путилова не осталось ни одной акции. Он выбыл из состава акционеров и был исключен из правления акционерного общества. От нищеты и позора долговой тюрьмы Николая Ивановича Путилова спасла только смерть от сердечного приступа, последовавшая 18 апреля 1880 года.
Н. И. Путилова по праву называли «гуманнейшим заводчиком». Он всячески заботился об улучшении жизни своих работников: открыл больницу с бесплатным амбулаторным приемом, дешевую столовую, школу для детей и вечерние курсы для взрослых, библиотеку и т. д. Однако больше всего рабочие ценили Путилова за его внимание и уважение к простым людям (достаточно сказать, что он знал всех заводских рабочих по именам).
В памяти рабочих хранится представление о Николае Ивановиче как о сердечном хозяине-работнике, труженике <…> «Хозяйский дух в нем был и любовь такая, – рассказывали про Путилова, – что гордости своей для дела не жалел. Случалось, созовет всех к той часовне, которая посейчас стоит, выйдет, снимет шапку да поклон на все стороны. Уж мы понимаем, что, стало быть, денег у самого нет на расчет с нами. Он в этом покается, подождать попросит, а мы… и подождем – сколько он назначит. Частенько вволю хлеба не наедались, а дело ростили, не бросали из‐за пустяков, потому что душа в душу с ним жили и хозяйский дух в нем чувствовали…»279
Очевидно, что не все рабочие поступали таким образом: были среди них и недовольные, устраивавшие забастовки и беспорядки. Однако гораздо больше было тех, кто уважал Путилова. Об этом свидетельствуют его похороны, на которых присутствовало несколько тысяч рабочих. Именно рабочие, в сущности, организовали и провели эти похороны: пригласили певчих из главных петербургских соборов и сами на носилках пронесли гроб с телом Путилова от дома на Большой Конюшенной улице, в котором он жил, до места на высоком берегу речки Екатерингофки, где он завещал себя похоронить и откуда были видны Путиловский завод и Морской порт. Высокий авторитет Путилова и добрая память о «милостивце и благодетеле» еще долгое время сохранялись среди путиловских рабочих, которых даже во время Первой русской революции вдохновляли листовками, начинавшимися словами «Не посрамим имени Путилова…».
От фольклора, который когда-то существовал в связи с Путиловым280, осталась лишь одна-единственная песня. Наиболее полный вариант этой песни записан в 1931 году А. М. Астаховой для готовившегося ею сборника «Песни уличных певцов»:
Недалеко от Нарвской заставы
От почтамта версты на седьмой
Там отрыты глубоко каналы
Для рабочих приют дорогой.
Там же жил надзиратель конторы
А фамилие Путилов ему,
Он от Бога умом награжденный
И научен на свете всему.
Стал завод понемногу он строить,
Чтоб впоследстве иметь барыши
За-границу поехал он смело
И оттуда привез чертежи.
Понемногу завод он все строил
А впоследстве уж стал набавлять,
А в начале девятого года
Стал Путилов завод бастовать.
Тут контору его окружили
И хотели завод распродать,
Рассмотрели все книги конторы
С акциона хотели продать.
Но когда же Путилов скончался,
То оставил письмо на столе:
Чтоб заводом моим любоваться,
Схоронить на заводской земле.
Три версты отступя от завода
Там в часовне лампада горит,
Про то знают миллионы народа,
Что в том месте Путилов зарыт281.
В комментарии к песне А. М. Астахова приводит свидетельство старого рабочего о том, что песня о Путилове пелась еще в конце 1890‐х годов, и отмечает, что исполнялась она и в 1920‐е годы, но «в настоящее время заброшена». О самой же песне А. М. Астахова пишет следующее:
Песня представляет интерес как тип городской легенды, связанной с определенным местом и вещественным памятником:
Три версты отступя от завода
Там в часовне лампада горит…282
Могила Путилова была действительно необычна. Для того чтобы исполнить завещание и похоронить его не на кладбище, пришлось обращаться за разрешением к царю Александру II283. Однако песня продолжала существовать и после того, как 11 ноября 1907 года прах Путилова был перенесен в подвальный этаж заводской церкви св. Николая и св. мученицы царицы Александры, построенной в начале XX века284. Из текста песни ясно, что часовня – всего лишь финальный эпизод предания о создателе Путиловского завода, которое и лежит в ее основе.
Из сопоставления песенных вариантов выясняются постоянные и переменные элементы предания о Путилове. Он может по-разному именоваться: «надзирателем конторы» или же «генералом заслужённым» (как в варианте, записанном от семиреченских казаков285); главное – его ум и образование:
Он от Бога умом награжденный
И научен на свете всему.
Тем не менее оказывается, что, для того чтобы построить завод, нужны еще и заграничные чертежи. Это противоречит действительности: основанное Путиловым рельсопрокатное производство велось по его «чертежам» и давало более качественную продукцию, чем зарубежные конкуренты. В то же время Путилов, никогда, кстати сказать, не бывавший за границей, следил за новинками в металлургии и использовал их на своем заводе. В 1870 году в прокатной мастерской был поставлен небольшой бессемеровский конвертер, в котором путем продувки чугуна воздухом выжигались примеси и получалась сталь. Изобретение английского инженера Генри Бессемера использовалось для изготовления проката и снарядов. А в 1877 году рельсы начали изготовлять из стали, которая получалась при помощи тепловой обработки чугуна и стального лома в специальных печах, позже названных «мартеновскими» (по имени их изобретателя, французского инженера Пьера Мартена). Однако нельзя исключать и влияние фольклорно-мифологического мотива: культурный герой, с которым здесь ассоциируется Путилов, добывает необходимые блага культуры путем находки или даже похищения их у первоначальных владельцев. Следующий эпизод предания о Путилове – забастовка. Непонятно, какая забастовка имеется в виду, но забастовки при Путилове были, хотя и не имели того значения, которое придается им в большинстве вариантов песни, где чуть ли не забастовка приводит Путилова к краху. Гораздо ближе на этот раз к истине отрывок, записанный В. С. Бахтиным:
Хотя жил на широкую ногу,
Но имел небольшой капитал.
Капитала он скоро лишился…
А впоследствии сам спохватился:
Денег нету и должен кругом286.
Один из самых устойчивых эпизодов предания – «письмо»-завещание Путилова, в котором он просит «схоронить» его «на заводской земле». Оставив завещание, Путилов умирает, причем в варианте, записанном от семиреченских казаков, он не просто скончался, как в других вариантах, но «успел застрелиться». Этим эпизодом, как правило, и заканчивается песня о Путилове. Единственный вариант, сохранивший описание места, где был похоронен Путилов, – запись А. М. Астаховой. Людей интересовала не столько могила Путилова, сколько сам заводчик, его драматическая судьба.
Определить людей, интересовавшихся Путиловым, нетрудно. Это его рабочие, для которых завод действительно был «приют дорогой». Их сосредоточенность на заводе отражает и наша песня: с завода она начинается и заводом кончается. Характерно, что место погребения Путилова описывается по отношению к заводу (ср.: «три версты отступя от завода»). Обстоятельства создания этой непритязательной и заведомо непрофессиональной песни неизвестны287, но нет сомнений в том, что она возникла в рабочей среде.
«Хозяин», заводчик – фигура достаточно традиционная для рабочего фольклора. Исследователи рабочего фольклора XIX века выявили немало преданий и целый ряд песен, бытовавших среди рабочих в самых разных местностях России, как о добрых и справедливых, так и о злых и жестоких хозяевах. Эти песни не похожи на исторические песни, созданные в казацкой или солдатской среде, но точно так же отражают историческое самосознание своих носителей, принадлежавших к разным слоям рабочего класса. «Рабочая песня, – считал B. Я. Пропп, – в некотором отношении есть как бы преемница песни исторической»288. Это хорошо видно на примере песни о Путилове. От других песен подобного рода ее отличает разве что масштаб личности героя, благодаря которому она вышла за рамки локального, заводского фольклора.
«Как на кладбище Митрофаньевском…»: правда и вымысел городского романса
Один из самых популярных русских городских (или «жестоких») романсов, как называли в ХX веке современные песни балладного типа, рассказывает про убийство отцом своей маленькой дочери на кладбище, которое обычно называется Митрофаньевским/Митрофановским.
Напомню этот сюжет:
Вот сейчас, друзья, расскажу я вам,
Этот случай был в прошлом году.
Только, граждане, не мешайте мне,
Я сейчас этот случай спою.
Отец, мать и дочь жили весело,
Но изменчива злая судьба:
Надсмеялася над сироткою, —
Мать в сырую могилу легла.
Отец дочь любил после матери.
Но недолго была благодать,
Он нашел себе жену новую:
«Надя, Надя, вот новая мать».
Неродная мать ненавидела
Восьмилетнюю крошку сперва,
Но ничем ее не обидела,
А задачу отцу задала:
«Всей душой люблю тебя, миленький,
Только жить мне с тобою не в мочь.
Говорить тебе это совестно —
Жить с тобою мешает мне дочь.
Иль убей ее, иль в приют отдай,
Только сделай все это скорей;
А не сделаешь – я уйду тогда,
И одна буду жить веселей».
Мысль звериная пришла в голову,
И не стал отец дочку любить.
Но в приют отдать было совестно
И решил зверь-отец дочь убить.
Пахло зеленью, холодок в тени,
На могилку малютку стал звать.
Не хотелося идти с папою,
Но хотелось проведать ей мать.
Пахло зеленью, духота кругом.
Стала рвать цветы, венок плесть,
Ей хотелось могилку убрать.
Пахло зеленью, духота кругом.
Вдруг отец: «Надя, Надя!» – стал звать.
– «Ты иди, иди ко мне, милая,
Я хочу тебе что-то сказать».
Подошла к отцу бедна девочка
И упала на грудь головой:
«Папа, папочка, это мать моя,
На могилку пришли мы с тобой».
– «Ты, родная дочь, иди к матери,
Ты мешаешь на свете мне жить;
Пусть душа твоя горемычная
Вместе с мамой в могиле лежит».
Лицо белое – испугалася…
Он схватил и начал ее жать,
Чтобы крик ее не услышали,
И на помощь людей не дал звать.
Засверкал тут нож у отца в руке,
И послышался слабенький стон;
И кровь алая по земле текла,
И над трупом отец-зверь стоял.
Зверь-отец такой ради женщины
Совершил он такую комедь.
Поднялась рука свою дочь убить,
Чужой женщине жертву отдать289.
Характеризуя этот песенный сюжет, знаток русского городского романса Я. И. Гудошников отметил его особенность:
Если в современных вариантах традиционных крестьянских песен заметна утрата местной локализации, то здесь она упорно сохраняется почти во всех вариантах <…>. Весьма примечательно, что название кладбища всюду «Митрофановское»290.
Исследователь объяснял эту особенность песни «желанием убедить всех в правдивости данной истории», «стремлением к правдоподобию рассказа».
Однако данная история действительно правдива. Это выяснила выдающаяся исследовательница русского фольклора Анна Михайловна Астахова (1886–1971). В начале 1930‐х годов она собрала и подготовила к печати большой сборник песен ленинградских уличных певцов, в примечаниях к которым указала их источники.
Остановимся на источниках нашего сюжета.
Впервые о трагедии на одном из самых больших кладбищ города291 стало известно из вечернего выпуска ленинградской «Красной газеты» от 25 мая 1925 года, где была опубликована заметка «Убийство девочки на Митрофаньевском кладбище»:
Вчера в 6 час<ов> веч<ера> гр<ажданин> Чеботарев, проходя по Митрофаньевскому кладбищу, обратил внимание на надмогильный ящик в конце «немецкой дорожки», из которого виднелись чьи-то ноги.
Ящик на ¾ был закрыт железом. Отодвинув железо, Чеботарев увидел лежавшую в ящике девочку, на вид 10–12 лет, шея которой была окровавлена.
О своей находке Чеботарев заявил в милицию. На кладбище прибыли представители уголовного розыска, милиции и народный следователь 13 отделения т<оварищ> Демидов.
При осмотре выяснилось, что девочка лежит в согнутом положении на левом боку. Ноги ее приподняты кверху. Горло ее перерезано.
Покойная одета в черное плюшевое пальто на серой подкладке, черный передник, серое, в черную полоску, ситцевое платье и серые чулки. Сапог на ногах покойной не оказалось. На шее – серебряный крест с синей эмалью. Волосы на голове покойной светло-русые, коротко острижены.
Невдалеке от места обнаружения трупа, вблизи скамейки, была найдена залитая кровью женская вязаная шапочка, очевидно, принадлежавшая покойной.
Труп девочки отправлен в покойницкую б<ывшей> Александровской больницы, куда и приглашаются все лица, могущие опознать убитую292.
Это преступление было быстро раскрыто, о чем «Красная газета» сообщила уже 29 мая:
На днях у нас сообщалось о зверском убийстве на Митрофаньевском кладбище.
Покойная оказалась Надеждой Путятиной 9 лет, проживавшей на Рижском пр<оспекте>, д<ом> 44, дочерью чертежника Госзнака В. П. Путятина, 46 л<ет>.
Уголовным розыском выяснено, что убийцей девочки является ее родной отец.
После долгого запирательства, уличенный в преступлении В. П. Путятин сознался в убийстве своей дочери и рассказал следующее:
Его дочь, девятилетняя Надя, воспитывалась у своего дяди.
Не так давно Путятин сошелся с одной женщиной и взял дочь к себе.
Первое время девочке жилось сравнительно хорошо, но затем ее жизнь изменилась.
Начались ссоры отца и мачехи, поводами к которым служил ребенок.
Кончилось тем, что отец решил избавиться от дочери.
Он заманил дочь на Митрофаньевское кладбище и здесь привел свое намерение в исполнение.
Проходя мимо одной из могил, отец-зверь схватил девочку за горло и заткнул ей рот, чтобы она не кричала.
Вытащив затем из кармана нож, он перерезал ей горло.
В. П. Путятин арестован293.
Из заметки становятся понятными причины и обстоятельства трагедии. Они озвучены в песне, которая как бы пересказывает газетную заметку. Это и являлось важнейшей функцией подобных песен – песен-хроник, которые в 1920‐е – начале 1930‐х годов служили средством массовой информации, распространяя ее среди слушателей на рынках и в других местах скопления горожан и приезжих294.
Между тем есть в песне ряд мотивов, которые не упоминаются или даже противоречат газетной информации.
Обращает внимание несоответствие одежды Нади Путятиной песенному мотиву духоты кругом. В заметке «Убийство девочки на Митрофаньевском кладбище» говорится, что на ней были «черное плюшевое пальто на серой подкладке, черный передник, серое, в черную полоску, ситцевое платье и серые чулки». Она одета по погоде. Дело в том, что в день убийства в Ленинграде с утра было хмуро и холодно, и даже днем, когда небо прояснилось и светило солнце, жарко не стало. Откуда же в таком случае взялся песенный мотив?
Он мог появиться, когда забылись реальные обстоятельства трагедии на Митрофаньевском кладбище. О довольно серьезной временной дистанции между событием и песней заявляется в самом ее начале: «Этот случай был в прошлом году».
В действительности же эти обстоятельства подзабылись уже в том же 1925 году. Это видно по заметке судебного репортера вечерней «Красной газеты» Н. А. Гарда, который описал суд над В. П. Путятиным и его сожительницей, состоявшийся в конце ноября. Одна из первых фраз заметки начинается так: «В июльский
Автор, по-видимому, старался подчеркнуть контраст между смертью ребенка и жизнью окружающего мира природы.
А что же лежит в основе песенного мотива «духоты кругом», который возникает под явным влиянием газетного образа «солнечного», «безоблачного» дня? Мне кажется, что это – параллелизм: «духота кругом» аналогична действию убийцы, который, согласно песне, «схватил» девочку и «начал ее жать», т. е. душить. «Нож у отца в руке» засверкал потом,
Чтобы крик ее не услышали,
И на помощь людей не дал звать.
Есть в заметке Н. А. Гарда еще один момент, который отразился в песне. Описывая пребывание отца с дочерью на кладбище, он добавляет: «А девочка бегала и собирала цветы». В приведенном нами варианте «Митрофаньевского кладбища» сплетенный девочкой из цветов венок играет декоративную роль:
Стала рвать цветы, венок плесть,
Ей хотелось могилку убрать.
Однако иногда, как, например, в машинописном варианте песни, полученном А. М. Астаховой от певицы Прасковьи Козловской, в этом «венке»/«веночке» проглядывает отчетливо выраженный ритуальный смысл:
И цветы лежат возле девочки,
Знать, для себя она их собрала,
Сердце девочки будто чуяло
И веночек себе, знать, сплела296.
Я. И. Гудошников считал, что венок появляется в песне под влиянием «знаменитого в свое время стихотворения А. Н. Апухтина „Сумасшедший“»297. Между тем венок, сплетенный девочкой на Митрофаньевском кладбище, более всего напоминает погребальный венок, использовавшийся при похоронах детей и неженатой молодежи298.
Вообще говоря, упомянутая выше заметка Н. А. Гарда «Член государственной думы и проститутка» сама по себе может считаться одним из источников песни и потому заслуживает внимания:
Кошмарное преступление?
Нет, в этом деле все до ужаса просто.
В июльский солнечный день отец заманил свою 8-летнюю дочь на кладбище и там зарезал ее чертежным ножом…
Вы думаете увидеть сумасшедшего с безумным взглядом и ощетинившегося зверя, страшное чудовище.
А против вас стоит самый обыкновенный человек, в пальто, засунув руки в карманы, с большой бородой и с испуганными глазами человека, который боится наказания.
И просто рассказывает:
– Моя сожительница не любила детей. Или – девочка, или – я. Определи ее к дяде, в приют, куда хочешь, но чтобы завтра же ее не было.
Я свез ее на кладбище.
– Определили?
– Выходит так!
Вот они оба – этот отец и его сожительница…
Бывший член гос<ударственной> думы, б<ывший> меньшевик, б<ывший> военный чиновник – Василий Путятин.
И бывшая проститутка – Александра Страхова.
Эта пара вышла из прошлого и – прямо в пивную.
«Член гос<ударственной> думы» и проститутка встретились в пивной. Познакомились в пивной. И в пивной он влюбился в эту бывшую женщину, которая – по выражению прокурора – «Пиво любит больше, чем детей».
Вся жизнь этих бывших людей прошла в ближайшей пивной.
И вдруг в эту жизнь вошла маленькая восьмилетняя девочка Надя. Вошла как-то нечаянно, чужая и ненужная, и нарушила нежное семейное счастье.
Надя – дочь В. Путятина и его умершей жены.
До 8 лет она прожила у дяди и только этой весной нашелся пропавший, заблудившийся в пивных «член гос<ударственной> думы», и дочь перебралась к отцу.
И вот – безоблачный июльский день, и требование «определить девочку», и страх алкоголика, безвольного, опустившегося человека, потерять женщину, которую он полюбил в пивной.
– Я решил это на Садовой, в трамвае, около Кокушкина переулка.
Решил и поехал на Митрофаньевское кладбище.
Он сидел на тихом, пустынном кладбище и курил. А девочка бегала и собирала цветы.
Потом прибежала к отцу и села рядом, и стала есть конфеты, которые он по дороге купил ей.
– Что же было дальше?
– А дальше? Что же, просто – взял ее двумя пальцами за горло и сдавил. А когда она начала взмахивать руками, вынул я чертежный нож – очень острый нож – и перерезал ей горлышко. Она голову закинула, вязаная красная шапочка скатилась и вся кровь ее стекла в шапочку.
– Почему же вы не отдали ее в приют?
– Я не хотел. Родная дочь ведь.
Итак, дело было сделано – просто и деловито.
Потом спрятал трупик в надмогильный ящик, убрал следы крови и поехал в пивную.
Искать сожительницу!
В пивной долго сидели вместе и пили. И сказал ей:
– Определил Надю… Теперь она не вернется!..
Женщина, которую он любил, – могла бы служить хорошей вывеской для пивной.
Толстое, белое, опухшее лицо. Мутные узкие глаза, в которых пиво, пиво, пиво.
Сомкнув руки на животе, хриплым голосом она дает показания:
– Разве ж я знала, чего это он задумал?!
Их роман окончен.
Пивной угар рассеялся, как дым.
Вне своей пивнушки они чужие люди.
И он говорит угрюмо и равнодушно:
– Из-за нее я сижу здесь!..
Экспертиза в лице проф<ессора> Осипова и проф<ессора> Оршанского признает Василия Путятина вменяемым.
Мы смотрим на него – этого вменяемого человека, зарезавшего своего ребенка, и не хочется верить, что это так.
Но он, опустив руки в карманы пальто, спокойно говорит:
– Как это – сам не сознаю. Просто – решил так.
Просто – как не бывает в романах и на сцене, как бывает только в жизни.
После речей прокурора тов<арища> Брука и защитника А. В. Бобрищева-Пушкина суд удаляется на совещание.
Большой зал клуба «Госзнака» переполнен. Рабочие не расходятся.
Поздно ночью председатель суда тов<арищ> Старш оглашает приговор:
– Василий Путятин приговорен к лишению свободы на 10 лет. Страхова оправдана299.
Вместе с тем в песне многие детали вообще отбрасываются. Это касается и настойчиво педалируемых в газетной заметке Н. А. Гарда биографических фактов из прошлого наших героев. Василий Петрович Путятин действительно был депутатом 3‐й Государственной думы, причем принадлежал к правому (меньшевистскому) крылу социал-демократической фракции300. Однако это обстоятельство совершенно не отразилось в песне. Здесь В. П. Путятин показан исключительно в плане семейной жизни – только как «зверь-отец», который ради «чужой женщины» губит родную дочь.
Это соответствует специфике балладной традиции, на почве которой создается песня. «Настоящая сфера русской народной баллады, – как указывал В. Я. Пропп, – это мир человеческих страстей, трактуемых трагически. <…> Баллады <…> рисуют индивидуальную, частную и семейную жизнь человека. Перед нами возникает картина семейного быта»301. Рассматриваемая песня принадлежит к позднейшим балладам и представляет собой типичный «жестокий романс», который повествует о трагических коллизиях семейной жизни, ориентируясь при этом на литературные формы и расцвечивая рассказ мелодраматическими подробностями.
История убийства девочки на Митрофаньевском кладбище – далеко не единственный сюжет, восходящий к ленинградской периодике 1920‐х годов. Она давала богатый материал для творчества:
Однако ни одна из других песен, созданных в 1920‐е годы, не имела такой популярности, как песня про убийство девочки на Митрофаньевском кладбище.
Песня быстро разошлась по стране. Это зафиксировано уже в 1929 году, когда в газете «Брянский рабочий» была опубликована «городская зарисовка» Виктора Ростова «Песня». Автор цитирует и пересказывает сюжет, «как отец-зверь на кладбище задушил дочь свою», который в пригородном поезде исполняет слепой певец, перемежая песню взволнованными репликами пассажиров303.
Отголоски песни слышны до сих пор. 11 ноября 2008 года в 17.20 по телевидению в программе «Вести – Санкт-Петербург» был показан сюжет об остатках Митрофаньевского кладбища, которые скоро будут уничтожены строительством нового микрорайона. Одна из участниц, бывшая медсестра Антонина Рохлина, желающая, чтобы ее похоронили на этом клочке кладбища, вспомнила историю о девочке Танечке, которую отец убил и похоронил (?) здесь, на Митрофаньевском кладбище. «Об этом даже песня есть, – говорит она, – „Как на кладбище Митрофаньевском отец дочку зарезал свою“…»
Песня о «Буревестнике»
Воскресным вечером 29 августа 1926 года в последний рейс из Ленинграда в Кронштадт отправился колесный грузопассажирский пароход «Буревестник» (бывшая «Русь», постройки 1899 года). На борту «Буревестника» находились 372 пассажира и экипаж в составе 11 человек.
Вместо капитана парохода А. К. Пийспанена, оставшегося пьянствовать на берегу, судно вел старший помощник капитана Храбунов, который не имел должной квалификации, не знал фарватера и даже правил расхождения с морскими судами. Встреча с германским пароходом «Грета» оказалась для Храбунова неожиданной: он растерялся, потерял ориентацию и направил «Буревестник» прямо на стенку строившегося железобетонного Хлебного мола. Судно получило огромную пробоину и начало тонуть.
Возникла паника, спасательные средства оказались неготовыми, команда стала покидать судно. Остались немногие, в том числе и Храбунов, у которого при крушении «Буревестника» погибли жена и двое детей, запертые им в каюте перед отправлением парохода и уже спавшие во время катастрофы. Его самого спасатели сняли с дымовой трубы затонувшего «Буревестника».
Все это привело к многочисленным жертвам. Ходили слухи о 150 погибших. Официально же их насчитывалось 66 человек, но и эта цифра свидетельствует о катастрофических последствиях крушения «Буревестника».
История с затонувшим пароходом довольно широко освещалась в ленинградской прессе: от партийной «Ленинградской правды» до комсомольской «Смены», не говоря уже об утреннем и особенно вечернем выпусках городской «Красной газеты». Основное внимание катастрофе уделялось в первые дни после крушения, но и потом газеты время от времени информировали горожан о следствии по нашумевшему делу. Оно рассматривалось на выездной сессии Военно-транспортной коллегии Верховного суда СССР, которая проходила в Ленинграде с 8 по 18 ноября 1926 года. Отчеты о судебных заседаниях, публиковавшиеся в газетах, вновь напомнили о трагическом событии. Его главными виновниками признали капитана Пийспанена и старшего помощника капитана Храбунова, каждый из которых был приговорен к четырем годам лишения свободы304.
Обстоятельства гибели парохода «Буревестник» отразились не только в ленинградской прессе. Этому событию была посвящена песня. Она принадлежит к популярным в городской культуре песням-хроникам о различных катастрофах.
Едва ли не самой ранней из известных мне песен такого рода является песня, от которой сохранился лишь один куплет в воспоминаниях старого петербуржца П. П. Бондаренко:
По Курско-Московской железной дороге,
по насыпи очень крутой,
стремительно поезд несется,
несется он в Курск с быстротой305.
Есть основания предполагать, что имеется в виду катастрофа, произошедшая в ночь на 30 июня 1882 года на Московско-Курской железной дороге между станциями Чернь и Бастыево у деревни Кукуевка, когда сильными дождями было размыто железнодорожное полотно и разошлись рельсы. В результате потерпел крушение почтовый поезд № 3 Москва–Курск. Очевидцы утверждали, что погибло до 200 человек, но по данным следствия, которые фигурировали в одном из репортажей Владимира Гиляровского с места катастрофы, жертв оказалось сорок два человека306. Эта катастрофа была широко известна как «Кукуевская костоломка».
Исследователи подобными песнями долгое время не интересовались, и поэтому мы не располагаем сведениями о них вплоть до начала 1930‐х годов. В это время фольклористка Анна Михайловна Астахова собирала в Ленинграде материалы для сборника «Песни уличных певцов». Ей удалось найти или записать ряд текстов о катастрофах – в том числе и песню о крушении парохода «Буревестник». Вместе с другими песнями она была ею откомментирована и подготовлена к печати307.
А. М. Астахова предполагала напечатать ее по тексту, писанному печатными буквами певцом Николаем Шуваловым. Текст она приобрела у него 18 сентября 1931 года308.
Характеризуя певца, собирательница указывает, что ему «лет 40 с небольшим», он «бывший „народный юморист и куплетист“, автор и поставщик на улицу целого ряда песен, куплетов и частушек», <…> прирабатывавший «тем, что заготовлял в большом количестве для <…> певцов рукописные листки с текстами песен, для продажи.
Среди певцов он очень известен, как автор уличных песен»309. Вероятно, ему принадлежит и «Гибель „Буревестника“».
Вот этот текст.
В узком проходе Морского канала,
Где тянется лентой изгиб,
Место то злачное помнится гражданам,
Где «Буревестник» погиб.
В день злополучный отчалив от берега,
Вышел в Кронштадт пароход,
Тихо качаясь и выпрямив корпус,
Стал прибавлять быстрый ход.
Тьма непроглядная путь закрывала,
Волны бежали вперед,
Часть пассажиров давно уж дремали.
Вдруг раздается гудок.
Близко совсем огоньки замелькали,
Ясен был красный фонарь,
И «Буревестник» свернул быстро вправо,
Ответный сигнал не видал.
Объехать друг друга им было возможно,
В командах видна конитель,
И капитан «Буревестника» поздно
Взял направленье на мель.
Словно нависла гроза над водой,
Мель преградила им путь,
Тихо ударилось в стенку кормою,
Стал «Буревестник» тонуть.
Сцена кошмара творилась. На палубе
Разум народ потерял:
К шлюпкам бросались, кругом обвивались,
Каждый спасенья искал.
Люди метались в отчаянии диком,
Женщин обхватывал страх,
Вместе с детями бросалися в воду,
Тотчас скрывались в волнах.
Трус и подлец капитан парохода:
Судно доверив судьбе,
Часть пассажиров на тот свет отправил,
Спасся один на трубе310.
Основной особенностью песен, описывающих катастрофические происшествия, по мнению Астаховой, является стремление «точно передать все подробности катастрофы». Для доказательства в комментарии к песне она перепечатывает сообщение Госречпароходства о крушении «Буревестника». Сопоставление этого сообщения с песней должно было подтвердить достоверность отмеченных в ней подробностей. Еще одним их источником Астахова называет «рассказы», возникшие «на основании сообщений от очевидцев, спасшихся пассажиров» и циркулировавшие в городе. «Как и из газетных заметок, так и из таких рассказов, – пишет Астахова, – автор песни почерпнул ряд подробностей, как красный фонарь, блеснувший перед „Буревестником“311, растерянность команды, спасение капитана и т. п. На рассказах же основана и картина паники в 7‐й и 8‐й строфах»312. Однако необъясненным остается главное отступление песни от действительности: почему виновником катастрофы становится капитан парохода, которого вообще не было на «Буревестнике» в том злополучном рейсе?
А. М. Астахова указывает, что песня «в свое время была очень популярна»313. О ее былой популярности свидетельствуют и детские воспоминания современников. Известный поэт и прозаик Вадим Шефнер писал:
Старые ленинградцы, быть может, даже помнят песню об этом. Ее долго пели певцы на рынках и во дворах, и там были такие слова: «В узком проливе Морского канала тянется лентой изгиб, место зловещее помнится гражданам, где „Буревестник“ погиб…»314.
Ему вторит вышеупомянутый П. П. Бондаренко:
Певцы исполняли что-нибудь такое, что «брало за живое» слушателей. <…> Помнится, исполнялась песня, основанная на реальном факте – гибели судна «Буревестник» где-то на подходе к Морскому каналу. Были там такие слова: «Место зловещее помнится гражданам, где „Буревестник“ погиб». И еще: «Трус и подлец капитан парохода, он все доверил судьбе, всех пассажиров на тот свет отправил, сам же спасся на трубе». Позднее я узнал, что жертв было немного, но в такой подаче песня действовала сильнее315.
Много позже, уже в 1990‐е годы, фольклорист В. С. Бахтин собрал четыре варианта «Гибели „Буревестника“»316.
Все они короче астаховского текста на треть и состоят из 6 куплетов (24 стихов). Одинаковы их начальные и заключительный куплеты, которые соответствуют первому – третьему и девятому куплетам «Гибели „Буревестника“», но отличаются выбором «промежуточных», четвертого и пятого куплетов. В одном из вариантов используется материал седьмого и восьмого куплетов текста из сборника А. М. Астаховой. В других вариантах сохраняется четвертый и используется материал шестого куплета «Гибели „Буревестника“».
Однако любопытна не столько эта типичная для фольклора вариативность текста, сколько характерный для некоторых вариантов седьмой стих. Вместо поэтического образа астаховского варианта «Тихо качаясь и выпрямив корпус», в новых текстах песни (причем даже в записанном от Вадима Шефнера317) фигурирует бытовой мотив «А капитан „Буревестника“ спьяну». Он может восходить к информации о «систематическом пьянстве» капитана Пийспанена или о пьяных «художествах» его помощника Храбунова, которая стала известна еще из материалов следствия318.
Очевидно, что песня «Гибель „Буревестника“», как и другие песни о катастрофах, отражает основное направление развития русского фольклора. «От вымышленных героев эпоса, сказки и баллады, – как писал В. Я. Пропп, – фольклор пришел к изображению реальных лиц и реальных событий»319. Это отчетливо просматривается на материале рабочего фольклора320. Ленинградские песни-хроники 1920‐х годов как бы подхватывают характерную для него традицию песен-«былей» со свойственными им документализмом и фактографичностью. Отличие от локальных песен заключается лишь в том, что для создания этих песен наряду с традиционными устными источниками уже используется и соответствующая печатная продукция – местная периодика, в то время еще довольно полно и информативно освещавшая жизнь и быт Ленинграда. Авторы песен-хроник знали о событиях не только понаслышке, но и потому, что были внимательными читателями газет.
Однако период активного бытования песен-хроник оказался недолговечным. И дело не в том, что гораздо менее информативными становятся советские газеты. 8 июня 1935 года Управление рабоче-крестьянской милиции Ленинграда и области подготовило приказ «О борьбе с музыкантами, певцами и продавцами запрещенных песен на рынках и базарах», согласно которому их распространители привлекались к уголовной ответственности по статье 185 УК РСФСР, а участковым инспекторам ставилась задача при обходе своих кварталов задерживать всех музыкантов и певцов321. Это нанесло непоправимый урон жанру песен-хроник да и всему городскому фольклору322.
III. СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОДСКОЙ ФОЛЬКЛОР
Детский фольклор 323
Одной из тем нашего курса является «детский фольклор». Само ее название звучит несколько необычно. Вслед за обрядовой поэзией, сказками, песнями и т. д. и т. п. предлагается изучать область народного поэтического творчества, выделяющуюся по совершенно иному принципу, нежели все предшествующие ей виды русского фольклора. Этот принцип – возрастной.
Определенная связь различных фольклорных жанров с возрастной дифференциацией общества уже отмечалась в предыдущих разделах курса: напомню, что былины исполнялись главным образом представителями старшего поколения, а частушки, наоборот, были молодежным жанром фольклора. Почему же мы будем говорить лишь о детском фольклоре?
Дело не только в том, что вопросам возрастной дифференциации и специфически-возрастных форм функционирования фольклора все еще не уделяется должного внимания в нашей науке. До сих пор мы с вами изучали фольклор, исполнителями которого выступают взрослые люди. Этот фольклор является одним из элементов культурного наследия народа, ответственность за сохранение которого и распределяется между совершеннолетними и полноценными членами общества. Однако прежде чем человек достигнет этого положения и примет участие в культурной, общественной и производственной деятельности, ему нужно долгое время расти, приобщаться к законам человеческого общежития и готовиться занять в нем свое место. Это – весьма своеобразный период жизненного цикла.
Детство – его мир и быт – имеет свои особенности, в силу которых должен быть выделен для изучения ряд специальных вопросов, объединяемых в термине «детская этнография», в область которых входит существенным звеном и детский фольклор, – писал его выдающийся исследователь Г. С. Виноградов. – Являясь элементом обособленного детского быта и обособленной детской жизни, детская устная поэзия, можно судить априорно, будет своеобразным, особым явлением в области народной словесности324.
Это прежде всего и заставляет выделить детский фольклор в самостоятельный раздел нашего курса.
«Детский фольклор» – понятие, в значительной мере условное. Более точно было бы назвать это явление «фольклором невзрослых». Так как к нему относится не только собственно детский, но и, скажем, подростковый фольклор. Все же оставим привычный термин. Следует лишь подчеркнуть: верхней возрастной границей носителей т. н. детского фольклора служит совершеннолетие, переход человека во взрослые члены общества. Мы уже говорили о том, что у русских (как, впрочем, и у других славянских народов) не зафиксированы особые ритуалы, отличавшие достижение совершеннолетия. Это обозначалось целым комплексом различных явлений: от изменений в одежде и поведении человека до его участия в определенных календарных обрядах и обрядовых собраниях, что происходило примерно в пятнадцати-шестнадцатилетнем возрасте. В иной, более цивилизованной среде начало взрослой жизни связывается с окончанием специальных институтов социализации человека – школы и т. п. Поэтому и т. н. школьный (или ученический) фольклор имеет самое непосредственное отношение к детскому фольклору.
Итак, предметом нашего изучения будет фольклор, устная словесность детей, подростков – словом, всех тех, кто еще не достиг совершеннолетия, т. е. не стал взрослым.
Это, казалось бы, ясное определение тем не менее нуждается в некотором дополнительном обосновании. Дело в том, что с самого начала детский фольклор (или, как прежде говорили, «детские песни») включал в себя не только собственно детскую устную поэзию, но и творчество взрослых для детей, т. н. «поэзию пестования»: колыбельные песни, пестушки, потешки, прибаутки и докучные сказки. До сих пор сторонники этой точки зрения преобладают в нашей науке. Однако еще Г. С. Виноградов решительно высказался за размежевание детского фольклора и поэзии пестования. Его аргументацию приняли и авторы современного учебника по русскому фольклору для студентов университетов: «нельзя относить к детскому фольклору колыбельные песни, пестушки и потешки, которые создавались и исполнялись только взрослыми. Детьми же они не только не создавались, но никогда и не исполнялись. Детский фольклор – это прежде всего произведения, созданные и исполняемые самими детьми»325. Это не совсем верно. Ухаживая за младенцами или же имитируя этот уход в своих играх, дети обращались и обращаются к поэзии пестования. Но при этом они подражают взрослым, исполняют их обязанности и тем самым готовятся к будущим жизненным ролям. Овладение взрослым фольклором – важный момент такой подготовки, он заслуживает самого пристального внимания со стороны нашей науки. Однако это еще не делает взрослый фольклор детским. Детский фольклор включает в себя многие произведения и даже жанры фольклора, которые в определенных условиях были заимствованы детьми у взрослых. Вопреки мнению Г. С. Виноградова, для того чтобы произошло их превращение в детский фольклор, вовсе не обязательно, чтобы они совершенно выпали из репертуара взрослых326. Существенно другое – обретение ими специфических функций и признаков детского фольклора, что и делает их органической частью детского фольклорного репертуара. С поэзией пестования этого не происходит: предназначенная для общения взрослого с ребенком, она изначально запрограммирована для будущей «взрослой» жизни и должна рассматриваться именно в ее контексте, как важнейший элемент семейного фольклора.
Детский же фольклор будем понимать как устную словесность «обособленного детского быта и обособленной детской жизни»327 или, говоря словами современного исследователя, как язык детской «субкультуры»328.
Отдельные материалы по русскому детскому фольклору публикуются уже с тридцатых годов XIX века. Однако должно было пройти еще немало времени, чтобы внимание к детскому фольклору стало устойчивым и постоянным. Лишь в шестидесятые годы прошлого века он начинает рассматриваться как специфический и представляющий вполне самостоятельный интерес вид устного народного творчества. Появляются первые крупные публикации произведений русского детского фольклора. Все основные жанры детского песенного фольклора были представлены в сборнике П. А. Бессонова329. Одновременно с ним особым разделом «детских песен» открыл свое собрание русских народных песен П. В. Шейн330, материалы которого в дальнейшем пополнились большим количеством новых текстов и стали одним из важнейших источников изучения русского детского фольклора331. Стараниями многих собирателей число таких источников332 быстро росло, вследствие чего еще до революции был накоплен большой и разнообразный фонд материалов по русскому детскому фольклору.
Особенно широко и интенсивно его собирание велось в двадцатые годы нашего века, когда впервые были предприняты попытки упорядочить эту работу как в организационном, так и в методическом отношении. При Отделении этнографии Русского географического общества образовалась Комиссия по детскому быту, фольклору и языку. Издавались специальные программы для собирания детского фольклора. Все это принесло замечательные результаты: фольклористика обогатилась массой нового материала333, который не только существенно пополнил и уточнил известный к тому времени репертуар детского фольклора, но и показал, как в нем отражается современная жизнь со всеми ее событиями и коллизиями.
Однако эта работа не получила дальнейшего развития. Собирание детского фольклора стало заботой весьма немногочисленных энтузиастов, что сказалось и на его публикации: отдельные тексты детского фольклора можно было встретить лишь в нескольких сборниках, посвященных устно-поэтической традиции родных мест. Положение начинает меняться в конце пятидесятых годов. С этого времени во вновь появившихся работах о детском фольклоре публикуются и новые записи его произведений. Они широко представлены в первой и пока единственной за весь послевоенный период книге о детском фольклоре М. Н. Мельникова334. Отметим и очень интересные материалы, которые приводятся в статье О. Н. Гречиной и М. В. Осориной335: детские «страшные рассказы» – жанр фольклорной прозы, до недавнего времени вообще не известный нашей науке. Можно полагать, что собирание детского фольклора, в котором сейчас наряду со специалистами принимают участие и студенты336, чья работа направляется вузовскими программами, уделяющими должное внимание и детскому словесному творчеству, приведет к дальнейшим открытиям во всех его областях. Будем надеяться, что наконец появятся и отсутствующие до сих пор специальные научные издания русского детского фольклора.
Это очень важно, потому что собирание и публикация материалов неразрывно связаны с их изучением.
Детский фольклор привлек внимание исследователей как живое свидетельство о далеком прошлом. В различных его произведениях отыскивались следы мифологических представлений, отмечались отразившиеся в них черты древнего быта народа и отзвуки давно прошедших событий337. При определенных условиях этот подход к устной народной словесности вполне оправдывает себя и дает весьма ценные результаты. Свидетельством тому – современные работы по реконструкции древнейших мифологических сюжетов, в которых широко используются материалы детского фольклора338. Однако, если речь идет именно о нем, о детском фольклоре, следует иметь в виду, что в этом случае в поле зрения исследователей оказывается лишь его часть – фольклор, заимствованный детьми у взрослых. Более того. Поначалу совершенно не учитывались ни характер самого заимствования, ни особенности его бытования в детской среде.
Эти пробелы в изучении детского фольклора начали устранять собиратели, которые отметили и описали многообразные случаи перехода фольклора от взрослых к детям. Для решения этой проблемы в общем плане важное значение имело исследование известного русского этнографа В. Н. Харузиной339. Взаимоотношения детского фольклора с фольклором взрослых, вопросы происхождения детского фольклора до сих пор продолжают привлекать внимание исследователей340.
Для того чтобы эта работа стала действительно научным исследованием, нужно было описать и систематизировать материалы русского детского фольклора.
Это, по сути дела, началось с первых его изданий. Содержание сборников П. А. Бессонова и П. В. Шейна, публикаций других собирателей, их опыты систематизации своих материалов отражают первоначальную стадию в изучении детского фольклора. Ее характерные особенности: отнесение к детскому фольклору как собственно детской устной словесности, так и поэзии пестования; исключительное внимание к детской поэзии (песням и «стишкам»); отсутствие какого бы то ни было теоретического обоснования для описания и систематизации детского фольклора.
Основы его научного исследования были заложены в двадцатые годы. Появляются обзоры и библиографии материалов по русскому детскому фольклору, работы по историографии его изучения. Впервые был поставлен вопрос о предмете этого изучения. Несмотря на то что крупнейшие знатоки детского фольклора Г. С. Виноградов и О. И. Капица по-разному определяли границы и содержание предмета своих исследований341, уже сама постановка этого вопроса свидетельствует об определенном уровне изучения детского фольклора. В то же самое время его исследователи открывают для себя детскую фольклорную прозу. Открытие этой обширной области детского творчества, характер которой в полной мере начинает выясняться лишь в последнее время, к сожалению, не получило серьезного теоретического осмысления и не нашло должного отражения в классификациях детского фольклора, стремящихся с двадцатых годов опереться на строго научные основания. Однако эти классификации, лучшая из которых – Г. С. Виноградова, по мнению самого исследователя, имела «приблизительный» и «предварительный» характер342, до сих пор могут служить и служат отправной точкой для дальнейшей работы по систематизации и анализу жанровых разновидностей детского фольклора. Наконец, в двадцатые годы он начал рассматриваться как художественное явление. Специально посвященные поэтике детского фольклора разделы работ Г. С. Виноградова и О. И. Капицы и в настоящее время не утратили своего значения.
Вклад Г. С. Виноградова, О. И. Капицы и других исследователей двадцатых годов в изучение русского фольклора трудно переоценить. Они, повторяю, заложили его основы, к которым после длительного перерыва возвращается наша наука. Характерный пример: развернувшаяся в последнее время работа по изучению «этнографии детства»343. Она ведь была начата еще более полувека тому назад344, но продолжение последовало только теперь, когда стали появляться статьи М. В. Осориной, в которых рассматриваются психологические, социологические и культурологические аспекты детского фольклора345. Эти статьи, как, впрочем, и ряд других работ по русскому детскому фольклору, среди которых следует прежде всего отметить уже упоминавшуюся книгу М. Н. Мельникова, свидетельствуют о том, что его изучение вновь набирает утраченную было им силу.
Для его успешного развития необходима широкая публикация материалов, всесторонне освещающих детское устно-поэтическое творчество, что, как показывает история его изучения, и является залогом новых достижений на этом пути.
Детский фольклор состоит из множества самых разнообразных текстов. Среди них встречаются всевозможные виды изречений/паремий, «стишков», песенок – «припевок», равно как и настоящие песни вместе с различными образцами фольклорной прозы. Существование всех этих текстов неразрывно связано с условиями и содержанием детского быта, их исполнение всегда имело вполне определенные цели, функции. Это и служит основой для выделения жанров детского фольклора.
Рассмотрим жанровый состав русского детского фольклора, по возможности придерживаясь порядка их появления в жизни детей и подростков.
Начнем с детского игрового фольклора, ибо именно игра является ведущим типом деятельности у детей дошкольного возраста. Можно выделить два основных вида детской игры. Одни игры не выходят за пределы реальной действительности, в них ребенок остается самим собой и должен лишь в более или менее условной ситуации проявить свои физические или умственные способности. Таковы, например, игры со скакалкой, с мячом, различные словесные игры (вроде игры «в города» или «в балду») и т. д. Другие же игры переносят ребенка в обстановку условного драматического действия, требуют от него исполнения определенной роли и заставляют по ходу игры перевоплощаться из одной роли в другую. Отсюда – и название этих игр: ролевые игры. Они имеют большое воспитательное значение, формируя социальное поведение ребенка и способствуя его интеллектуальному, эмоциональному и нравственному развитию.
Большинство ролевых игр заимствовано детьми у взрослых. Так, всем известные «Жмурки» некогда были домашней игрой девушек, достигших совершеннолетия и стоящих на пороге замужества, которая в свою очередь имеет глубокие мифологические истоки и доносит до нас форму какого-то ритуального действа. Утрачивая былой смысл, оно превратилось в простую игру. При переходе к детям игровая символика, как правило, совершенно переосмысляется или вообще исчезает, а сама игра сильно сокращается и упрощается. Но и в таком виде детские ролевые игры представляют собой довольно сложные образования. Еще более сложны игры-импровизации, являющиеся игровым воспроизведением окружающей действительности. К ним относятся, например, такие известные игры, как игра «в войну», «в доктора» и т. д. и т. п. Они отличаются свободой игровых действий участников, которые не связаны, как в ролевых играх, строгими правилами игры, соблюдением определенного игрового сюжета и потому имеют ярко выраженный неформальный характер.
Однако словесный элемент этих игр весьма подвижен, текуч и не является фольклором в собственном его смысле. Другое дело – более или менее устойчивые словесные тексты в формальных ролевых играх. Они представляют собой стихотворные тексты, которые иногда поются, а иногда сказываются. Разница между «припевками» и «приговорками», судя по всему, не имеет существенного значения. Один и тот же текст может существовать как в виде «припевки», так и в виде «стишка»/«приговорки». Например, текст широко распространенной в прошлом игры «Горелки», сначала отвлекающий внимание участников:
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Стой подоле —
Гляди в поле.
Едут там трубачи
Да едят калачи.
Погляди на небо —
Звезды горят,
Журавли кричат:
«Гу, гу, гу, убегу», —
а затем призывающий их к действию:
Раз, два, не воронь,
Беги, как огонь346.
(после чего происходит ловля замешкавшегося, который и становится новым ведущим/«горящим» в игре), в одних местах исполнялся как «припевка», в других – как «приговорка». С течением времени многие «припевки» превращаются в «приговорки», что никак не отражается на самой игре. Важнее, видимо, различия в характере исполнения текста (хор, соло, разные формы взаимоотношения их партий), самой его формы (обращение-реплика в общеигровом диалоге, словесный диалог, монологический комментарий к игровому действию) и грамматического строения (императивные и индикативные конструкции), – все это раскрывает глубокую связь текста с действием в игровом сюжете. Именно на основе разных композиционных функций «припевок» и «приговорок» можно будет выделить их разновидности. Общим же свойством «припевок» и «приговорок» в ролевых играх является образная, символическая мотивировка игры, что придает самым элементарным действиям особый смысл, выводящий их за пределы обыденной жизни.
В той или иной степени это свойственно и «приговоркам», употребляющимся в других детских играх. Возьмем, например, игру со скакалкой. Когда вращающие скакалку приговаривают в такт прыжкам:
Куколка,
Балетница,
Воображуля,
Сплетница.
Куколка,
Балетница
и т. д., —
эта приговорка не просто заменяет собой счет прыжков, она дает постоянно повторяющийся ряд «имен»-прозвищ, одно из которых и получит прыгающая при своей ошибке на том или ином слове. Игра наполняется для нее особым смыслом: происходит «выбор» имени, прозвища, которое будет на какое-то время закреплено за ней после выхода ее из игры.
Многие же игровые «приговорки» лишь «украшают» собой сопровождаемое ими действие. Вряд ли прыжки с носка на носок под приговорку:
Шел старик дорогою, дорогою, дорогою,
Нашел козу безрогую, безрогую, безрогую…347 —
имеют какое-либо отношение к известному святочному представлению – хождению «старика» с «козой», пляска которой (вернее, изображающего ее ряженого) была главным эпизодом этого представления. Детская приговорка разве что выделяет действие из обычного течения жизни. В отличие от «припевок» и «приговорок» в ролевых играх, она, как и большинство игровых приговорок, имеет ярко выраженный орнаментальный характер.
Вместе с тем они принадлежат к одной группе произведений игрового фольклора. Все, что мы с вами рассматривали до сих пор, связано с содержанием самой игры. Это и есть собственно игровой фольклор.
Другая группа произведений игрового фольклора – фольклор игровой обрядности, игрового этикета. Он пронизывает собой всю игровую деятельность детей. Ведь для того чтобы игра началась и проходила в соответствии с определенными правилами, ее нужно организовывать и регулировать. Организация и регуляция игры осуществляется с помощью различных средств, в том числе и словесных приговоров.
Одни из них еще только приглашают к игре. Желающий начать игру в прятки выкрикивает:
Собирайся народ,
Кто в прятки идет.
А кого не примем,
За уши поднимем
И в помойку кинем.
Другие используются в качестве пролога или прелюдии к игре: их цель – организовать саму игру. Если играющих нужно разделить на две группы, то в таком случае употребляются «жеребьевки» («жеребьевые сговорки»). Выбираются два предводителя команд («матки»), остальные участники разбиваются на пары, договариваются между собой, кто чем будет называться, и, подойдя к «маткам», спрашивают: «Матки-матки, чей допрос?» (иногда добавляя при этом: «Кому в рыло, кому в нос?» – что уже само по себе могло считаться предложением сделать выбор, но чаще добавлялось «для рифмы»), после чего и следовал текст «жеребьевки»: «Дуб или береза?» и т. п. Одна из «маток» выбирает и получает себе партнера, оставшийся отходит к другой «матке». В результате все участники делятся на две группы.
В тех случаях, когда нужно распределить роли или установить очередность участия в игре, чаще всего используется другой жанр игровых прелюдий – «считалка». Это – стихотворная приговорка. Она может состоять всего лишь из двух стихов:
Стакан, лимон.
Выйди вон! —
но, как правило, она длиннее, в 4, 6, 8, а иногда и более строк. В отличие от «жеребьевки» – вопроса, считалка произносится в ферме пересчета участников будущей игры. Последнее слово считалки указывает на того, кто должен «выйти вон» из круга (пересчет же продолжается до тех пор, пока в круге останется один-единственный участник, которому и предстоит быть «водящим») или сразу стать этим «водящим». В таком случае считалка обычно и оканчивается соответствующим указанием:
Вышел месяц из тумана,
Вынул ножик из кармана,
Буду резать, буду бить,
Все равно тебе водить!
Однако это вовсе не обязательно. Ведь в качестве считалок используются и тексты, не предназначавшиеся для этой роли (например, стихотворение Ф. Б. Миллера «Раз, два, три, четыре, пять / Вышел зайчик погулять…»). Открытый характер жанра считалок, который легко включал в себя все новые и новые тексты, свидетельствует о древности и устойчивости его традиций. Считалка, как полагают исследователи, восходит к архаическим представлениям о числе и счете, где им приписывалось священное, «космизирующее» значение348. Она является одним из самых глухих отголосков этих представлений, что можно объяснить или воздействием некогда существовавшего табу, запрета на числа и счет (ввиду их особой важности) и появлением условной системы счета, отразившейся в древнейших считалках349, или же длительным бытованием считалок в играх (сначала взрослых, потом детских) со свойственной им склонностью к игре звуком и ритмом в расчете «на юмор и следующее затем удовольствие и веселие»350, в связи с чем и вырождается числовой элемент считалки. Ориентацией считалки на словесную игру объясняется ее чуткость к необычным по своей языковой фактуре жаргонным и иноязычным словам и выражениям. Среди считалок можно встретить тексты, заимствованные из других языков. Как пример подобного заимствования, можно привести считалку «Эники-беники ели вареники / Эники-беники – клоц», в основе которой лежит соответствующий текст немецкого фольклора351. Особый, «заумный» язык считалки является ее отличительной особенностью. Однако столь же своеобразна и логика считалки: она противостоит здравому смыслу и бытовому правдоподобию. Все это способствует тому, что считалка остается живым примером характера и возможностей детского творчества.
Еще проще выбор «водящего» происходит с помощью «чура». Один из участников будущей игры выкрикивает:
На горе стоит пятна —
Чур, не я!
Все остальные подхватывают «чур, не я», водящим становится тот, кто крикнет последним.
Этот «чур» встречается во многих формулах детской игры: «Чур!» «чур, не я» или «чур меня», «чурики». Магические по своему происхождению352, они относятся к этикету игры, связаны с правилами ее проведения. Обращения к «чуру» употребляются при вступлении в игру и гарантируют говорящему определенные права участника игры или лишают его этих прав при выходе из нее («чур, не игра!»). В формулах с «чуром» закреплены законы детской игры.
Ее нормы выражаются специально существующими на этот счет приговорками:
За одним не гонка —
Поймаешь поросенка, —
которая произносится в том случае, если водящий при игре в «пятнашки» долгое время ловит одного и того же участника. В играх, где от участников требуется постоянное перемещение, длительная задержка на местах, обеспечивающих их безопасность, побуждает уже водящего активизировать игру:
На месте кашу не варить,
А по городу ходить!
(но, например, в «прятках» тот же приговор может быть обращен к водящему, не спешащему с выполнением своих обязанностей). Эти приговоры (назовем их, в отличие от собственно игровых приговорок, приговорами игрового этикета) не имеют закона, они лишь фиксируют определенные требования к тому, как должна проходить игра.
Существуют и специальные послеигровые приговоры, связанные с наказанием или унижением проигравшего. «Выигравший в трудном поединке совершает обряд унижения проигравших. Он демонстративно задирает нос, идет мимо сверстников и произносит:
Особым образом начавшаяся, игра имеет и столь же выразительное завершение.
Итак, мы рассмотрели весь комплекс русского детского игрового фольклора. Он состоит из двух различных по своей общей функции видов словесных текстов. Одна из них отражает собой содержание игровой деятельности: это – собственно игровые «припевки» и «приговорки», которые могут обладать символической образностью или иметь лишь орнаментальный характер; другая же связана с формой игровой деятельности, ее обрядностью: сюда относятся словесные «прелюдии» к игре (жеребьевки, считалки)354, а также формулы и приговоры игрового этикета, регулирующие правила и нормы проведения игры.
Игра имеет очень большое значение в жизни ребенка. Однако даже в дошкольном возрасте его бытие не исчерпывается одной лишь деятельностью в условных, игровых ситуациях, но представляет собой все более и более расширяющуюся сферу отношений и взаимодействия с окружающим миром. Обратимся к словесности, связанной с реальными условиями жизни и быта детей. Эту область детского фольклора называют внеигровым фольклором.
Она возникает одновременно с игровым фольклором и быстро растет, включая в себя все более широкий и разнообразный круг словесных текстов. Это связано не только с физическим, эмоциональным и интеллектуальным развитием ребенка, но и с усложнением его отношений с действительностью, общения с окружающими, прежде всего – с другими детьми. Показательно, что тексты с установкой на само общение, тексты, предназначенные (подобно приговорам игрового этикета) для регуляции условий и характера взаимодействия его участников, с самого начала занимают важное место во внеигровом фольклоре.
Его обзор мы и начнем жанрами, основной темой которых выступают сами участники детского общения.
Освоение окружающего мира проявляется в означении, наименовании явлений с точки зрения определения их места в человеческом опыте. В этой связи особый интерес представляют т. н. «школьные сравнения» (учитель – «волк на псарне»; учительская – «дворянское гнездо»; ответ у доски – «репортаж с петлей на шее» и т. п.). Обозначение и комическая оценка особенностей внешности, бытовых привычек, характера, поведения, профессии или места жительства человека приводит к появлению кратких образных выражений, которые называются «прозвищами». Дети подхватывают эту традицию. Детские прозвища часто имеют рифмованную форму («Андрей-воробей»). Они служат для наименования конкретных лиц или групп людей (например, учителей в прошлом называли «халдеями») и наряду с общими, «дежурными» формулами обзывания («дурак», «псих ненормальный» и т. п.) используются для дразнения. Между рифмованными прозвищами и специальным жанром словесной агрессии – стихотворением-«дразнилкой»:
Сергей-воробей,
Не гоняй голубей,
Голуби боятся,
На крышу садятся, —
существенной разницы нет. Дразнилка разве что длиннее рифмованного прозвища, но чем, к примеру, является такой текст, как «Петька – петух / На завалинке протух», – рифмованным прозвищем или дразнилкой, зависит лишь от ситуации его употребления.
Дразнилка – не только форма словесной агрессии, она «может выражать желание установить контакт или потребность внести драматический элемент в обыденную жизнь, она представляет собой традиционный способ уничижения врага, но может быть всего лишь демонстрацией словесного искусства»355. С помощью дразнилки осуществляется целенаправленное влияние на участников общения, осмеиваются отклонения от правил и норм поведения в группе (ябедничество, плаксивость, зазнайство и т. д.) и тем самым утверждается неписаный моральный кодекс детской жизни. «Однако, видимо, наиболее значимы дразнилки как способ испытания „социальной прочности“ члена группы, особенно новичка, его умения постоять за себя»356. Это умение проявляется в том, как он отвечает на дразнилку. Самым правильным с точки зрения детей будет словесный ответ на дразнилку – «отговорка». Дразнилке:
Воображуля – первый сорт,
Куда едешь? На курорт.
Шапочка с пумпончиком,
Едешь под вагончиком! —
соответствует отговорка:
А я еду закаляться,
А ты едешь задаваться!
Есть несколько «универсальных» способов отговорки, среди которых особо следует отметить магическую манипуляцию текстом:
Черная касса – ключ у меня,
Кто обзывается – сам на себя.
Старшие дети вместо стихотворных отговорок используют изречения-остроты. Острота «Все про себя да про себя, а про меня ни слова», например, основана на том же самом принципе, что и приведенная выше стихотворная отговорка357.
Однако младшие школьники вполне удовлетворяются «магической силой ритмического текста». В их среде словесное общение, начавшееся дразнилкой, часто не заканчивается отговоркой, но продолжается, перерастая в настоящую словесную перебранку:
– Дура!
– А ты умная,
Как тряпка полоумная!
– Тряпка полоумная!
Всегда бывает умная!
– А когда тряпку выжимают,
Ум весь и вылетает!
Противоборство детей зачастую принимает форму известного ритуала: словесная перебранка (диалог с использованием специальных формул «угроз» и «унижения» противника) может предшествовать бою, драке, в которой дети выясняют не только отношения между собой, но – и свой статус, свое место в столь важной, к примеру, для мальчиков и подростков иерархии силачей-бойцов.
Из области т. н. «детской сатирической лирики»358, которая на самом деле связана с обозначением и оценкой участников общения, служит средством целенаправленного влияния на партнера и утверждения своего положения в группе, контролирует нормы и правила детской жизни, мы переходим в область детского быта с его ритуалами и обычаями, регулирующими различные ситуации общения и взаимодействия между детьми.
Особое значение для ребенка имеет принятие его в группу. Оно принимало и в известных случаях принимает определенную форму испытания новичка. Сохранились многочисленные свидетельства о том, каким мучениям и издевательствам подвергались в прошлом дети при поступлении в учебное заведение со стороны своих будущих соучеников. Новичков били, толкали, щипали, их осмеивали, выставляли на общее посмешище – так испытывалась «социальная прочность» новичка: он получал прозвище и, в зависимости от того, как он выдерживал все эти испытания, занимал определенное место в детском/подростковом коллективе. Мы не знаем специально инициационных, «испытательных» текстов: чаще всего в их функции использовались и используются дразнилки, встречаются абсурдные и заведомо неисполнимые «поручения», «шуточные вопросы» (вроде вопроса «Почему луна / не из чугуна?» – с правильным ответом «Потому что на луну / нужно много чугуну»), «поддевки» и «покупки» (о которых речь пойдет ниже).
Для других ситуаций социального взаимодействия детей существуют и особые тексты. Например, присвоение себе найденной вещи происходило с помощью приговора:
Чья потеря? Мой наход.
На базаре – пароход;
мена вещами «требовала соблюдения некоторых обрядностей. Нужно было, чтобы договаривающиеся стороны непременно взялись за руки, а третье специально для этого приглашенное лицо разнимало их, произнося обычную фразу, освященную многими десятилетиями:
примирение среди младших школьников до сих пор требует того, чтобы, взявшись за руки и покачивая ими, произнести следующую приговорку:
Мирись, мирись,
И больше не дерись,
А если будешь драться,
То я буду кусаться,
после чего рукопожатие разбивается, и участники его считаются помирившимися и т. д. и т. п., вплоть до обрядов, посвященных окончанию учебного заведения с обязательным «кутежом» и специально создававшимися «прощальными» («расстанными») песнями.
Обрядовая песня – редкость в фольклоре детского быта; его основу составляют короткие стихотворные тексты и присловья – бытовые приговоры, имеющие не столько «деловой», сколько этикетный и в определенном смысле магический характер, еще просвечивающий сквозь полушутливую форму их исполнения.
Гораздо более очевиден магический смысл в словесности детского быта, когда ребенок сталкивался с явлением природы. Если, например, у него выпадал молочный зуб, то говорилось:
и зуб забрасывался за печку. Обращение к «мышке» присутствует и в приговоре после купания, когда, для того чтобы вода вылилась из уха, подпрыгивали на одной ноге и приговаривали:
Эти обращения имеют очень древнюю традицию: «мышь» занимала весьма видное место в мифологии древнейших народов362.
Отношения с природой представляют собой важную сторону детского быта. Обращения к различным ее явлениям, животным, насекомым, растениям с требованием исполнить какое-либо пожелание детей составляют значительную область детского фольклора. Вот несколько примеров подобных текстов:
Солнышко-ядрышко,
Посмотри в окошко!
Твои детки плачут,
По камушкам скачут,
Сырцы ломают,
В маслице макают,
Тебя ожидают…363;
Дождик, дождик, перестань,
Я поеду на Йордань,
Богу молиться,
Христу поклониться.
Я у Бога – сирота,
Отворяю ворота
Ключиком, замочком,
Шелковым платочком,
Золотым ключиком364;
Они отражают древнейшие мифологические представления людей и были усвоены детьми, для которых освоение таинственного мира природы и общение с ним требовало использования магических по своей природе текстов. Исходя из различия в предметах обращения их часто подразделяют на «заклички» (обращение к солнцу, дождю, радуге и т. п.) и «приговорки» (обращения к животным, насекомым и разным предметам). Это разделение не имеет существенного значения. Если по форме исполнения среди них еще можно различить короткие песенки и стихотворные приговоры, то функция всех этих текстов одна и та же – магическая: словесное воздействие на природу.
Широко распространенные в прошлом «заклички» и «приговорки» сейчас утратили свое положение в детском фольклоре. Этого нельзя сказать о самой детской магии. Она определяет существование таких явлений современной детской традиции, как, например, различные «вызывания»: «вызывают» духов, привидения, но чаще всего – Пиковую даму. «Вызывание» Пиковой дамы может происходить следующим образом: для этого перед тем, как наступит 12 часов, посередине зеркала красной помадой ставят точку и поливают духами «Пиковая дама», затем голову и зеркало покрывают одеялом и три раза повторяют: «Пиковая дама, появись!» Так дети, осваивая окружающий их мир, пытаются выйти за рамки повседневной жизни, в сферу необычного и таинственного. Важно, что этот выход имеет форму магического действа.
Общение со всем, что лежит за пределами мира детей, человеческого мира вообще осуществляется и регулируется с помощью магических формул, текстов и ритуалов.
Основным хранителем этих магических формул и текстов в прошлом выступала календарная обрядность. Дети принимали участие во многих обрядовых действах. На святках или под Новый год дети и подростки иногда вместе со взрослыми, а иногда и отдельно ходили по домам «славить» хозяев. Известны особые, детские «колядки»:
Есть данные и об участии детей в масленичной обрядности. Однако записи исполнявшихся ими песен не являются образцами собственно детского творчества. Здесь, как, впрочем, и в ряде других случаев (песни Егорьева дня, похорон «Костромы» и т. д.), совершенно очевидно заимствование из «взрослого» календарного фольклора. Несколько особняком стоит обряд «заклинания весны», основная роль в котором принадлежала именно тем, кто не считался совершеннолетним, – детям и подросткам. Собираясь группами на улице или в поле, они выкрикивали:
Весна, весна!
На чем пришла,
На чем приехала?
На сошечке, на бороночке,
Кулики и жаворонки,
Слетайтесь в одоньи!367
Аналогичные тексты мы уже приводили, говоря об особенностях общения детей с природой. Это свидетельствует, в частности, о том, что и остальные «заклички» могли быть связаны с какими-то давно забытыми ритуалами. Вряд ли они, в т. ч. «заклинания» весны, были изначально детскими. Многочисленные свидетельства собирателей показывают процесс постоянного перехода календарных обычаев, обрядов и песен в детскую среду. Дети не имеют своей календарной обрядности – включаясь в обряд или заимствуя его, они приобщались к сложной системе взаимоотношений с другими людьми, с миром природы и космической жизнью, осваивали особую форму регуляции этих отношений, какой и является календарный обряд. С разложением календарной обрядности исчезает и т. наз. детский календарный фольклор368.
Мы описали жанры детского фольклора, сильно различающиеся между собой по содержанию, по форме, по ситуации их использования. Однако все они отличаются именно своей ситуативностью, непосредственной связью с участниками и ее обстановкой. Ориентированные на условия и форму общения детей между собой и с окружающим миром многочисленные тексты: от рифмованных прозвищ и дразнилок до закличек, поверий и примет (о которых из‐за недостатка места не рассказано в нашем обзоре), – предназначены для организации и регуляции самого этого общения.
Они тесно переплетаются со множеством самых разнообразных текстов, относящихся уже собственно к содержанию детского внеигрового общения.
Иногда бывает даже трудно определить, к какой области детского фольклора принадлежит тот или иной жанр. Вот, например, «поддевки» – тексты-диалоги, цель которых поставить собеседника в смешное положение. Есть несколько способов достигнуть этого. Ловушка может ожидать собеседника и по ходу обычного разговора:
Но чаще «поддевка» появляется в конце искусственно построенного диалога. Это может быть диалог, имеющий вопросно-ответную форму – М. Н. Мельников называет этот вид «поддевки» «поддевкой-шуткой»: например, после того, как на вопрос «Щи или каша!» следует ответ «Каша», вопрошавший со словами «Пуговица наша!» отрывает или делает вид, что отрывает у ответившего пуговицу370. Другая форма поддевочного диалога основывается на повторении собеседником части или целого высказывания вопрошающего: в одних случаях (вроде того: «Скажи: двести. – Двести. – Стой, дурак, на месте!») все кончается очень быстро, в других собеседник долго заманивается в подготовленную ему ловушку:
– У царя был дворец.
– Яско (добавка, условленная в начале игры), дворец.
– Во дворе был парк.
– Яско, парк.
– В парке было болото.
– Яско болото.
– В болоте была тина.
– Я/ско тина371.
Этот последний тип «поддевки» называют «поддевками-заманками». Общей особенностью всех этих текстов является рифма, выделяющая и «украшающая» саму издевку. В отличие от них тексты без рифмы (например, «Расшифруй слово „Дуня“. – ? – Дураков (д) у нас (у) нет (н). – А „я“? – Ты один и остался») можно было бы назвать просто «покупками»372. «Поддевки» и «покупки» использовались для испытания и унижения новичка, с их помощью можно было «показать себя» и осмеять своего соперника. Вместе с тем они обращали внимание детей на особенности речевого общения: приводя к обидным для ребенка, но забавным для окружающих результатам, «поддевка» учила его контролировать свое участие в диалоге, свою речь, привлекала внимание собственно к тексту.
Овладение языком, обучение логике мышления, создание правильного представления об окружающем мире и т. д. и т. п. – со всеми этими сторонами социально-культурного развития ребенка связан огромный и очень разнообразный круг произведений детского внеигрового фольклора.
Развитие ребенка начинается его общением со взрослыми. Именно взрослые передают детям основные жанры дидактического, поучительного фольклора. Это – скороговорки, загадки и головоломки, небылицы и пословицы. Дети не только хранят, но и приумножают свое фольклорное наследство.
Известно, что скороговорки (например «добр бобр для бобрят»; «на дворе – трава, на траве – дрова» и т. п.) учат правильной артикуляции звуков. Однако этим значение скороговорки не ограничивается. Она учит еще и различать звуки, дает определенное представление о фонологии родного языка. Мало того. Скороговорки, как и другие жанры детской «словесной игры»: аллитерация («четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж чрезвычайно чисто»), метатеза («Счас как режиком заножу – будешь дрыгами ногать»), омонимия («Я тебя лю…бой палкой огрею» – вместо ожидавшегося «Я тебя лю…блю») и другие виды словесных острот (каламбуров), те же «поддевки» с неожиданно возникающей в них рифмой, – обращена не только на язык, сам код бытового общения, но и знакомит ребенка с определенными приемами и правилами построения особой, «художественной» речи.
Правилам счета и логики мышления учат его всевозможные задачи и головоломки (вроде известной логической задачи о перевозе волка, козы и капусты), единство и взаимосвязь явлений в окружающем мире открывают ему загадки. Мы уже подробно останавливались на них, говоря об изречениях-паремиях «взрослого» фольклора.
А вот такие жанры детской дидактической по своей природе словесности, как «небылицы» и «перевертыши», нам еще неизвестны. «Небылицами» называют стихотворения или песенки, изображающие нереальные события:
Рано утром, вечерком,
В полдень, на рассвете
Баба ехала верхом
В расписной карете.
А за нею во всю прыть,
Тихими шагами
Волк старался переплыть
Миску с пирогами373.
Иногда искажение реальных отношений доводится до предела, и все в тексте, действительно, становится как бы наоборот:
Лыко мужиком подпоясано,
Ехала деревня середь мужика,
Глядь из-под собаки лают ворота,
Ворота-то пестры, собака-то нова…374
К. И. Чуковский назвал подобные тексты «перевертышами». Вызывая улыбку или смех, «небылицы» и «перевертыши» достигают своей цели. Это означает, что ребенок уже осознает их «нелепость». С помощью юмора и смеха в детях утверждается здравый смысл, укрепляются представления о нормальном порядке вещей.
В небылицах и перевертышах дидактика неразрывно связана с юмором: они поучают, развлекая. Это свойственно и всем другим произведениям детских «дидактических» жанров. Они исполняют свое предназначение в атмосфере забавы, веселья и развлечения.
Если жанр еще сохраняет в себе элемент серьезности, поучительности, то у него может возникнуть особый, чисто развлекательный «двойник», как это произошло с загадками и задачами. Они пародируются т. н. армянскими загадками (типа: «Что это: висит на гвоздике, зеленое и пищит?»), отгадать которые практически невозможно, и шуточными вопросами (например, «Стоит дом в три этажа, на каждом этаже три окна. Сколько лет хозяину дома?») – как те, так и другие предназначены исключительно для забавы и развлечения. Это же свойственно и остротам интеллектуального характера («играющему суждению»). Не забудем и т. н. школьную словесность, чье существование неразрывно связано с серьезной и официальной стороной обучения детей. Ср.:
Биссектриса —
Это крыса,
Которая бегает по углам
И делит угол пополам.
(И дальнейшее развитие этой темы:
Биссектриса – это крыса
Из помойного ведра.
Кто увидит эту крысу,
Не забудет никогда.)
Чисто развлекательное значение имеет и детский анекдот, который открывает собой малоизученную область детской фольклорной прозы. Отличие детского анекдота от взрослого, по сути дела, определяется кругом его персонажей: ими могут быть животные, герои волшебных сказок, известных современным детям по книгам и фильмам, персонажи популярных мультфильмов и т. п. Структура же детского анекдота вполне традиционна, что и позволяет ему легко переходить во взрослый фольклор, откуда со своей стороны дети постоянно заимствуют все новые и новые тексты любимого ими жанра. Близки к фольклорному анекдоту многочисленные школьные рассказы о соучениках и преподавателях. Когда-то подобные рассказы, рассказы из жизни исторического лица, и назывались анекдотами. Передаваясь из поколения в поколение, эти рассказы-анекдоты образуют своеобразный комический эпос, неразрывно связанный с «историческими» преданиями школы, среди героев которого видное место всегда отводилось дуракам с их глупостями: «А вот отец мой рассказывал, так один у них хлюст чтó на экзамен <…> вывез. А? <…> Спрашивают его: „Скажите о природе человека“. А тот, уставясь в землю лбом: „Всякий человек более или менее смертен“»375. «Дураки» в школьных исторических преданиях соседствуют с ловкачами и остроумцами. Они часто выступают в роли героев школьной истории, среди которых, впрочем, всегда имеются и истинные «богатыри» – бесстрашные кулачные бойцы, силачи и т. д. Вспомним братьев Калю, Милю и Жулю из бурсацких рассказов в «Очерках бурсы» Помяловского. Подвиги школьных героев совершаются в обстановке постоянной войны со взрослыми, учителями, выдающиеся действия которых также являются предметом школьного эпоса.
Особая его тема – экзамены. Рассказы об экзаменах тяготеют к жанру легенды, так как повествуют об актуальном для рассказчика и слушателей событии их жизни. Однако большинство школьных легенд имеют более традиционный характер, рассказывая о происхождении «нечистых» мест в окружающем мире, среди которых можно встретить подвалы и чердаки, отдаленные углы садов и парков, целые строения. Эти легенды были распространены в прошлом:
В стенах Смольного монастыря, как и в стенах всякого старинного здания, жили свои легенды, передававшиеся от класса к классу. <…> Согласно одной из легенд, в старом здании монастыря, некогда обитаемом в действительности монахинями, была когда-то замурована в каменную стену одна из последних инокинь <…>. Говорили, что монахиня эта порою плачет и стонет в своей каменной могиле и что в темные ночи по длинным и глухим коридорам старого здания слышен бывает шум ее шагов и шуршание ее длинной монашеской рясы376.
Встречаются такие легенды и сейчас. Образец современной детской легенды дает рассказ, записанный студенткой Таллиннского пединститута О. Пентре в пионерском лагере под Таллинном:
Недалеко от лагеря живет Пиковая дама. Кто она, это никто не знает. <…> Ночью она бродит по лесу, но в лагерь не заходит. <…> Однажды, это было десять лет назад, трое ребят из первого отряда решили напугать ее, или, если выйдет, поговорить с ней. <…> После отбоя <…> они вылезли через окно во двор <…> и отправились на место. <…> В эту ночь она не появилась. <…> Но в третью ночь <…> стали происходить странные вещи: вначале долго кружилась и гукала какая-то огромная птица, потом стали шуршать и ползать по земле старые слепые гадюки. <…> Вскоре небо заволокло зелено-багровой тучей и все окрасилось в зловещий красно-фиолетовый цвет. Из-за бордовых туч выглянула луна, один лучик отделился от луны и ударился о землю. В нем показался силуэт в черном. Двое мальчишек упали на землю и закрыли глаза руками, но третий остался на ногах и молча смотрел. Пиковая дама вышла из луча и молча, не спеша подошла к мальчику. Она <…> открыла свое лицо, после наклонилась и что-то сказала ему. Затем она <…> ушла. Мальчик же тот с этой ночи почти перестал разговаривать <…>. На следующий год он снова <…> приехал в лагерь. И в первую же ночь исчез. С тех пор его никто никогда не видел. Но в годовщину того дня, когда ребята увидели Пиковую даму, <…> в один час ночи в лагерь вошла она сама. Одета она была в белое. <…>. Каждое 19 июля в лагерь приходит Пиковая дама, она ходит по лагерю и ищет людей, которых можно околдовать.
Мы относим этот рассказ к жанру легенды, потому что в нем событие далекого (для детей!) прошлого сохраняет свою актуальность и для самих рассказчиков.
Еще более распространены среди детей и подростков различные формы «былички» (рассказы о вампирах, колдунах и т. д.). Оригинальным образцом детского творчества является любопытное сращение былички и волшебной сказки – т. н. «страшилка». Это очень известные в детском обиходе тексты, которые выделяются уже своими названиями – «Черное пятно», «Красные перчатки» и т. п. Вот одна из записей «Красных перчаток»:
У одной женщины была дочь. Когда мать умирала, она дала дочери красные перчатки и сказала, чтобы она надевала их, только когда будет купаться. И чтоб, когда мать умрет, ее не хоронили, а положили под кровать. Девочка сделала, как она сказала, но один раз одела перчатки, когда шла на танцы. Вдруг все машины в городе остановились, и по микрофону раздался голос: «Девочка, отдай перчатки, твоя мать идет по городу!» Девочка не отдала, и слышит опять голос: «Девочка, отдай перчатки, твоя мать идет по улице!» Так повторялось несколько раз, она шла по лестнице, по коридору. Потом мать вошла в комнату, накинулась на дочь, отняла у нее красные перчатки и запихала дочь в мешок. Потом она отнесла мешок за город, там развязала его, и на девушку напали бандиты и убили ее377.
Эта запись дает хорошее представление об особенностях «страшилки». Ее сюжет весьма элементарен (нарушение запрета и кара за него), прост и ее мир, персонажи четко распределяются на «наших» (героиня страшилки) и «ненаших» (мертвец, а могут быть – черти, шпионы, заводные куклы и т. п.), но в этих очень условных обстоятельствах особенно ярко проявляется весь ужас ситуации – столкновения с таинственным, враждебным и страшным миром зла. Страх усугубляется еще и своеобразным ритуалом рассказывания страшилок (темнота и отсутствие взрослых). Все направлено на то, чтобы как можно сильнее напугать присутствующих. Зачем? Для того чтобы страх, пережитый коллективно и в заведомо безопасных условиях, перестал быть страхом, освободиться от него. Не случайно, что страшилка живет в детской среде лишь определенное время (до 12–13-летнего возраста, после чего она вырождается и отмирает)378. «Мы передавали сказку для маленьких детей», – так обычно заканчивают страшилку те, кто ее перерос и уже в состоянии относиться к ней с юмором как к сказке для маленьких. «Страшилка» переходит в разряд детской сказки. Хотя состав детской сказки весьма текуч, а ее границы неопределенны и очень меняются по мере роста ребенка, сказка, как особый вид текстов (текстов с установкой на вымысел), в детском обиходе изначально противостоит разного сорта «правдивым» рассказам. Видное место в ней занимает анекдот, с которого и началось наше знакомство с детской фольклорной прозой.
Столь свойственная анекдоту атмосфера развлечения и веселья определяет и характер детской фольклорной поэзии, существующей вне строгих рамок игры, ритуала и т. п. Многие детские «песенки» очень близки «небылицам», доводя присущее их содержанию противоречие действительности до полного абсурда:
Обезьяна чи-чи-чи
Продавала кирпичи.
Не успела их продать,
Улетела под кровать.
Под кроватью пусто,
Выросла капуста.
Под капустой крокодил
Обезьяну проглотил379.
Другой вид детского юмора представлен в т. н. куплетах, чей комический эффект строится главным образом на противоречии поведения и чувств его героев моральным нормам и принципам:
Маленький мальчик в садик полез,
Сторож Гаврила достал свой обрез.
Выстрел раздался – и жалобный крик.
«Двадцать шестой», – улыбнулся старик.
В известной степени это небылица, перенесенная в сферу человеческих отношений.
С возрастом дети и подростки оказываются в большой зависимости от взрослого песенного фольклора. Они заимствуют взрослые песни, приспосабливая при этом некоторые из них к условиям своей жизни. Это явление имеет давнюю традицию. Один из старинных ее примеров – семинарская переделка некрасовской «Тройки»:
Что ты жадно глядишь за ворота
В стороне от веселых друзей;
Знать, запала на сердце невзгода, —
Знать, подумал о жизни своей!..380
Зачастую эти переделки носят ярко выраженный комический характер:
Есть паста в кармане,
И надо успеть
Мальчишек чумазить
И шваброй огреть.
И нет нам покоя
Ни ночью, ни днем —
По койкам, по койкам, по койкам, по койкам
Вожатый с ремнем,
По койкам, по койкам, по койкам, по койкам
Вожатый с ремнем…
(переделка известной «Погони»).
Свои же песни создавались по преимуществу в более или менее обособленных коллективах: известны, например, студенческие, семинарские, юнкерские песни. Осмеяние окружающих порядков и наслаждение радостями жизни, выражение молодого задора, веселья и юмора и горестные жалобы на свое положение – вот основные темы этой лирики, которая прежде всего давала возможность ощутить свою причастность к определенному кругу людей, к коллективу, к товариществу.
Единственный эпический жанр подростковых песен – баллада. Особенно широко распространен жестокий романс со всем мелодраматизмом своего содержания:
К нам в гавань приходили корабли,
Большие корабли из океана.
В таверне веселились моряки
И пили за здоровье атамана…,
которому вскоре суждено будет погибнуть от руки ковбоя Гарри, возревновавшего атамана к роковой красавице Мери.
Таковы основные жанры детского и подросткового фольклора.
Подведем итоги нашему знакомству с ними.
Мы начали с детского игрового фольклора, противопоставив его всей остальной детской словесности, ввиду особых обстоятельств и специфического содержания игры, игровой деятельности. Подобно ритуалу, игра так или иначе выводит человека за пределы его обычного, повседневного существования. В связи с этим мы делим детский фольклор на две основные области:

(что в известной степени соответствует размежеванию обрядового и необрядового фольклора во взрослой традиции).
Область детского игрового фольклора может быть представлена следующим образом:

К первой группе произведений детского игрового фольклора относятся игровые «припевки» и «приговорки»; вторую составляют жанры, предназначенные для организации (считалки, жеребьевки) и проведения игры (формулы и приговоры игрового этикета).
Область детского внеигрового фольклора широка и многообразна. Лишь одна группа ее произведений представляет собой более или менее определенную общность. Это – фольклорная проза. Если мы обособляем фольклорную прозу, то нужно выделить и ее привычную в народной словесности пару – фольклорную поэзию. С произведениями большой поэтической формы это особенного труда не составит. Сложности возникают при вычленении малых поэтических жанров из словесности, связанной с различными ситуациями детского быта. Отношения многих из них с этими ситуациями столь прочны, а их отличие от собственно изречений зачастую столь зыбко и неопределенно, что целесообразнее всего было бы объединить их с изречениями в одну группу произведений детского внеигрового фольклора. Обозначим ее «малыми жанрами» детского внеигрового фольклора. В связи с этим его область может быть представлена следующим образом:

Фольклорную прозу образуют: с одной стороны – сказки и анекдоты; с другой – анекдотические рассказы, предания, легенды, былички и страшилки. К группе произведений фольклорной поэзии относятся: эпический жанр баллады и лирические песни (которые подразделяются на песни, заимствованные у взрослых, песни – переделки взрослых песен и произведения различных подростковых коллективов). Малые жанры детского внеигрового фольклора включают в себя: фольклор, регулирующий детское общение (рифмованные прозвища, дразнилки, отговорки), коллективную жизнь детей (деловые и обрядовые формулы и приговорки) и их общение с природой (магические приговорки и заклички), дидактический фольклор (скороговорки и другие виды изречений с установкой на текст, загадки и задачи, небылицы и перевертыши) и во многом исходящий из него развлекательный, «потешный» фольклор («армянские загадки» и шуточные вопросы, остроты, детские «песенки» и «куплеты»).
Достаточно вспомнить общую классификацию жанров русского народного поэтического творчества, чтобы убедиться в том, что наша классификация детского фольклора основывается, в сущности, на тех же самых принципах систематизации фольклорных явлений. Это имеет определенный методический смысл, помогая ориентироваться в разнообразных материалах детского фольклора с привычной для нас фольклористической точки зрения. Однако она исходит из суммы, совокупности всевозможных жанров детского фольклора и не дает представления о тех изменениях, которые происходят с ним по мере роста и развития детей. А между тем эти изменения, постоянная смена одних специфически-возрастных форм фольклора другими является его важнейшей особенностью.
Детский фольклор зарождается в общении со взрослыми. Благодаря этому общению в детском обиходе появляется целый ряд жанров дидактического характера с их установками на овладение языком (скороговорки), простейшими операциями мышления (загадки), начатками здравого смысла (небылицы и перевертыши), а затем и элементарные сказочные жанры (вроде кумулятивных сказок и сказок о животных), сосредотачивающих внимание детей на определенной последовательности действий. Исполнение этих сказок уже самими детьми имеет форму драматического театрализованного представления381, что связано с общей атмосферой игры, стихией игровой деятельности, которая с ранних лет занимает главное место в жизни ребенка. Игра развивает его, вырабатывает в нем основные навыки общения и взаимодействия с другими детьми, которые закрепляются и еще более усложняются за ее пределами, в самом процессе коллективной жизни детей. Становление и развитие различных форм и видов детской коллективной жизни определяет появление многочисленных жанров фольклора, регулирующих взаимоотношения детей между собой, выражающих правила и нормы их совместного существования и связанных с его обрядностью. Осваиваются многочисленные способы и средства коллективных забав и развлечений (поддевки, покупки, песенки-небылицы), а вместе с тем и защиты от страха, порождаемого окружающим детей огромным и таинственным миром природы (страшилки), для общения с которой появляются специальные формулы и тексты магического характера. Младший школьный возраст (7–12 лет) – время расцвета собственно детской устной словесности. Ее упадок и постепенное изживание, в процессе которого отмирают или вырождаются такие жанры детского фольклора, как считалки, дразнилки, песенки-небылицы, страшилки и т. п., наступают к концу этого периода, с вступлением ребенка в пору отрочества, когда он превращается в подростка. Усложняются формы развития и приобщения детей к культуре: элементарная игра звуком и ритмом уступает место интеллектуальным операциям со значениями слов и выражений, с помощью задач и головоломок совершенствуется логическое мышление, появление т. н. «куплета» свидетельствует об усвоении детьми норм и правил человеческих отношений. Подростки начинают активно осваивать различные виды и жанры взрослого фольклора. Есть все основания полагать, что в традиционном обществе постоянное взаимодействие подростков со взрослыми обусловливает сугубо преемственный характер подросткового фольклора: его образуют и постепенно пополняют произведения взрослого фольклорного репертуара, овладение которым является одной из главных задач подрастающего поколения. Однако по мере обособления детей и подростков от взрослых подростковый фольклор обретает известную самостоятельность. Заимствование из взрослого фольклора сочетается в нем с переработкой, пародированием или же приспособлением его произведений к интересам и потребностям подростков; среди них возникает и своя собственная словесность, отражающая содержание и формы их коллективной жизни. Ее соотношение со взрослой словесностью нового и новейшего времени еще требует обстоятельного изучения.
Эволюция детского фольклора связана с физическим, эмоциональным и интеллектуальным развитием ребенка, она отражает сложные процессы его социализации и приобщения к культуре. Существование любого жанра детского фольклора обусловлено определенными потребностями и интересами детей: он исполняет особое назначение, играет свою роль в их жизни. Происходящие в ней изменения приводят к отмиранию одних и появлению других жанров детского фольклора. Детский фольклор имеет ярко выраженный функциональный характер.
Столь же, в сущности, функциональна и природа взрослого фольклора. Между его функциями и функциями детского фольклора легко обнаружить известную общность. Это может быть, например, защита от реальных или воображаемых опасностей (магические формулы детей вполне соответствуют жанрам взрослой магии), развлечение (одни и те же остроты, шутки, анекдоты встречаются как среди подростков, так и среди взрослых) и т. д. Однако по своим главным, можно сказать, сущностным целям они очень и очень, на наш взгляд, отличаются друг от друга. Если взрослый фольклор призван поддерживать порядок и стабильность коллективной жизни, то детский фольклор формирует, развивает и обучает будущего ее участника. Овладение культурными ценностями, нормами социального поведения, правилами мышления и законами языка – во всем этом детский фольклор принимает самое деятельное участие. Оно начинается с развития простейших навыков и представлений и заканчивается совершенствованием сложных форм эмоциональной и интеллектуальной жизни человека.
Основному предназначению детского фольклора соответствуют и особенности его художественной системы. Она исходит из того, что противоречит естественной норме, отличается от всего остального, имеет особенный, необычный вид. Это проявляется и в языке детского фольклора с его установкой на игру ритмами, звуками и значениями слов, и в поражающих отсутствием логики и здравого смысла в его образах и сюжетах, и, наконец, в самой тематике его произведений, которая решительно противостоит житейской повседневности. Влечение детского фольклора ко всему необычному объясняется свойственным ему обучающим характером. Он проникнут духом исследования: веселые и доставляющие большое удовольствие детям эксперименты с языком, мышлением и представлениями об окружающем мире позволяют понять и усвоить их законы и сущность. Развивая воображение и творческие способности детей, они и создают тот яркий, своеобразный и замечательный мир, который предстает перед нами в произведениях детского фольклора.
Русский школьный фольклор 382
Основой фольклорной культуры русской школы является традиционный фольклор. Это обусловлено тем, что в большинстве учебных заведений преобладали дети, которые пришли в школу, уже обладая определенными знаниями и сформировавшимися навыками общения. Они так же испытывали новичков, дразнились, ссорились и мирились, как это делалось в любой уличной компании. Многие из школьных кличек, дразнилок, бранных выражений идут из традиционного детского обихода. Оттуда же происходит и большинство игр, в которые играли наши школьники. Еще с детских времен помнились песни, сказки и былички, запас которых пополнялся с помощью обслуживающего персонала учебных заведений.
Если какие-то из этих текстов и отличались от народных, то причиной тому – сословная принадлежность русских школьников. Их фольклор, конечно, был непосредственно связан с бытовыми и культурными традициями своего сословия: дворянства, духовенства, купечества или городского мещанства. В то время как ученик духовного училища, решивший продать черту душу (лишь бы избавиться от сечения), лезет с написанной им кровью запиской в двенадцать часов ночи под печь383, отчаявшийся воспитанник кадетского корпуса просто бросает свою записку в форточку384. Основные особенности бытовых предрассудков дворянского общества отражают, например, институтские суеверия. Они включали и характерные для послепетровской России формы «цивилизованного» язычества (вроде обожествления супруги Александра I, Елизаветы Алексеевны, воспитанницами Патриотического института, причислившими ее после смерти к лику святых и сделавшими из нее своего ангела-хранителя385). Элементы традиционных верований тесно переплетаются здесь с заимствованиями из западноевропейской религиозно-бытовой культуры. Отсюда и «белые дамы», и «черные женщины» в институтских легендах. Весьма подходящим местом для бытования таких рассказов являлись старинные здания Смольного монастыря, с которыми связана ходячая легенда о замурованной там монахине, пугавшей по ночам боязливых институток386.
Институтские легенды обращают нас к обширной области фольклора, порожденного школьным пространством и связанного с историей школы. Легенды о «страшных» и «нечистых» местах ходили не только по женским институтам: «Недалеко от нашего училища <…> стояли громадные развалины какого-то каменного дома. И вот про него рассказывали, что это было старое здание нашего духовного училища; бросили же его только потому, что там часто даже днем слышались разные стуки, появлялись привидения, жили на чердаках дома какие-то большие черные кошки, которые будто бы во время уроков в классе бросались на мальчиков; что будто бы и в наше время никто не решается посетить эти желтые развалины…»387. Любой темный закоулок школьного здания, заброшенные строения, дальние концы училищного парка заселялись покойниками, привидениями и прочей нечистью, как это сплошь и рядом происходит в городах и деревнях.
Очень многое в фольклоре русских школьников соответствует нашим культурным традициям. Возьмем одну из основных сторон подростковой жизни – половое созревание. В это время у подростков появляется интерес к эротическим текстам. Деревенские подростки начинают прислушиваться к «срамным» разговорам в мужских компаниях и воспроизводить их в своей среде. Есть множество свидетельств того, что подобные «разговоры» были распространены и в школьном быту (где тех, кто их избегал, обзывали «девчонками»). Среди кадетов, например, когда они находились на сборах, существовал обычай каждый вечер по очереди, начиная с правого фланга первого взвода, рассказывать «похабные» анекдоты388. Интереснее другое: довольно часто мемуаристы сообщают о «заветных тетрадях» с «сальными стишками» и прочими непристойностями.
Фольклор начинает бытовать не только в устном, но и в письменном виде. Это особенно характерно для девичьей школьной культуры. Если деревенская девочка-подросток играет в «посиделки», разучивая в процессе игры местный репертуар лирических песен, то ее сверстница-школьница заводит альбом, куда записывает стихотворения и песни о любви и дружбе. Альбом далеко не всегда ограничивается этими текстами, но включает и другие полезные вещи, вроде «пожеланий», различных «гадалок» и т. д. Он стремится заключить в себя весь традиционный материал девичьей культуры. Из устной эта культура превращается в письменную, что отражает одну из основных особенностей школьного фольклора – его неразрывную связь с письменностью, роль и значение которой становятся все более и более существенными.
Очевидно, что письменность не является здесь лишь формой хранения фольклорного материала. Есть тексты и даже целые жанры школьного фольклора, которые могут существовать исключительно в письменном виде. Эти письменные по сути тексты встречаются не только в девичьих альбомах: такова, например, известная игра в «балду», таковы ребусы и граффити389 (о последних упоминается еще в старинном романе Александра Измайлова «Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания и сообщества» (1799))390. Школьный фольклор не исчерпывается одними устными текстами. Это типично для современного фольклора391, к которому и принадлежит школьный фольклор.
Ориентиром для него является не традиционный фольклор, а литература. Исходя из литературных норм оформляется даже фольклорный материал, как это свойственно известной «нелепице»:
Рано утром, вечерком,
В полдень, на рассвете
Баба ехала верхом,
В расписной карете.
А за нею во всю прыть,
Тихими шагами
Волк старался переплыть
Миску с пирогами.
Обычное для фольклорной «небылицы» содержание выражается здесь литературным, силлабо-тоническим рифмованным стихом. Впервые один из куплетов был опубликован еще в 1863 году. Описывая нравы провинциальной духовной семинарии, автор, скрывшийся под псевдонимом «Бывший семинарист», выводит учителя истории, который веселит семинаристов «старинным четверостишием»:
Известно, что в сороковые годы прошлого века подобные куплеты были популярны в кадетском корпусе и даже считались произведением кадетской поэзии. В начале 50‐х годов «нелепицу» уже знали в женских институтах и распевали в провинциальной гимназии. Возможно, что ее придумали не школьники, но именно в их среде она жила и пополнялась все новыми и новыми куплетами393. Лишь спустя много времени эта «нелепица» вошла в народный обиход, стала записываться и публиковаться в фольклорных сборниках.
А между тем мало кто из нынешних школьников знаком с ней. Их потребность в алогизме и бессмыслице удовлетворяется другими текстами, среди которых встречаются не только такие традиционные «нелепицы», как «Это было в январе…» и «По прямой, извилистой дорожке…», но и оригинальные частушки-«нескладухи»:
По стене ползет кирпич,
Красной Армии боец.
Ну и пусть себе ползет.
Слава партии родной!
По березе слон ползет,
Хочет яблоко достать.
Я хотел его поймать —
Улетел пернатый друг.
В сравнении с современными «нескладухами» старинная «нелепица» выглядит весьма элементарной. Они более изысканны в формальном отношении (белый стих!) и куда замысловатее по своему содержанию, доведенному уже до полного абсурда с помощью политических лозунгов и культурных штампов.
Это одно из важных свидетельств развития школьного фольклора. Однако мы не знаем его истории. Все, что нам известно о его прошлом, вычитано из мемуаров и художественной литературы. Они содержат массу материалов, но – разноместных и разновременных, которые позволяют составить только самое общее представление о том, каким же когда-то был русский школьный фольклор. Логику его развития можно уловить, лишь внимательно изучая современный фольклор: определяя его основные особенности и выясняя их временны́е рамки.
Обратимся к материалам собственно «школьного» фольклора – текстам, посвященным учебе, которые во избежание путаницы назовем «школьной словесностью». Это прежде всего тексты мнемонического характера. Известные фразы «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан» и «Иван родил девчонку, велел тащить пеленку» помогают запомнить и воспроизвести последовательность цветов в спектре и падежей в русской грамматике. Очень полезны в деле изучения иностранных языков макаронические тексты, вроде старинного русско-французского стихотворения:
Рэгарде – машер – сестрица,
Кельжоли – идет – гарсон,
Сетасе – Богу – молиться.
Нам – пора – алямэзон394.
Однако далеко не всегда макароническая поэзия и даже фольклорные «правила» придумываются для того, чтобы помочь учиться. Веселая и беззаботная игра, которой пронизан школьный фольклор, порождает и чисто смехотворные тексты, вроде макаронической версии начальных строк пушкинской «Сказки о царе Салтане»:
Если одно из «правил» о биссектрисе:
Биссектриса —
Это крыса,
Которая бегает по углам
И делит угол пополам.
действительно может пригодиться на уроке геометрии, то в другом тексте биссектриса просто подвергается осмеянию:
Биссектриса – это крыса
Из помойного ведра.
Кто увидит эту крысу,
Не забудет никогда.
А сколько в «школьной словесности» таких текстов, в которых господствует комическая направленность! Одни из них пародируют грамматические определения:
Та часть речи,
Которая упала с печи,
Ударилась о пол —
Называется «глагол»;
другие – физические законы:
По закону Ома нужно кушать дома;
третьи – доказательство математических теорем:
Дано: Саша лезет в окно.
Допустим: мы его не пустим.
Требуется доказать, как он будет вылезать.
В то время как мнемонические тексты играют конструктивную роль, помогая школьнику справиться с трудностями его жизни, чисто комические «правила», «определения» и т. п. только высмеивают эти трудности, профанируя опостылевшую многим учебу. Итак, в «школьной словесности» выражаются два разных отношения к учебе: конструктивный подход соседствует с отрицательным, деструктивным. Есть основания думать, что эта коллизия является основополагающей для школьного фольклора.
Она довольно отчетливо просматривается в переделках известных текстов, которыми издавна занимаются наши школьники. Еще в середине прошлого века воспитанники одной из провинциальных духовных семинарий пели песню, переделанную из пушкинской «Черной шали»:
Гляжу я печально на рюмку с вином,
И мрачную душу сжигает огнем…
Когда ж легковерен и молод я был,
Благую сивушку я страстно любил396.
Отмечу, что подобными переделками занимаются отнюдь не бездарные люди, которые просто неспособны придумать что-то свое. Из Царскосельского лицея, например, вышел целый ряд отличных поэтов. Однако среди «национальных песен» лицеистов встречаются и переделки: так, например, песня «В лицейской зале тишина…» создана по образцу знаменитого «Певца во стане русских воинов»397. В чем смысл появления таких текстов? Исходный текст выступает как знак «взрослой» песенной (или поэтической) культуры, о причастности к которой и заявляют школьники, пользуясь ее «канвой» для выражения своего собственного содержания.
А между тем с простыми переделками, с использованием «взрослых» текстов граничит намеренное искажение и снижение этих текстов, когда в результате возникает профанный антитекст. Это явление непосредственно связано с деструктивной тенденцией «школьной словесности», распространяющейся и на хрестоматийные тексты учебной программы. Вслед за высокими поэтическими образцами, изучением и заучиванием которых мучают школьников, в поле зрения весельчаков и насмешников попадают и надоевшие популярные песни. Возникает обширная область современной parodia sacra, которая пользуется неизменным успехом в школьной среде. В ряду кличек для преподавателей и комических историй об их глупостях, анекдотов о Пушкине и других русских писателях располагаются и тексты, осмеивающие и дискредитирующие навязываемую им «взрослую» культуру.
Энергия противостояния порождает, наконец, фольклорный жанр, который имеет исключительно деструктивный характер. Это – появившиеся в 70‐е годы «садистские стишки». Основой этих «стишков» является заведомая «небылица». Характерно, что излюбленный припев этих текстов, когда они еще были песенными куплетами, был посвящен старушке, погибшей в высоковольтных проводах. Однако отрицательное отношение взрослых к «садистским стишкам» вызвано не столько особенностями их содержания, сколько стилем «стишков». Очень сильное впечатление производит нарочитая «неправильность» выражения. «Садистские стишки» лишены сентиментально-патетической тональности, в которой полагается говорить о несчастьях и смерти. Они предпочитают сухой, деловитый стиль информационного сообщения. А иногда – и вызывающий смех:
Долго смеялись на палубе дети:
Справа пол-Пети и слева пол-Пети.
Это – явная провокация по отношению к нормам взрослой культуры. Она венчает собой длинный ряд демонстративных шалостей, намеренных нарушений детьми предписанных им правил поведения.
Вместе с тем следует иметь в виду, что дети относятся к смерти иначе, чем взрослые. Отношение детей к смерти близко фольклорному: умерший в игре оживает точно так же, как мертвец в народном театре. В этой связи смех, сопровождающий смерть в «садистских стишках», напоминает древний смех при убивании, который «превращает смерть в новое рождение, уничтожает убийство»398. А сами «садистские стишки» родственны «средневековому и ренессансному гротеску, проникнутому карнавальным мироощущением», который «освобождает мир от всего страшного и пугающего, делает его предельно нестрашным и потому веселым и светлым»399. Очевидно, что «садистские стишки» – это современные «смешные страшилища», изготовленные из тех «страхов и ужасов», которые постоянно нагнетаются «взрослой» культурой.
В то же время новые элементы возникают и на противоположном полюсе школьного фольклора. Это происходит в такой важной и серьезной его области, как «страшные рассказы». Они издавна пользуются большой популярностью среди школьников: «разговор о чудесном и о привидениях был одним из самых любимых, – вспоминала воспитанница Патриотического института. – Мастерицы рассказывать говорили с необыкновенным увлечением, меняли голоса, вытаращивали глаза, в самых поразительных местах хватали за руки слушательниц, которые с визгом разбегались в разные стороны, но, поуспокоясь немного, трусихи возвращались на покинутые места и с жадностью дослушивали страшный рассказ»400. Есть все основания полагать, что долгое время «страшные рассказы» состояли из пересказов взрослых быличек и бывальщин, пока не появились тексты, которые представляют собой их особую, «детскую» разновидность, названную исследователями «страшилкой». Основным сюжетом «страшилки» является история о том, как дети становятся жертвами не только ведьм и колдунов, но и некой вредоносной силы, которая исходит из определенного места или действует посредством различных вещей или отдельных органов и частей тела. От быличек и бывальщин «страшилка» отличается еще и неразрывной связью с пародийными текстами, «антистрашилками», что создает определенный комплекс текстов, предназначенный для борьбы с детскими страхами и их преодоления. В новейших исследованиях этот комплекс рассматривается как мифологический401.
Обновляются и явно более мифологические по своей сути представления наших школьников о сверхъестественном. Они уже давно могут отличаться от традиционной демонологии. А. О. Смирнова-Россет вспоминала, как воспитанницы Екатерининского института верили в особые сверхъестественные существа:
У нас говорили, что по коридору ходили «понимашки». <…> Это название выдумала Фаминцына из седьмого выпуска для духов, посещающих наши коридоры. Всегда заранее знали, когда они появятся, и говорили: «Mesdames, не ходите поздно по коридору, сегодня будут бегать „понимашки“». Крупеникова рассказывала, что она видела глаза «понимашек», что они были зеленые и большие как луна, «понимашки» играли на полу и пристально на нее смотрели, и что раз, когда мы пошли ужинать, она видела их ноги мимо церкви и что они за ней бежали по мертвецкой лестнице. Она закричала нам: «Mesdames, я видела только одни ноги „понимашек“». Мы ринулись в столовую с криком, почти повалили классных дам402.
Хотя вера в «понимашек» имела весьма локальный и временный характер (выветрившись в последующих поколениях воспитанниц Екатерининского института), она свидетельствует о мифотворческом потенциале школьной культуры, который столь ярко проявился в современных представлениях о Пиковой даме. Это уже не просто демонический образ, порожденный детской фантазией, но самое настоящее мифологическое существо, общение с которым осуществляется в особой, ритуальной обстановке его «вызывания». Вокруг Пиковой дамы образуется своя собственная, «детская» мифология, которая распространяется по всей стране и с 70‐х годов становится характерным явлением школьного быта и фольклора.
«Вызывание» является ядром магической практики современных школьников. «Вызывают» не только Пиковую даму. Есть еще целый ряд сверхъестественных благодетелей: среди них фигурируют как более или менее понятные Гном, Баба-Яга и Золотая рыбка, так и таинственная Фенька, маленькая девочка с растрепанными волосами. Эту Феньку привлекают любимыми ею гвóздиками и прочими железками в надежде на то, что она поможет помириться с друзьями или родителями. Однако не все «вызываемые» существа помогают, некоторые из них лишь отвечают на вопросы. Любопытно, что героем детских спиритических сеансов в девяностые годы стал даже «дедушка Ленин», как принято обращаться к нему в вопросах и «заклинаниях». Он весьма сведущ и прозорлив, но опасен – может задушить, когда зол. Вместе с тем «вызывания» часто устраиваются вовсе не ради каких-то благ или сведений, а чтобы просто поразить окружающих магическим искусством и продемонстрировать свое превосходство над ними. В студенческие годы от всей школьной магии остается разве что вера в магические действия, способствующие успешной сдаче экзаменов: от давно известного подкладывания пятака под пятку – до манипуляций с зачетной книжкой, в которую современный студент перед экзаменом «ловит» и из которой на самом экзамене «выпускает» чудодейственную «Халяву».
Возникновение и развитие школьного образования приводит к серьезным изменениям в жизни подрастающих поколений. Это отражается и на их фольклоре: появляются новые тексты, новые жанры и даже целые новые области фольклорного творчества. Образуется новый, школьный фольклор, в котором традиционный детский фольклор играет все менее и менее значительную роль. Он разнообразен и динамичен не только потому, что существует среди растущих и развивающихся людей, но и под влиянием своего культурного контекста, в связи с которым возникает и исчезает не только интерес к каким-либо текстам, но и сама потребность в них. Особо активной жизнью школьный фольклор живет в наиболее острых и напряженных точках школьной культуры, где она соприкасается и контактирует с внешним миром: будь то мир таинственного и сверхъестественного или же взрослый мир, к которому приобщается и с которым конфликтует учащаяся молодежь. Именно здесь, в этих «горячих» точках, и проявляется ее творческий потенциал, благодаря которому к 80‐м годам нашего века сформировался столь яркий и своеобразный феномен современной культуры, каким предстает школьный фольклор.
Интерес к фольклору русских школьников возникает в 20‐е годы нашего века403. Однако он быстро заглох: обстоятельства не способствовали собиранию, препятствовали изучению и делали невозможной публикацию школьного фольклора. Лишь в самое последнее время начали появляться не только статьи и небольшие публикации школьного фольклора, но и целые сборники посвященных ему материалов. Открывает ряд этих сборников вышедший в 1992 году в Таллинне «Школьный быт и фольклор»404. Он мало кому знаком, кроме специалистов, ввиду мизерности своего тиража. А между тем «Школьный быт и фольклор» все еще является самым большим и разнообразным по составу собранием школьного фольклора.
В основу настоящего сборника легли материалы «Школьного быта и фольклора»: перепечатываются работы, посвященные школьному фольклору405. Они дополняются несколькими работами, в которых поднимаются новые пласты школьного фольклора. В результате получился еще более полный и представительный сборник современного русского школьного фольклора. Вместе с тем и он не охватывает всего многообразия русского школьного фольклора. Очевидно, что потребуется еще не один такой сборник, чтобы показать школьный фольклор в исчерпывающем виде. Восполнить хотя бы некоторые из существующих в нашем сборнике пробелов помогут работы выдающегося исследователя русского детского фольклора Георгия Семеновича Виноградова (1886–1945)406