Морские сны
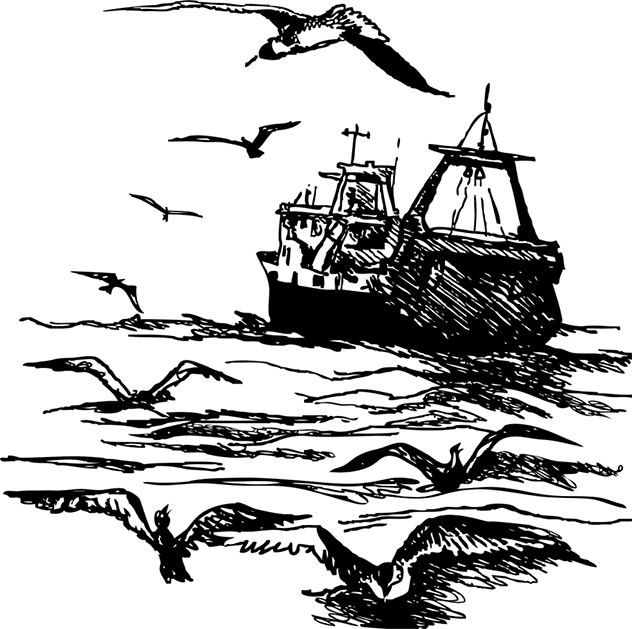
Остров Буян
Нету острова Буяна…
Море есть, и – верь не верь! —
знаю я в том окаянном
море каменную твердь.
Не палят с утеса пушки.
Не спешит заморский гость.
Только клочья мхов разбухших
да маяк торчит, как гвоздь…
Чайки кружат неустанно.
Ветры – с четырех сторон.
Ну скажите, – чем Салтана
удивить здесь мог Гвидон?..
Нету острова Буяна!
Но живет еще пока —
вечно злой и полупьяный —
самодержец маяка.
У него щека колюча.
На фуражке «краба» след.
Он с утесом неразлучен
не один десяток лет.
Мы с ним выпьем по стакану,
я скажу, багров как рак:
«Нету острова Буяна!»
Он ответит мне: «Дурак!..»
Кладбище судов
В затоне
Турухтанного ковша,
на питерской окраине унылой, —
они лежат, уткнувшись в берег стылый,
на глину струпья ржавчины кроша…
Спят, не дождавшись доков и верфей —
морской буксир, и баржи-самоходки,
и сухогруз, и целых три подлодки,
и рыжий сейнер с именем Орфей…
Здесь камыши всё выше с трех сторон,
чтоб со своим уроном каждый свыкся,
и сторож – как отставленный от Стикса
по старости и немощи Харон;
здесь сквозь туман слышны издалека
гудки судов, что уплывут далёко —
а кладбище молчит во сне глубоком,
лишь при гудках вибрирует
слегка…
Портрет рыбака
Рыбак пирует в ресторане «Нарва».
Он с рейса только что, и потому —
какая-то, я извиняюсь, лярва
без клея плотно клеится к нему!
С такою-то, я извиняюсь, рожей!
Да он женат, какого ей рожна?
Но так и льнет, зовет его Сережей,
хоть звать Сергей Аркадьевич должна!
А он и рад, что все идет – как надо,
что деньги есть и не о чем тужить!
И лучший вытрезвитель Ленинграда —
готов его принять и обслужить.
Морских трудов у трапа скинув глыбу,
он хвастает, как в голубой дали —
полгода целых честно шкерил рыбу!
– А вы бы там и дня бы не смогли!
А вы бы там, чем окунь хуже хека,
узнали бы, попробовав хоть раз,
как от шипов ладони человека
становятся размером с ваш анфас! —
И кажет всем корявую десницу,
и жаждет понимания в ответ,
и мимо проходящую девицу
протяжным взглядом долго греет вслед…
Но должного вниманья нет к беседе.
И он, отметив это, смотрит зло…
И на него с опаскою – соседи.
И лярву ту – как ветром унесло.
И он встает, оркестру величаво
заказывает песню: «Про звезду!»
И верный руль закладывает вправо,
роняя стул и фикус на ходу!
И – в ночь, в такси! А там – тепло и просто…
И клонится – к таксистову плечу.
– Куда поедем, дядя? Где живешь-то?
– Домой не надо! На корабль хочу!
И едет в порт, разбрызгивая лужи, —
вдоль речки, стройки, пустоши ночной…
И коньячок заначатый поглубже
припрятывает перед проходной!
И выглядеть старается построже,
хоть в нем уже чуть теплится душа…
И, как четыре ангела, к Сереже —
по трапу вниз слетают кореша!
А он покочевряжится, с минуту,
и вот уже – блаженный и ничей…
И – ввысь его, во тьму его, в каюту!
Подальше от старпомовских очей…
Корректор штурманских пособий
Страничку поправок держа под рукою,
корректор склонилась над картой морскою —
гуляет весь день по морям и проливам
ее карандашик в труде кропотливом…
Такая работа, такая забота —
следить, чтобы там не случилось чего-то,
чтоб штурман готов был к любому сюрпризу!
Я отблеск волны на щеке ее вижу…
Я вижу, как море сквозь пальцы проходит,
когда она крестик кружочком обводит.
Скользит вдоль Шотландии, локтем примятой,
русалочий взгляд ее зеленоватый…
И сам я не прочь оказаться в том море,
в значками размеченном пенном просторе —
на палубе шаткой, соленой и рыжей,
лишь только б к руке смугловатой поближе!..
Все так бы и было – когда б не опаска,
что плаванью будет помехой огласка,
когда б не кольцо, что уютно и зыбко
на пальце блестит – золотое, как рыбка…
Нулевой меридиан
С растяжечкой, как мелкий интриган,
четвертый штурман рявкнул по трансляции:
«Проходим нулевой меридиан!
Желающих – прошу полюбоваться!..»
Ах, штурман, ах, шутник!
Однако все,
кто в первый раз, пошли смотреть на море —
просторное, шумящее в мажоре,
пустынное во всей своей красе…
И все-таки какая-то черта
была – и ощущалась, словно мука,
ведь наступала долгая разлука,
любым былым разлукам не чета!..
И думалось – зачем плывем, куда?
Быть может, не вернуться никогда нам!
Быть может, мы исчезнем навсегда
за этим нулевым меридианом!..
Но «старики» сражались в домино,
плюя на эти шутки и печали…
Они черту прошли, и так давно,
что вообще ее не замечали!
Море
Вздохнулось мне. Вздыхает море.
И я подумал с тихой нежностью:
у нас полнейшая гармония,
у нас созвучье душ полнейшее.
Проснешься утром – и потянешься.
И море – вширь – на полпланеты.
И нет ему нигде пристанища.
И мне нигде покоя нету.
По десять раз в любую сторону
меняем за день настроение.
И – то ему тепло, то холодно,
и мне – то сине, то сиренево…
Айсберг
Подобный
божьей каверзе,
возник он – не таящийся,
от нас на правом траверзе
все выше становящийся,
раскачанный, как маятник,
в ручьях весь, будто с насморком —
не айсберг, Айсберг-памятник
всем неизвестным айсбергам!..
Его друзья-приятели
давно азарт оставили,
давно за ним в кильватере —
отстали и растаяли…
А он маршрутом странников
плывет, волну ворочая —
титан, гроза «Титаников»,
и прочая, и прочая!..
На юг, в края беспечные,
на все деньки остатние…
– Эй, мореходы встречные,
вы там поаккуратнее!
И повстречав нечаянно
среди тумана ватного,
не трогайте молчания —
его, зеленоватого…
Первый трал
Пришли под вечер.
Океан роптал —
и нервничал, и не скрывал волненья…
А утром мы подняли первый трал —
событие не хуже дня рожденья!
И – рыба, рыба!
Целых десять тонн!
Считать на всех – по сто кило на брата…
Вот окунь – пучеглаз, как император.
колюч, как еж, и красен, как пион…
Грозила пастью – каждый зуб кинжал! —
пятнистая, как леопард, зубатка…
И палтус, сдвинув глазки, возлежал —
и было видно, что ему не сладко…
А вот налим, как тот казак в загуле —
усами тряс, искал себе врага…
Сверкала сельдь, но сельдяной акуле
был свет не мил и жизнь не дорога…
Морской карась, как рекрут от тоски,
то взбрыкивал, выскакивал из массы —
то замирал по струнке, у трески
приметив генеральские лампасы…
А вслед макрурус хвостиком мотал,
мерцал огромным красноватым оком…
И снова – окунь,
окунь,
окунь,
окунь!
Я брал его и в противни кидал.
…В цеху аврал – мельканье лиц и рук.
Сосед под ноги сплюнул папироску:
– Прости нас, рыба!
Вот он, твой каюк, —
тележку повезли на заморозку!..
Перед утренней вахтой
Любезные товарищи мои
(пока во сне – за сотни миль отсюда
я находился, счастлив, словно бог,
и только одного боясь – проснуться),
любезные товарищи мои
(пока во сне – дыханье затаив
и очутившись в комнате ее,
садился я на краешек постели),
любезные товарищи мои
(пока во сне – поправив одеяло,
я на нее, уснувшую, глядел
и имя Оля с нежностью шептал),
они в ночи, не ведая печали —
там, на корме, в свету прожекторов! —
трал ставили, курили, ожидали,
прикидывали в мыслях свой улов…
Уже динамик прямо в мой эдем
транслировал: «Давай, помалу вира!
Еще помалу!» – словно тралом тем
зачерпнуты сокровища полмира…
Я просыпался…
Открывались взору
каюта, ночь, блеск моря,
а потом —
рыбмастера шаги по коридору
и шепот в дверь:
«Эй, корефан, подъем!..»
«Не спали Рекс и капитан-директор Волков…»
Не спали Рекс и капитан-директор Волков…
Не потому, что был поставлен трал, —
пес из каюты смылся в самоволку,
а капитан бессонницей страдал.
Был ночи третий час. Была путина.
И с мостика – и справа, и левей —
одна и та же виделась картина:
мерцающие грозди кораблей…
И думал капитан: «Вот жизнь собачья!
За рыбой вслед по миру беготня…
Полжизни морю отдал, а на сдачу —
за всю-то жизнь два-три счастливых дня!..»
И думал пес: «Скучища – нету мочи!
Вода, железо – нюху б не пропасть…
Эх, нет луны, а то бы взвыл по-волчьи
так, чтоб сводило судорогой пасть!..»
Так думали они в печали странной…
Рекс почему-то вспомнил, как щенком —
он бабочек ловил…
А капитану —
припомнился Саратов, детский дом…
Потом Рекс спать пошел.
За ним и Волков.
…И только окунь, где-то под водой,
от трала убегал и втихомолку —
печалился о жизни прожитой…
Промысловая баллада
Тралмейстер и штурман – вот главные на корабле,
и каждый из них сам себя полагает главнее! —
когда стая скумбрии в синей нащупана мгле
и трал нараспашку все ближе крадется за нею…
Вы скажете: штурман! Он долго смотрел в эхолот,
он рыбный косяк раньше всех опознал на экране!
Два дня нет улова, и вот – разворот и заход,
и всё как по нотам – при этой волне и тумане…
Но разве тралмейстер, сам лично поставивший трал,
поставивший на кон пятнадцатилетний свой опыт, —
на траловой палубе зря свою вахту гонял?
Пусть голос пропит у него, но талант-то не пропит!
А там, в синей мгле – от просторного трала на шаг, —
где сытный планктон пожирает родимая стая,
в своих эмпиреях витает скумбрийный вожак
и мощным хвостом вправо-влево поводит, витая…
Едва ли он знает, что гибель спешит по пятам,
что волны шумят наверху, как галерка в театре,
что хищные боги к добыче готовятся там,
мечтая, чтоб сразу – и вахты на две или на три!..
Но если сейчас он опасность – учует, узрит,
то вся его стая любое движение разом
мгновенно и точно вослед вожаку повторит!
И эта готовность не меньше, чем опыт и разум…
…И штурман, тревожась, меняет – то скорость, то курс.
И щупает тросы тралмейстер, покоя не зная…
У скумбрии этой – и стоимость выше, и вкус, —
но рыба она мускулистая и скоростная!
И чайки кричат, мельтеша за кормой невдали,
и крик их подобен то смеху, то бабьему всхлипу!
И громко железом в железо стучат кухтыли —
когда наш улов наконец выползает по слипу!
Огромный сачок, стометровой – не меньше – длины!
И если бугрится лишь в самом конце и не туго —
нет мыслей мрачнее и жарче, которых полны
тралмейстер и штурман, что молча глядят друг на друга…
Акула
Мы выловили крупную акулу,
а думали, что скумбрии косяк.
Акула побрыкалась – и заснула,
издохла, значит, так ее и сяк!..
И сразу на корме, как в зоопарке —
толпа, и негде яблоку упасть,
и кто-то там пихал акуле палку
в свирепую ощеренную пасть.
И целясь в наши бронзовые скулы,
бесстрастно щелкал аппарат «Зенит» —
старпом, матрос-лебедчик и аку́ла;
аку́ла и котельный машинист…
А боцман – точно рыцарь из Ла-Манчи,
тощой мужик лет сорока семи, —
акулу оседлав, упрямо клянчил:
– А ну, а ну, вот та́к меня сыми!
Сквозило. Вечерел в сторонке айсберг.
Рыбацкий пес привычно блох искал.
И капитана молчаливый абрис
уже не раз на мостике мелькал…
И уделив потехе час, не боле,
решив убрать все лишнее с кормы,
чудовище смайнали тросом в море:
Плыви, мол, остальных акул корми!..
И вдруг с веселых лиц улыбки сдуло,
и боцман, оглянувшись, побледнел:
акула – наша дохлая акула! —
вильнув хвостом,
исчезла
в глубине…
Монолог рыбака
И рыбы нет. И нет покоя
в одном из пасмурных морей.
И на душе моей – такое!
Такое на душе моей!..
Еще вчера под рев лебедки
тралмейстер матерно орал —
килограммовые селедки
в гостеприимный лезли трал!..
Еще вчера я шел вразвалку,
в столовой жадно пил компот,
и мне официантка Валька
тайком сказала, что – придет!
Еще вчера все было просто…
Зато сегодня все не так!
Тралмейстер, злясь на все расспросы,
показывает всем кулак.
И чаек нет. И море стирку
затеяло. Нависла мгла.
И трал пришел пустой, как дырка…
И Валька так и не пришла.
Фамилия
Фамилию известную ношу,
и многим не дает она покоя.
– Не родственник ли? – Нет, – произношу
с привычным сожаленьем и тоскою.
Но вижу, что не верят все равно,
подозревают, что в родстве повинен —
и с живописцем, умершим давно,
и с диктором, что памятен доныне…
Товарищи, я к вам без дураков,
вопрос закрыт, и все намеки – всуе!
Я сам с усам и с помощью стихов —
сам говорю и сам живописую!
Вопрос закрыт, но с должной прямотой
сквозит за ним вопрос национальный!
У нас тут в море трал пришел пустой —
причиной объяснен оригинальной.
Сгибая пальцы, сам из вологжан,
виновников подсчитывал Петрович:
– Левицкий в рубке! В цехе Миттельман!
Плюс Левитан, Исаков, Абрамович!
– Постой! Ведь Абрамович – белорус,
Исаков – русский, да и я – из псковских!..
– Из псковских, говоришь? – и крутит ус. —
Брось парень, брось, видали мы таковских!
Когда же штурман поднял полный трал,
Петрович сам, хлебнув чайку из фляги,
весь в чешуе, на палубе орал:
– Ух, молодцы евреи, молодчаги!..
И греб треску лопатою в «карман»,
а там, внизу, где каждый одинаков,
ее пластали все – и Миттельман,
и я, и Абрамович, и Исаков!..
И вот что я подумал: вся беда —
не в нациях и не в утятах гадких,
а в том, что нет условий для труда,
зато полно проблем и недостатков!
А если дело спорится, ей-ей! —
в любом занятье никому не тесно,
и там не важно – родственник ты чей,
да и в анкету лезть не интересно…
«Когда шторма швыряют судно…»
Когда шторма швыряют судно
то в небо, то наоборот,
когда не то что неуютно,
а просто оторопь берет,
и твой сосед лежит в каюте
чуть жив, лицом белей, чем мел, —
он шел в моря, чтоб выйти в люди,
он еле в койку влезть сумел! —
тогда и ты в тоске безмерной
сидишь, кляня весь белый свет,
и в рундуке рукой неверной
ища спасательный жилет…
Но перевернута страница!
И, от хлопот отяжелев,
утихнет шторм, угомонится,
вернет на место дымный шлейф!
И вот уж ночь с зарей толкуют
о видах завтрашнего дня,
и волны из одной в другую —
переливаются, звеня…
И отпихнув жилет дурацкий,
ты выйдешь вновь на белый свет,
и он прильнет к тебе по-братски —
он слов твоих не вспомнит, нет…
«Процессы облакообразованья…»
Процессы облакообразованья…
Вот, от старпома выйдя, зол и хмур,
на палубе присел Калугин Ваня,
и закурил, и горестно вздохнул…
Вот вздох его, в полете обрастая
парами, что вздымаются от вод —
то уплотняясь формою, то тая —
степенно покоряет небосвод…
И вот уже плывут к востоку тучи —
лиловые от Ваниной тоски!
А будь старпом в беседе с ним почутче —
вздыхать и злиться было б не с руки…
Любимая!
Мне было не до шуток,
когда, во сне про прежнее житье,
я снова вспомнил – через столько суток! —
внезапное замужество твое…
Вчерашняя моя!
Позавчерашней
среди штормов и штилей становясь,
о, согласись, нет ничего пустяшней,
чем та меж нами тинькнувшая связь!
И этот сон – все дальше, все забытей…
Но грустно мне, не знаю отчего.
И облака плывут в твоем зените —
рожденные от вздоха моего…
Волна
Сегодня нам не выспаться опять!
Сегодня вновь откуда-то с востока
пришла голубоокая морока,
пришла – взметнулась звонко и высоко,
в иллюминатор глянула – и вспять!..
Мы – с вахты. Мы на отдыхе – вдвоем.
Сосед свой тельник порванный заштопал
и влез в постель свою, как в пробку штопор.
Какой-то слон по палубе протопал —
не иначе, как камбузник с ведром!
А гостья стонет, бьется о стекло,
как будто молит: «Люди! Бога ради!
Смотрите, у меня седые пряди!
Я потеряла путь к моей отраде,
и сердце мое горем истекло…»
И вспомнился старинный тот сюжет…
И я подумал: вдруг она – Ундина!
Но что Гульбранду рыбная путина,
Здесь, в Лабрадоре, нынче холодина,
а рыцарь и Бертальдою согрет!..
Но прав Жуковский – бедная волна!
Так лишь любви пропавшей ищут – где ж ты? —
в отчаянье, граничащем с надеждой,
в какие бы ни пряталась одежды
и в ком бы ни была воплощена…
Летит волна. Волнует и томит.
Мешает спать. И думать над тетрадью.
И так звенит, в каюту нашу глядя,
что и сосед, видавший виды дядя,
бормочет сонно:
– Что? Никак штормит?..
Баллада о лошадях острова Сейбла
На Сейбле – песчаном клочке с океаном вокруг,
который шалеет при виде песчаной земли, —
в бинокле возникнут косматые лошади вдруг…
Когда-то мы – люди – с собой их сюда привезли.
Но люди горазды раздоры чинить меж собой!
И вот учинили – и шустро взялись за ножи,
и пули над островом пели про смерть вразнобой…
Кончаются плохо во все времена мятежи.
Кто смог, тот отчалил с проклятьями на материк —
за новой судьбой, поцелуями, дракой, тюрьмой.
Последняя пуля в последний отчаянный крик
поставила точку – и остров исчез за кормой….
Кто знал, каково им, гривастым, оставшись без нас —
в суровые зимы, в штормах и туманах подряд! —
сбивая копыта, к траве пробиваться сквозь наст
и брюхом мохнатым стараться согреть жеребят?
Но выжили лошади – трудностям всем вопреки!
Росло поголовье, хоть пастбищ не сыщешь скудней.
Чуть стали приземистей, но быстроноги, легки —
и долгое время совсем не боялись людей…
И если швыряло разбитый корабль на песок,
и спасшийся некто – истерзанный, в смертных слезах! —
в себя приходил, он готов был поверить, что Бог
на лошадь похож, что склонялась над ним в небесах…
Баня
В банный день,
в день, праздничный по сути, —
через борт! – ликующим пластом
с тяжким гулом плюхнувшись на юте,
мир затмив, разбив стакан в каюте,
нас настиг южнее Сейбла шторм…
И опять – удар и шум обвала!
Но всего сильнее – в третий раз…
Взвился вал – темно и небывало,
и когда махина миновала —
двигатели смолкли, свет погас!
Взвился вал – тряхнул, шарахнул, вздыбил!
Развернул с востока нас на юг!
Что-то там замкнул, сломал и выбил…
И тогда рыбацкая погибель
смутно замаячила вокруг…
– Эй, в машинном! Что там, нет ли течи?
Что там в рубке, в чьих руках штурвал?
…А в ответ, мурашками на плечи,
на нечеловеческом наречье
кто-то что-то в «спикер» прорычал!..
И понять не в силах слов значенье
и поганый чуя оборот,
похватав жилеты без смущенья,
побежал, средь качки и вращенья,
к трапу верхней палубы народ!
А из бани боцман – голый, в мыле —
вылезает, слыша, как бегут,
и кричит в своем матером стиле:
– Что за суки воду отключили?!
Мыло смыть, бакланы, не дают!
Вот кто был не в курсе однозначно —
в баню влезший раньше всех на час,
веничком напарившийся смачно!
И сказал матрос-лебедчик мрачно:
– Потерпи,
домоешься сейчас!..
И дрожал фонарный луч на теле —
на суровой боцманской красе,
и забыв, куда бежать хотели,
миг-другой мы на него глядели,
а потом – захохотали все!..
И так странно,
что под этот хохот
вдруг возникли снова свет и связь!
И в машинном – двигателей рокот
стал расти, вплетаясь в шторма грохот!..
И погибель мимо пронеслась.
Явление природы
Мы видели – как солнце багровело,
снижаясь над блестящим горизонтом,
и птица-чайка с криком то и дело
металась над снижающимся солнцем…
И в миг, когда оно, наполовину
расплесканное зыбью окаянной,
исчезло —
неожидан и малинов,
волшебный луч восстал из океана!
Как перст судьбы над дымкою лиловой,
до самого зенита восходящий,
как меч Господень, страшный и суровый,
неведомо кому еще грозящий!..
Секунды шли. А чудо длилось, длилось…
Луч словно оплавлялся у подножья…
Как если бы сменился гнев на милость
и лезвие меча влагалось в ножны…
И всё. И только волны небо лижут.
И нам пора в столовую на ужин…
Я перерою уйму умных книжек —
ища ответ, который мне не нужен:
дисперсия…
дифракция…
эффекты…
И сон придет – цветной, необычайный.
И чей-то голос скажет с грустью:
«Эх, ты!
Ну кто́ мы есть, ну что́ мы есть – без тайны?»
Вельбот
Вчера пришвартовались к плавбазе для сдачи рыбы. А сегодня нас попросили врачей с плавбазы на траулер «Берилл» перевезти, там у рефмашиниста аппендицит, что ли…
И было так: держа коробки, склянки,
врачихи бодро влезли в наш вельбот.
«Стажерки, – я подумал, – практикантки», —
и отдал гак, и рядом сел на банке…
Мотор чихнул, и мы пошли вперед.
А в океане при такой погодке —
на гребни волн смотри да не зевай!
Нас тут же и хлестнуло посередке,
промокли их ажурные колготки…
Одна сказала: – Ой! – другая: – Ай!
– Ой, мальчики, какой ваш катер старый!
– Он не утонет, этот драндулет?
– А вас как звать?
– Нас Таней!
– Нас Тамарой!
Блондинке Тане шел румянец алый…
И молодые обе – наших лет.
И штурман наш, окидывая дали
суровым взором и пожав плечом,
велел, чтоб им брезент – укрыться – дали,
ему мешали женских тел детали…
Кто был в морях, тот знает, речь о чем!
Когда ты пятый месяц в этой качке,
и не женат, и не анахорет,
и никогда к буфетчице иль прачке
не скребся в дверь с бутылкой из заначки —
колготки видеть трудно, спору нет…
И он рулил, с волнами в поединке —
то падал в бездну, то вздымался ввысь!
Но от румянца дивного блондинки —
в его глазах растаявшие льдинки
горючим карим пламенем зажглись…
И он уже шутил с ней то и дело,
и говорил «аймсори», и она —
склонив лицо, смущаясь до предела,
во все глаза на штурмана глядела,
красой и мощью всей потрясена!
Вот, Господи, любви счастливый случай,
вот двух сердец стремительный привет!..
И долго руль скрипел в руке могучей,
ведя вельбот к разлуке неминучей —
на траулера ржавый силуэт!
…Со стороны подветренной причалив,
мы помогли на трап им перейти.
И вот уж нам «спасибо!» прокричали,
и каблучки все выше застучали…
А мы смотрели, Господи, прости!
Потом назад поплыли, как в тумане,
и только штурман произнес: – Ну вот…
Что означало: в этом океане —
в сердечном плане и в лечебном плане —
одним аппендицитчикам везет!
Мертвый штиль
В вечерний час на океан —
пока он мертвым штилем пьян —
тьма налагает свод небесный…
И долго стынет шов сварной
над непомерной шириной,
объединяя бездну с бездной…
И Млечный Путь макает хвост
в наш пенный след, и стаи звезд,
как рыбы, плещутся в глубинах…
И спутник или сателлит —
один летит через зенит,
как дух на крыльях голубиных…
Летит над нашим кораблем,
зовет немеркнущим огнем,
чтоб весть о нем в сердцах несли мы…
И все созвездья, там и здесь,
безмолвно шлют друг другу весть —
и те, что есть, и те, что мнимы…
Чтоб в одиночку превозмочь
такой простор в такую ночь —
скажите нам, яхтсмен Чичестер,
надежно ль в лодке быть должны
снаряжены, закреплены —
компас, и весла, и винчестер?..
И ты – на палубе ночной —
будь рад, что чувствуешь спиной
жизнь за стальною переборкой!
Но вправду ль есть она?
Проверь!
И если вдруг заклинит дверь —
молчи,
не торкайся,
не шоркай!
Ты здесь никто и звать никак,
и – если этот звездный мрак
не заалеет на востоке! —
здесь делать нечего уму
здесь даже зренье ни к чему,
и сердца стук,
и эти строки…
«Луна Бристольского залива в сентябре…»
Луна Бристольского залива в сентябре
подобна фее – в жемчугах и серебре.
Светло глядит на нас – сквозь радуги кольцо —
ее прекрасное и грустное лицо.
Она владеет небесами третью ночь.
Она готова заблудившимся помочь.
Она царит, и нет ей дела до парней —
свои подошвы отпечатавших на ней…
А под Луной порхает, балуясь, Эол,
несет на юг, на полуостров Корнуолл —
дыханье вереска и волн хрустальный плеск
вдоль черных скал на полуострове Уэльс.
И сам залив не спит под нашим кораблем —
то плещет жемчугом, то блещет серебром.
И стаям рыб из глубины в лучах Луны
и трал, и траулер отчетливо видны…
Кот на траулере
В сушилку брошен мокрый фартук.
С рук смыты чешуя и слизь…
Перекурили после вахты —
и по каютам разошлись.
А корабельный кот Максимыч,
всю вахту бывший не у дел,
ворочал шеею массивной
и на коленях не сидел.
Он поводил роскошным усом,
и громко фыркал, осмотрясь,
и мягкой лапой трогал мусор,
и долго мягкой лапой тряс.
Когда ж я вновь метелку прятал,
мурлыкал кот – похвально, мол! —
и шел глядеть в иллюминатор
на полуостров Корнуолл.
Как будто те дома и шпили,
венчая сизые холмы —
ему такое говорили,
чего совсем не знали мы!
И так глядел зеленооко,
что робко думалось о нем:
«Что ищет он в стране далекой,
что кинул он в краю родном?..»
Элегия
О чем грустят вечерние моря
в тот час, когда к волнам прильнет заря
и сумерки сиреневой ордой
с востока вскачь несутся над водой?
Они грустят о спелых облаках,
с оранжевым свеченьем на боках,
о звездах, еле видимых сейчас,
что будут падать в волны через час…
Грустят о Геркулесовых столбах,
о моряках с усмешкой на губах,
о кораблях, что спят на дне морском,
задушенные илом и песком…
Об оскуденье царств подводной мглы,
о рыбе, что вылавливаем мы,
о той, что мы увозим навсегда —
в прожорливые наши города…
Плывем.
А грусть простерлась —
над кормой,
над рубкой, над лебедкой якорной…
И над трубой летит сквозь дымный чад…
И чайки – параллельно ей летят…
Эльсинор
Еще вчера нас колошматил норд,
но плыть проливом Зунд – волшебный отдых!
Мы лезли из кают на свежий воздух —
и поглазеть на замок Эльсинор…
Он приближался к нам во всей красе
туристам предназначенного шика
и, как магнит, притягивал машинки,
что катят по прибрежному шоссе.
И наш кораблик ржавеньким бочком
все норовил подплыть к нему поближе,
и датский лоцман – здоровила рыжий —
дымил по рубке пряным табачком…
Возьму бинокль у штурмана – он даст!
И руки вдруг вспотеют от волненья,
и замок – в многократном приближенье —
появится, сиренев и грудаст…
О, замок Эльсинор! Над блеском вод
о чем тоскуешь, каменный молчальник,
над берегами, над мельканьем чаек
зеленый шпиль воткнувший в небосвод?
Трава забвенья камни оплела.
Площадка под стеной бензином пахнет…
Но кто открыл окно у левой башни?
Быть может, в нем Офелия жила?
Вот пушки. Взгляд их жерл – тяжел и хмур…
И флаг с крестом кровавится уныло…
Ах, знаю я – не здесь все это было!
Но так решил великий драматург!
И никаких туристов, яхт, реклам!
Лишь сердце задрожит от резонанса,
поверив, что ровесник Ренессанса —
трагедии вместилище и храм!
И снова Время грузно мчится вспять
по заскорузлым знакам Зодиака,
и «Гамлет» – в переводе Пастернака —
лежит в моей каюте…
И опять…
Там, в замке, принц – то медля, то спеша —
по галереям вдоль перил щербатых
идет… стоит… Он знает виноватых!
Он часа ждет!
О, бедная душа,
под силу ли нести такую кладь,
такой экзамен выдержать – экстерном?
И встретив Розенкранца с Гильденстерном,
им предложить – на дудочке сыграть…
Он сам игрок!
Пусть в правилах игры
двуличны все – и он в обличьях волен!
Они больны, ну что ж, он тоже болен,
безумен даже – только до поры…
И бродит принц. И бредит на ходу.
И узнает на всем черты порока!
Живой цветок – среди чертополоха!
…А в 1602 году —
на Бред-стрит в старом Лондоне —
был пир
в таверне, именуемой «Сирена»…
Вздымались чаши. Пелась кантилена…
На том пиру – присутствовал Шекспир.
Был постный день, но жареный кабан
до косточек был съеден и обсосан.
Вино лилось рекой. И под вопросом —
была мораль…
И был хозяин пьян.
И расстегнув высокий воротник —
со школы нам известный по портрету, —
Шекспир внимал какому-то поэту,
вещавшему про творческий родник.
«Молчите все! – кричал он. —
Ваша честь!
Я написал для пьесы продолженье
про тягость Фортинбрасова правленья!
Дозвольте мне немедленно прочесть!..»
Он был настойчив. Он напротив сел.
И быть бы скуке, коль не подоспел бы
актер театра «Глобус» Ричард Бербедж,
сказавший так:
«Пойдите к черту, сэр!»
Потом усами дернул, словно кот,
и усмехнулся: «Что милей молчанья?»
Потом сказал:
«А все же не случайно —
о пьесе разговоры целый год!
Мне самому, едва лишь выхожу
на сцену в третьем акте с монологом
все чудится, что я общаюсь – с Богом
и в зале все светильники гашу…
И вижу наяву весь этот ад,
и чувствую, как трогает картина —
и шпагоносца,
и простолюдина!
И главное, как все они молчат!..
Мы – временны. Мы – гости на земле.
Актерствуем – и в жизни, и на сцене,
но роли наши краткие бесценны
учить Добру…
Так показалось мне…»
«О да, мой друг, – ответствовал Шекспир, —
в природе нет достойнее призванья
оправдывать венца природы званье
и мир лечить, пока недужен мир.
Себя увидев в зеркале, глупец —
уже умнеет! Зло – не так всесильно!
И если жизнь на отклики обильна,
то сможет стать добрее наконец…
Прекрасны миг, движение, порыв —
не уступить,
восстать пред силой грубой,
чтоб каждый понял, что ему Гекуба,
в самом себе сокровище открыв!..»
Так говорил Шекспир, потом – молчал.
В том разговоре – с другом и актером.
В том самом разговоре, о котором —
биографам никто не сообщал…
Какой был век! Каких исполнен сил!
Звезда навстречу Кеплеру летела.
В тюрьме сидел Томмазо Кампанелла.
Отрепьев Гришка шлялся по Руси…
Монах из ртути золото варил.
Костер еретика спасал от скверны.
Творец трагедий – в лондонской таверне —
о главном
в Человеке говорил…
А мы – плывем, наш путь лежит домой…
Сгорел закат. Суда спустили флаги.
За ближним мысом виден Копенгаген.
И стих пора кончать беспутный мой.
Мигнул маяк. И выпустив шасси,
к земле спустился сизокрылый «Боинг», —
свистящий рев оставив за собою…
И ветромер – трепещет на оси.
И все казалось в отблесках зарниц,
что вывернуто Время наизнанку,
что где-то там —
в теряющемся замке —
все мечется,
все мучается принц…