Земля осени

Кочевое утро

кочевое утро
и нулевое
по всем параметрам
кроме
пульсации глубины
оставь это дело на час
и отвори двери сердца
я не готов убираться там
оставь,
чтобы принять гостя
я брошу все
и уйду в поход
в междуречье надежды
оставь и иди
дело внутри тебя
В. Месяцу
Люди питались светом
и детей зачинали от радуги
а искусства мужчин,
в нашем смысле,
не было,
потому что мужчины были монахи
и не порхала мысль
бабочкой,
а пребывала в сердце
восьмым созвездием
в лето воды-овцы

За поворотом летит слово судьбы
но я оставляю его в ноль
я радуюсь погожему дню
и шоколаднице на бархатцах
шоколадница двигает крыльями
и яблоко, прорезая листву,
гулко стукается о землю
вода сводит яйца
но я все равно окунаюсь
и бегаю в лес.
За поворотом
Колесо убило моего сына.
Вспоминаю – и стекленею
превращаюсь в ноль.
Но обратное ничто
еще не ничто
еще не конец
я радуюсь
тихо тающей жизни
и надеюсь на встречу.

Это луна
Или не луна?
Нет, фонарь.
Нет, окно
На самом верху
Окно и луна.
Широкая тень
одинокого мельника
по берегу
XIX век
где черти были
кузнечики цок-
цок – лекарство
июльская вата воды.
Ни и не
В твоем окне
Тополь быстро облетел
А на яблоне
Еще красные яблоки
Соблазна.

И в одиночестве последнем
едва ли не
заключены
за северной рекой
осеннем
пределе месяца-луны
останется едва ли но
земля прекрасная – на дно
но обернемся —
и с весельем
за легким платьем новизны
и в одиночестве последнем
не будет месяца‐луны.
Абхазия

У лианы стена не пройти берега
по обрывам цветенье и гул
раздвигают веселые струи долину
и упрямо волами блестят
и скопленье камней обтекают, левей
боевое оружье – шипы
наступает десант, убегают войска
по кустам рассыпаются жители гор
все селения – доты,
осколки сознания старой вражды,
распахнули ворота – встречают
туристский поток.
Ночью волк
отогнал жеребенка
от стреноженной кобылицы
и задрал
обычная история
Давид
улыбается улыбкой
грустного человека
и объясняет
как найти развалины крепости
в горах
Давид —
ветеран войны
маленькой страны
пришпиленной к морю –
доит корову
животные здесь
ходят с колокольчиком
и небо звенит —
вперед!

Вынырнуть
из потока образов
и полноты переживаний
выскользнуть
из постели
по нужде
к несильному солнцу
и защебетать
пауза
пожмуриться
в зоне перехода
из аквамарина
в реальность гортанного дня

Ручей пересох
и только цветущая яблоня
в русле
еще беседует
со струей.

Я полечу – узнай весну с обрыва
Я полечу— последний шепоток
Последняя листва в струе обрыва
И корни вверх – на запад и восток.
И ветер – круг, открыто – для кого-то,
И круг воды за камнем обливным,
И неба круг – блаженная суббота,
Воды и солнца вечная работа
У поворота к дальним и родным.
Я прочерчу в воде изгибы линий
И места дам расти – кому расти.
А неба круг – и серенький, и синий.
И стрелка – шаг навстречу, без пяти.
Птицы пощебетали
пока не включили
бетономешалку
и мир превратился в объект
мне нравятся щуплые рабочие
в замызганной униформе
их голоса —
лай дворовых собак
их передвижения —
ритм стройки
и элемент стабильности:
работа есть!
а рядом руины
дворцов для рабочих
башенки и колоннады
куски арматуры
с бетонными набалдашниками
на связке
железнодорожной ветки
геометрия рая вчера
всё живет в своем времени
я делаю глоток зеленого чая
и убегаю в горы – дышать
Мы все заполнены
штрихами ночи
мы все похожи
на огни без точек
и мусульманский месяц тетивы
рассвет не даст
пока устали мы
пока по склонам мрака
сердце кружит
и ничего внутри не обнаружит
но резки сны, сопутники зари,
толкают в бок – проветриться сходи
и вот идешь на раз, на два, на три
и утренние звезды близко
На рассвете, в полмазка
брешут собаки и петухи достали
за мандариновым садом тропа узка
проще лететь, раньше летали
женские формы освоил юг
умри фантазия – неба круг
Земля осени

Сижу до трёх
И после
Не засыпаю.

Крутит – это одна ситуация
а вертит – другая
и из другой комнаты
в третью
с опорой на новые смыслы
живая вода общения
надежда
не тает
а
риторическая фигура
то есть слова и реальность
расходятся
просто дождь.
На стыке болотца и леса,
Между стихом и прозой
Хрустальный день.
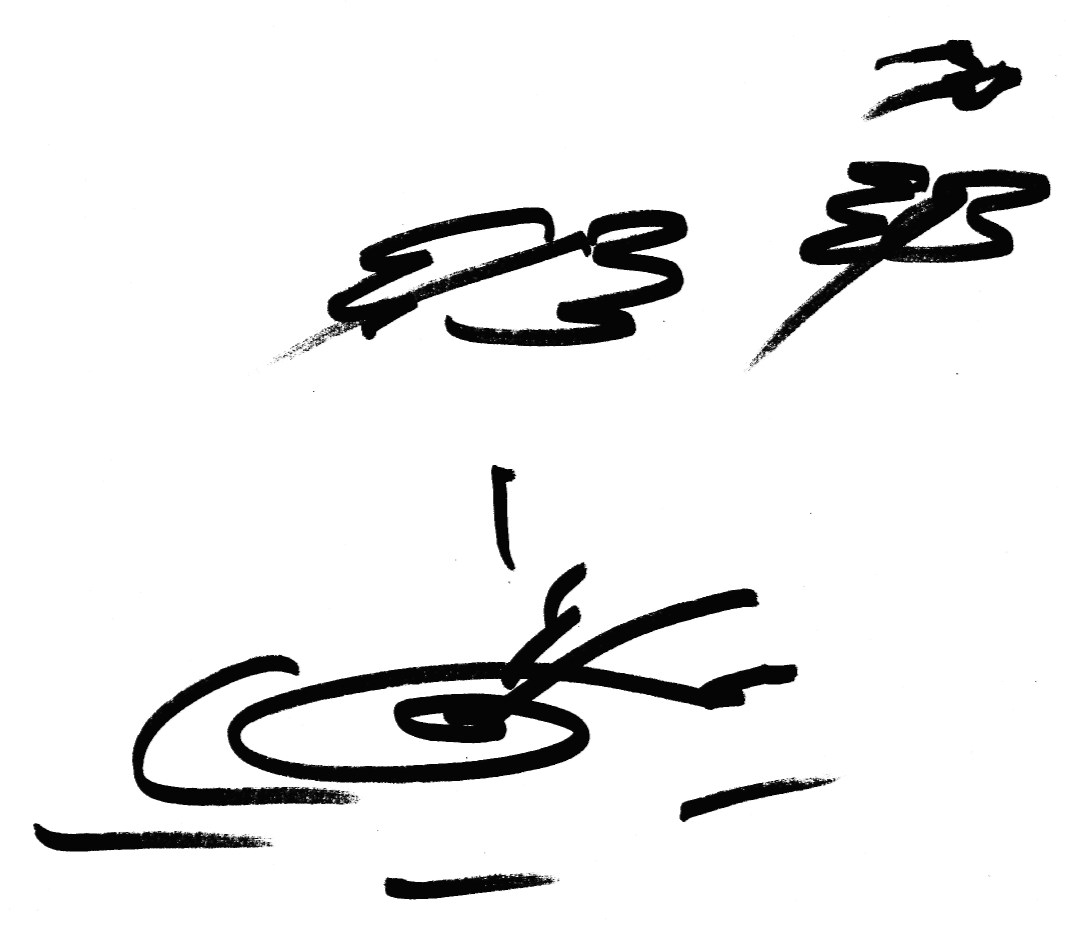
По отражению дерева
Перебегаю на ту сторону
Птица: там-там ау
Там-там ау
До Калоги
Так и иду.
Долгая беседа с собой:
А не дурак он.

Ой-ой-ой!
Каконькать захотелось
Хорошо, что в лесу
В любом месте.

Лес дальнего поля
о-и
и лыжня
о-я-о
в ожидании волейбола
yes
внутри проигрываешь
красивый пас
через себя
я-я
и удар
о
я-о-и
весеннего субботнего дня
в лесу
От солнца до
Вселенского паладина звука
В ущелье беды
Или долины счастья
От – до
Это касается пищи,
Среды обитания,
Геометрии внутреннего «Я».
Давление скачет. Затылок.
Немного осталось опилок
Квадрат пузыря головы
Стучат без конца молоточки
И точки – и кочки, и кочки,
И кочки, и волны травы.
Лекарство – одно разоренье
И радости старость – старенье
Давление скачет, увы.

Да неплохой он мужик
и бэкграунд лёгкий, арбатский.
Только болтает всё время.
Достал.
«Володя, – нахмурю брови, – молчим
пять минут».
И молча кроем крышу в Завидове.
Квартира в Москве у него йок,
продал, а деньги – в песок.
Нету денег.
И здесь на птичьих правах,
на честном слове.
Пенсию до сих пор не оформил,
лет восемь как собирается,
да всё недосуг.
Всё фантазии на
двадцать пять лет вперед:
заняться фотографией,
выстроить дом в виде шалаша,
стать плотником, садоводом.
В сельском храме у Володи родня:
дед на стене изображен
в лике святого —
расстрелян в тридцать восьмом.
Диски
Вперемежку с книгами и тетрадями.
Низкое небо – продолженье стола.
Дождит – и в деревьях движется сок
Навстречу словам.
Они кружатся над талыми водами.
Старый способ записи:
Бумага и ручка.
Лень подойти к компьютеру,
Нажать кнопку.
Небо низкое, без просветов, и хочется
просто лечь.
Но внутри
Движется слово
Словно сок в дереве.
Стихи из молчания, из дождя.
Есть во всем такое вот
отчего душа поёт
грузди – лужицы на шляпках
прижимаюсь плотно – зябко
и за шиворот – отвесно
так торжественно – и тесно
одесную и ошую
мысли умные шинкую
и гляжу – тропинка вроде
(это, кстати, о свободе)
и – и длинно, длинно – и
полетели-и.
Отношения

Всё время на поверхности —
cheese —
улыбается
а внутрь не пускает.
А может
и нет
ничего у него
внутри —
один cheese?
Единственная зацепка —
боковые пути общения…
И по касательной,
по касательной
новые смыслы
внутри
и копейка-судьба
сзади
С виду
такой весь из себя
а случись что – не обопрёшься
Пожил здесь на халяву – и хорош,
вымётывайся
а он всё крылышками, понимаешь,
машет —
жук такой!

За передёрнутой
в пустой квартире
занавеской
сдвинут мир
в обрез впечатлений
живого пространства,
в память
о прошедшем завтра
Лежать
проветривая яйца
и наблюдать как неба круг
легко и просто
превращается
в змею
она ползёт
и нету места
от занавесок
Через каскады труб
и завалы
чешут машины – дачное направление.
«Спой про машины», – просит сын.
Мы засыпаем
в нашем завидовском доме
с окнами в сад,
за которым
шипит шоссе точно змей.
Солнце садится
и туча, как бабочка над селом,
хочет его закрыть.
«Я расскажу лучше про бабочку.
Она дружит со змеем», —
пытаюсь я перевести разговор.
«Про машину», – требует он.
На краю одиночества
и полной невозможности ничего
за границей себя
сам
за вертолетом и синевой
ТО ТВАМ АСИ

Проснуться
просто в другом месте
с другими возможностями,
и токи творчества,
зов свободы:
пошли, полетим.
Человек – это не только «Я».
Это овраги и пустыри,
камни культуры
и «мы» общения.
Другое место.
Проснешься —
и полететь
Я ищу параллельную плоскость —
ускользнуть от бреда работы
и заняться своим по жизни,
погрузиться в покой субботы,
то есть выйти на край обрыва
и отдаться полёту – шире —
эта странная неба жёсткость.
Дважды два, конечно, четыре.
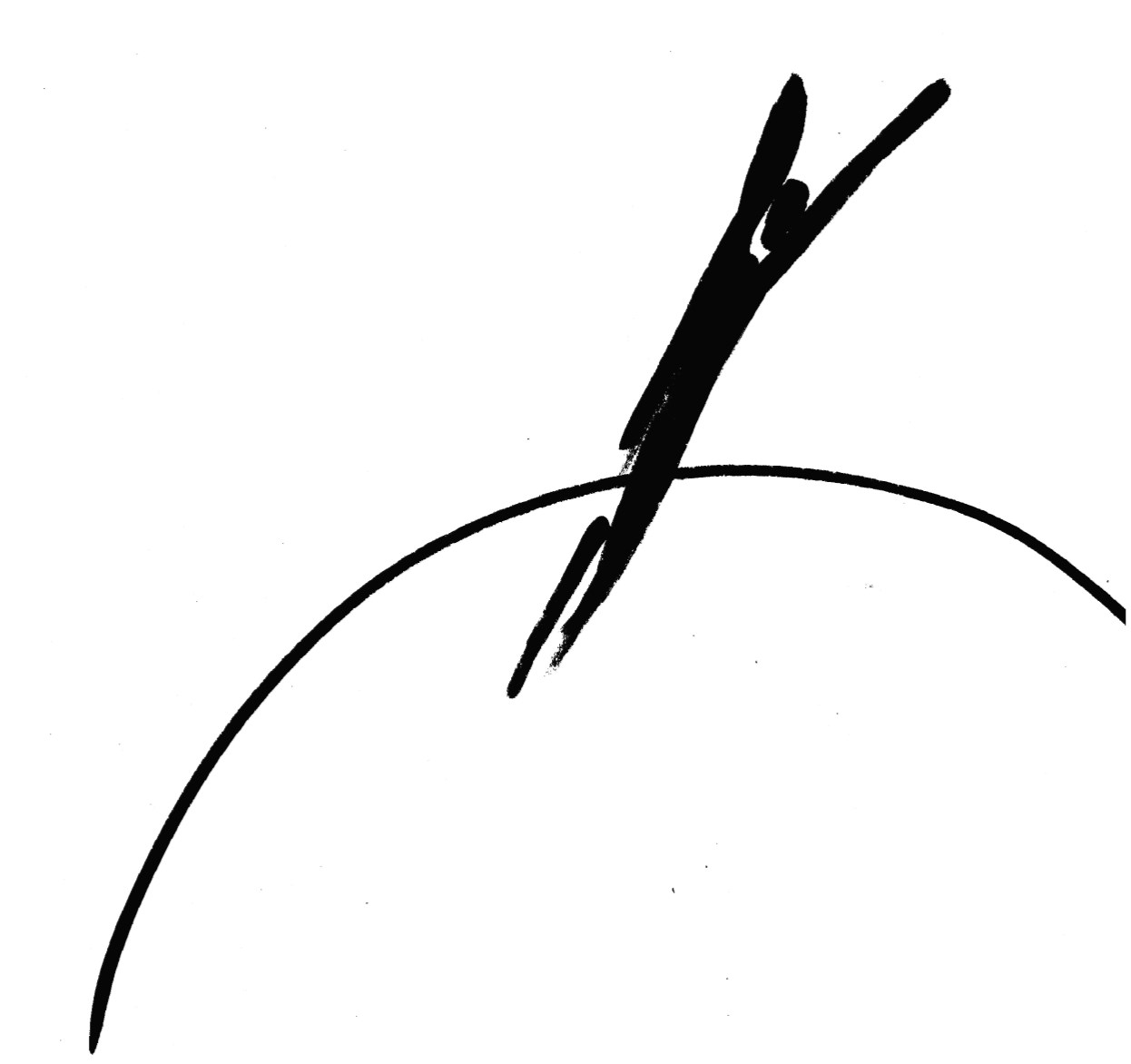
Он просто весь задёрган и растрачен
и жёсткими штрихами обозначен,
закатан в обстоятельства сует.
Но в нем ещё живет наивный мальчик
и прыгает в словах веселый зайчик
и мы по телефону tet-a-tet
И мы по телефону проговоры,
Набухших почек серые узоры
И бег на месте – на зелёный свет.
Неуверенный, неприкаянный
добавим:
как ошпаренный
стоит у
у – какой грозный дядя
сколько в нем благодати —
один живот чего стоит
а в сущности – ребенок
крутит белками
и не понимает:
сюда не пускают
Эти люди не дадут подвинуться
и упасть и просто опрокинуться
а по струнке: я – не я
тоненький зазор и из туннеля
вроде, легкая неделя
тополя
пух, и полетел, смяли
мы бывали, иногда бывали
запятой
бесконечно занятой.
Костерок моего сюжета

Путем огня моя сторонка
На поле Куликовом сил
Символика восстала звонко
И меч – из ножен и могил
За мифом миф в просторах серых
Лишь солнце выглянет на час —
Святая сила армий белых
Сияй доспехами на нас
На вас, на вы – Непрядва к Дону
И устоять – не устоять
И ангелы восходят к трону
И в силе мышцы – благодать
И у Прощеного колодца
Они собрались и вокруг
Миф распустился словно солнце
И я, и ты, и он – сам-друг.
Внутри меня всего немало
и утро бьется как попало
и не хватает ерунды
живой воды
и перечеркнутый на слове
всегда во всем и наготове
уйти неведомо куда
и навсегда
я остаюсь в своей берлоге
я у экрана при дороге
в пустыне вечных новостей
но нет вестей.
Д. Авалиани
Митя крутит стертые слова
Разрывая оболочку смысла
Прочитаешь: солнце и трава.
Повернешь листок – и зверя числа.
Митя бродит возле и вокруг
Прочитаешь: Таня или Коля.
Повернешь листок и видишь: «друг»
Или «воля». Закорючек воля.
Митя сядет на воздушный шар
Потеснит горбом седое небо
И уйдет – культуро-слово-вар,
Словно вовсе не летал и не был.
Но в круженье ночи, в час живой
Митина игра над головой.
Закрылись желтые страницы
Державы титульный разор
И ветер – ястреб заграницы
До самых потаенных нор.
И отступая в день нездешний,
Продлить пытаюсь полотно:
Сюжет пути и крик потешный,
И утро синее окно.
Но в тишине давно условной
Летит прощание – прощай
И небо серостью просторной
И снег валит на слово май.
Из т. д. масс-медиа бетона
в лес – размыть знакомо грусть
головой пошатываясь клена
хоть на миг обратно повернуть
ходит он – но несть ему возможность
мягких мхов и золота в горсти
и опять стреляют сколько можно
отойди – из Фета – отпусти.
Вот – точка это. И точка опять.
Утро туманное – долго молчать.
Утро незрячее, без запятой,
бродишь по комнатам – слабый, пустой
прочий – в тумане легком своём:
прочерки, точки, и все – ни о чём.

Я помню, милая, с тобой
мы выходили в час ночной
гулять.
Мы выходили в темный сад
лет сто, наверное, назад
скучать.
Мы выходили, может быть.
Перечитай, чтоб не забыть
Фета.
Впереди лето.

Лютой плоти
взор напротив:
страсть, затиснутая в жест —
в беспокойном повороте
головы —
вдогонку чресл.
В час беспечности далекой
возле у какие сны
мы с тобою, друг широкий,
в беспокойствии луны
мы с тобою, друг просторный,
перед – что там впереди? —
говорим: рукав узорный
отмахал давно в груди
мы с тобою, друг склерозный,
после, за, давно назад
слышим весело и звездно
колокольчики звенят
декадентские напевы
бормотанье старой девы.
За – не знаю зачем и сколько —
за эпитет, за просто – ой!
улыбнулся герой – и всё тут!
полетел, исчез за горой.
На границе меня и мира
есть дела, семья и квартира,
и привычный полет в метро,
и словечко-намек: зеро.
Солнечный лед реки разбега
Детская радость первого снега
И лесопилки пронзительный гул
Я убегаю, и утонул
Лес вековой за краешком света
И костерок моего сюжета
Касание к последним вещам

Нервы едва щекочут паркета
не сквозняка
мягкая линия онкоцентра
рассвета
можно
на краешке глаза подвигать предметы
и не заметить шагов
упрямой бессонницы
явного продолженья
вчерашнего.

Из нечувствия
ибо окаменело сердце моё
и не радеет о спасении душа:
сохрани в ограде Церкви Твоей
от помышлений суетных
отврати
и —
долгое бабушек пенье
записочки
поминальные
за десять
и за пятьдесят
со-средо
точива
медо
молитва
душу питает.
Сегодня во мне совершалось движенье
похожее на вдевание
нитки в иголку
с непременным промахиванием:
не туда
и опять возвращенье
пока не
прошел в игольное ушко
и поспешил к вечерне.
Русский север олень охоты
Разбивает прозрачный лед
Я оставил свои заботы
И скрылся за поворот
Уплывают белые горы,
Слева, справа барашки волн
Я оставил земли проговоры
И направил в струю челн
Конь и пешка, и мат в два хода
Варианты игры земной
Я оставил безумье рода
И нырнул за синевой
Но за краешком неба, в сказке
Меня встретили неба маски.
И люди словно деревья
на остановке
без всякого
бого-
подобья
паденья
парус
и тот вдали —
веселый такой отшельник

Охотники на машине поколесили
пык-мык – обгоняют ребята
с корзинками или
облака – не спеша – в свой черед.
Хорошо здесь, в ельнике,
прогуливаться взад – вперед
по мхам глубоким: пОхрусты и постУки,
«с легкой печалью», заламывая руки.
Но за этим пейзажем
не возникает души пространство:
ни трудов новых, ни преодолений,
ни любви даже,
а так – постоянство
усилий на выживание:
посадил, уехал,
легкое недомогание,
слег – пепел.
Затухает традиция, определилась
жизнь и заключилась в рамки:
и не понесутся под горку санки.
«Пройтить – пойдем», —
повстречался, наверно, леший
с ружьем
и растворился в отчетливом,
фотореальном пейзаже,
и даже… чего, собственно, даже?
Чистый Понедельник
ты меня прости —
возьму веник
подмести
На кухне вымыта посуда,
и, подметая пол покуда,
я слышал как внесли сосуд:
благоухающее миро.
А небо было сиро-сиро.
Мария – слышалось – зовут.
Она у ног Его сидела,
ловила слово и глядела,
и миро в волосах ее.
Провалы быта. Бытие.
Душа готова, как Мария.
Ах, эти помыслы благие.
Но я, как Марфа. Боже мой!
Не завлеки меня гордыня.
Не упрекну. И сам отныне
не в суете, но с суетой.
«Путь, который выбрал, —
совершился», —
так сказал – и в яму провалился:
в темную, пуховую кровать.
В тупике, в заторе молишь Бога:
«Помоги!» И вот тебе – дорога,
глина, грязь, но надобно шагать
напрямки в какие-то канавы
под какой-то близкий и лукавый
смех.
Давно уже страсти промчались
мордасти:
старушка к трамваю с клюкой
от напасти
к трамваю и сумочка полная – сеть,
продукты, и пуговки, пуговки – медь
в кармане пришпиленном. Вос-
поминанья.
Заполненный шкаф. Пыль мирозданья,
трясение чашек, шорох речей.
Отверзи ми двери
связкой ключей.
Тело согбенное, но горяча
ярово воску в небе свеча.
Пере-вопля перевода
много всякого народа
пробегает в уходящем
и совсем не настоящем
бритва ровненько прошла
и осталась буква «А»
где-то за.
Просто «Я»
со знаком вопроса.
Back in the USSR

Старухи в очереди жмутся,
столовая дрожит как блюдце,
к подносу тыркает поднос.
Пролился суп, но стол достойно.
Я примостился, мне довольно —
от пота, запахов зарос.
Но лето – резвая комета,
глядит как лозунг с того света,
сопит и крутится всерьез.
Я выбираюсь своевольно
к троллейбусу и – пшел! – спокойно
по шару-шарику вразнос
лечу как блюдце, как поднос.
В берете синем у крыльца
стоит товарищ без лица
и шепчет громко: «Подлецы!»
Уснула очередь за ним.
А два могучих продавца
в ответ кивают без конца
и повторяют: «Подлецы!»
И выпускают дым.
Душистый дым от сигарет.
Товарищ – да, товарищ – нет.
«В храм намедни детей носили». —
«Скользко, поди?» – «Потихонечку
шли.
Младшего, надо давно, причастили,
с старшим водицы святой испили,
просфорку съели, к кресту подошли».
«Ох, хорошо! Лишь бы в школе
не знали».
«Знают, вот горе, позавчера
отца к начальству-то вызывали,
говорили, вишь, объясняли,
а то, мол, с работы уйти пора.
И учительница, ах, я не знаю…
детей поставила, давай ругать,
о ин-кви-зиции… не понимаю…
до трех часов ведь… Бог с ней,
какая…»
«Ну что ты, что ты, мать!
Все ничего! Господь спасёт,
Пресвятая Дева покровом покроет,
святой Пантелиимон исцеление
принесёт».
Утро плотное, утро совсем
цып-цып-цып – прибегут – им мало
каша манная
духота
наступает
и растет.
Подберу слова:
«плоть» и «смерть»
наколю дрова
на крылечке присяду
«Мда, —
сосед —
то да сё —
в коммунию
(палец вниз)
собираюсь.

И не зная ни утра ни света
беспокойства весеннего для
я в вагоне сижу без сюжета
и глазею на девушек бля.
А калека подносит открытки
всяких тварей: купине хотишь?
завяжу шнурок на ботинке
потянусь и того – поспишь.
В дружественной обстановке
я шагаю по Петровке,
где аптека, где музей,
где троллейбус-бармалей.
И с веселою толпою,
с газированной водою
всё мечтаю, всё спешу,
одиночеством дышу.
Несутся школьники по кругу
вдоль по решеток и дворцов.
Я осень – тихую подругу —
спокойность синяя цветов.
Здесь пил вино, здесь целовались,
вдоль по, вдоль за – канала за
такая жизнь, такая малость,
экскурсионные глаза.
Сейчас присяду на скамейке
и – осень, Болдино – на старт.
Но нет! Прохожий в телогрейке
стоит «подвинься» тут как тут.
Ни декабрьским ледоходом
ни волненьем tete-a-tete
в передряге дальних лет
Блоком ни иль теплоходом
греет не, томит нисколько
навевает никуда
а – отчетливые строки
петербургская судьба
не чахоточный, возможно
а закрученный, затем
не сумняшеся ничтоже
между всех и – между тем
Дачи – их много – в сосновом
за Щучьим – трасса, перегоняют
коньковым
шагом мечтающего, цепляет взгляд —
компания поддатая – к Ахматовой
лыжи громкие – по шершавому —
к даче
мимо колодца – и не иначе
картошка с селедкой, водка
(Ахметьев добавит: молодка)
возле залива, да-с, культурно,
недалеко от Санкт-Петербурга
непонятно что там дальше
и как там дальше:
семью стихами не прокормить.
Возникали чувства всякие,
выходили люди важные
и читали по бумажке,
и играла всюду музыка,
развеселая такая.
Друг за другом наблюдали —
как одеты и обуты.
Улетали в небо шарики,
громко хлопали ладоши
и, казалось, все хорошие.
Молоток неугомонно,
свежесть краски – обновленье,
новых парт столпотворенье,
теплый дождик – на сентябрь.
Я – всем новый – оживленно,
класс – от шуток, и косички —
засмотрелся. «А, отличник!» —
Колька выполз как дикарь.
Чинят стенд – пошел на помощь.
Колька сбоку снова тянет,
а Наташка и не взглянет,
что-то пишет в дневнике.

Звезда послушною кобылкой
глядела сумрачной опилкой,
труба раскинула дымы.
Вторая смена шла забором,
помято избы косогором,
и перетявкивались псы.
Шоссе носилось, притухая,
Кузьмич пыхтел возле сарая,
и на крыльце скучали мы.
Солнечко мое солнечко солное,
грибков бы тебе еще баночку,
посиди, погляжу, Машенька,
схожу в погреб принесу квашеной.
Пойдем завтра пораньше к вырубке,
там малины, чай, бабы ведрами,
и лукошко возьмем, белых-то.
Вот какая ты стала, поди узнай!
А тут ходит Кузьма, спрашивает,
я ему, стало быть, в городе.
Хорошо не забыла нас, ладно что,
попей простоквашки ещё.
Вентспилские записки

Labrīt! Labdien! Labvakar! Sveiki!
И полынья между домами
общины русской
и латышской
ее словами не закрыть
но улочки ведут безбедно
к заснеженному побережью
и точки, точки, запятые:
гуляет публика,
а море
обозначает корабли
и рай неведомой земли.
Uz redzēšanos! Sveiki!
Я полюбил мерцающие купы
искусственных дерев
на берегу бульвара
и дворника с лопатой у окна
бежит тропинка сна
в приморском парке
бесплатно – снег
и классика органа
я лютеран люблю богослуженья
хотя прохладно в церкви Николая
ментальный ветер гонит в неизвестность
вот девушка из Вентспилского замка
стрельба из лука – древнее занятье
и сердцем понимаешь: пригвоздит
Это пространство их жизни
легкое и не обязывающее
ни к чему
прикосновений
почти не бывает
только улыбка
понимаемых интересов
воспроизводство среды

Церковь белых эмигрантов
что осталось – не осталось
два штыка в живот буржую:
близко родина моя
и стоят суда у мола
ритуал воспоминанья
по-латышски ектенья
У мола лениво жует
траву воды винт сухогруза
суда пасутся
ждут своего часа
захода в Венту
скульптура «Корова матрос»
в объективе
они подойдут, заговорят
и я не пойму в чем дело
подержу ребенка
вытряхну мелочь
«Сходи в магазин», – попрошу сына
и постепенно дойдет:
здесь мертвые и живые.
Ничего страшного.
Только что это значит?
Умереть легко
в здравом уме
накануне еще причаститься.
Но я говорю не о переходе
а о новом пространстве
просто реальность
такая же, как прогулка на рынок
и суета
обыкновенная проза жизни.
Тихо суда проходят плечо задевая
зеленый маяк гонит их
к терминалу
Поля снегов, поля души
Недвижны, только заяц пляшет
И хутора глядят антеннами
На запад снов
Автобус заберет в ближайший городок
Не рынок – шопотерапия
Капуста квашеная четырех сортов
Сметана – ложку ставь, не упадет
А рыбный погребок – весь соль и
Запах.
Обратная дорога в темноте
По тоненькой кишке от остановки
По отраженью Млечного пути.
Начало поста за границей
В портовом, заснеженном городке
Толстой, старопечатной страницей
Служба тянется, свечка тает в руке.
Бабушки пух и дамы-квадратики
Мужчины-спички, углы носов
И это – род избранный, харизматики
Освобождаются от оков
Не к совершенным пришел Господь
Преобразится и наша плоть
Что такое
касание к последним вещам
без пафоса и нажима
в режиме обыденной жизни?
Или быт совсем запрещен?
И только огонь
символы его,
вроде пайки хлеба
блокадного Ленинграда?
А если просто больное горло
И все равно
ребенка в садик вести
и на работу к восьми
условный конвейер
и он же, смею думать,
корабль —
бесконечности последней навстречу.
Всегда радуюсь
когда вижу морскую даль
вчера
солнце говорило со льдинами
а сегодня
волна разбивает остатки припая
небо брызнет весенним лучом
и сомкнется
на море ветрено и свободно
оно как бы открывает
пространство в душе
и оставляет зазор
между бытием
и быванием
Тропа через дюны
к побережью
всегда пробита