Часть 1 ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ПРАВОСУДИЕ: КОНТЕКСТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ
В последней трети ХХ в. в мире стали распространяться практики разрешения конфликтов, основанные на поиске консенсуса, в противовес традиционной конфронтации сторон. Причем модели разрешения конфликтов с помощью медиации в узком смысле либо с использованием местных традиций участия общины в разрешении споров стали проникать и в официальные системы уголовной юстиции.
Такой подход к реагированию на уголовные преступления начал довольно интенсивно развиваться в разных странах мира примерно с конца 70-х гг. ХХ в. Множество разнообразных течений, концепций и практик, базирующихся на идеях согласия и примирения, в 80-е гг. было объединено термином restorative justice (восстановительное правосудие)12. Притом что подход к реагированию на преступления, в ядре которого переговоры, примирительные процедуры и компенсация причиненного ущерба, восходит к глубине тысячелетий, во второй половине ХХ столетия он получил новую жизнь, будучи противопоставленным доминирующему карательно-юридическому способу ответа на преступление.
Если активизацию социальных движений и распространение практики альтернативных форм разрешения конфликтов относят к последней трети ХХ в., то научные теории и разработки в поисках более адекватных методов реагирования на преступления – криминологические, социально-психологические, правовые, философские, религиозные – следует отнести к более раннему периоду. Иво Айртсен, который в течение десяти лет был председателем Европейского форума по восстановительному правосудию с момента его учреждения, обращает внимание, что термин restorative justice пришел на европейский континент недавно из Северной Америки, но философия альтернативного уголовного правосудия складывалась в Европе примерно с конца 60-х гг. ХХ в. И североамериканские инициативы во многом «несли на себе четкий след влияния теоретических трудов европейских ученых»13.
Но важно иметь в виду, что вопрос о «кризисе наказания» и необходимости разработки новых теорий и альтернативных практик реагирования на уголовные преступления был поставлен значительно раньше, если брать обозримый период – уже во второй половине XIX в. Сто лет назад выдающийся русский юрист С. К. Гогель писал, что репрессия – это средство борьбы с преступностью, «негодность коего вполне уже обнаружилась»14. Исправление преступника вместо возмездия, экспериментирование с условиями содержания в тюрьмах, условное осуждение, воспитательное правосудие для несовершеннолетних, реабилитационные программы для преступников – концепция восстановительного правосудия стала во второй половине ХХ в. результатам долгого пути поисков, научных гипотез, романтических надежд и разочарований. И для того, чтобы понять смысл концепции восстановительного правосудия как этапа в эволюции идей о том, как следует реагировать на преступления, обратимся для начала к предшествующим критическим теориям, приведшим к сдвижкам в практике юстиции, в доктринах и законодательстве.
Глава 1 ПАРАДИГМАЛЬНЫЕ СДВИГИ В УГОЛОВНОЙ ЮСТИЦИИ
Анализируя историю западной уголовной юстиции, Ховард Зер, один из лидеров восстановительного правосудия, связывает ее современную парадигму с двумя принципиальными процессами в ходе исторической эволюции: приданием правосудию публично-правового характера при вытеснении частного начала и все возрастающей зависимостью от тюрьмы как средства наказания15.
Вслед за Г. Дж. Берманом16 он относит смену парадигм в уголовной юстиции к средневековью: папская революция, приведшая к складыванию канонического права как образца для светского, рецепция римского права, огосударствление уголовного правосудия и последующая юридизация и догматизация привели к тому, что право отвернулось от человека. В этом же контексте, т. е. под критическим углом зрения, Зер рассматривает философию Просвещения и последствия для правосудия Великой Французской революции как мощные факторы, способствовавшие формированию карательной публичной доктрины и практики. А те изменения, которые происходят в правосудии с XIX в. и дальше под влиянием наук о человеке (медицины, психологии, социологии, криминологии), он рассматривает лишь как «заштопывание дыр», за счет которого осуществляются попытки некоторой компенсации «аномалий», не укладывающихся в доминирующую карательную парадигму17. Разного рода гуманистические альтернативы и реформы порой приводили даже к усилению карательного характера юстиции. Реформы правосудия остаются индифферентными к потребностям вовлеченных в преступление людей и к ценностям мира в обществе, поскольку неизменными оказываются базовые представления о преступлении и правосудии. Парадигма правосудия остается карательной, и это соответствует само собой разумеющимся представлениям о том, как следует реагировать на преступление. В 80-е гг. ХХ столетия накопившиеся проблемы уголовной юстиции стали обсуждаться как симптомы «смены парадигм».
Смена парадигм – это не демонтаж и замена одной системы другой, это изменение точки зрения, изменение видения предмета. Смена парадигм не происходит одномоментно, она предполагает историческое время; то, что на большой исторической дистанции может быть зафиксировано как кардинальная смена доминирующих представлений и практики (к примеру, отличие европейского правосудия Нового времени и от средневекового), складывается из множества процессов, действий и менее масштабных сдвижек. И именно такие изменения интересны для анализа с точки зрения выявления предпосылок последующих парадигмальных трансформаций. Нас будут интересовать их идейные основы, практическое воплощение и новые проблемы. Имея в виду выделение ближайших исторических предшественников восстановительного правосудия, мы сосредоточимся на сравнительно недавнем историческом периоде, когда фундамент здания современной уголовной юстиции уже был заложен, и выделим из множества происходящих в течение двух столетий изменений линию, которую назовем гуманистической. Такой экскурс представляет не только академический интерес: отсутствие представлений о ближайших предшественниках приводит сегодня порой к отождествлению концепции восстановительного правосудия с теми «человекоцентристскими» подходами, по отношению к которым она выступила в оппозиции.
1.1. Современное уголовное правосудие
Нынешний облик уголовного правосудия18 сложился под влиянием идей эпохи Просвещения и Великой Французской революции. Но предпосылки для оформления уголовного права и процедуры в их сегодняшнем виде проистекают из более общего контекста формирования права и относятся к предшествующему периоду19.
В ходе государственного строительства в средневековой Европе судебная деятельность постепенно обретала публичный характер, суд стал использоваться для укрепления королевской власти, пополнения казны, происходило перерастание обвинительного процесса в розыскной, от спора сторон к государственной репрессии.
Понятие преступления как причинения вреда пострадавшему было вытеснено другим: преступление – это неподчинение власти. На основе канонического права сформировался инквизиционный порядок процесса, который распространялся и закреплялся светскими законодательствами Западной Европы. За большинство преступлений предусматривалась смертная казнь. Процесс был ориентирован на отыскание истины, главное доказательство вины – признание обвиняемого, пытка стала основным средством добывания доказательств, действовала презумпция виновности.
Таким образом, в уголовном процессе происходило поглощение не только частного, или искового, начала публичным, но вообще всего личного, индивидуального безличным государственным законом. Права личности отрицаются в обвиняемом, он становится «предметом исследования», причем самого жестокого, во имя государственных интересов. Из процесса изгоняется понятие сторон, обвинителя заменяет безличная воля закона. Личное начало отвергается и в судьях, которые связаны теорией формальных доказательств20. Но одновременно в Англии становление уголовной юстиции проходило под значительным влиянием концепции надлежащей правовой процедуры; вообще государственное и судебное устройство Англии стало образцом для европейских мыслителей эпохи Просвещения.
В центре размышлений идеологов Просвещения были понятия Разума и Свободы. Эпоха Просвещения поставила в центр духовной и общественной жизни новые идеалы и ценности, новые правовые идеи, которые дали импульс судопроизводству, основные характеристики которого доминируют и по сей день. Она определила вектор развития уголовного правосудия и дала Европе современный уголовный процесс и уголовное право. В XVII–XVIII вв. формируется доктрина естественного права, которая определяет на несколько веков вперед такие ценности, как естественные права человека и разум.
«Вопреки своему неудачному наименованию школа естественного права видела в праве не какое-то естественное явление (как продиктованная богом природа вещей у постглоссаторов), а творение человеческого разума, признанного отныне единственной направляющей право силой. в эпоху господства философии просвещения юристы вдохновлялись идеей универсализма и стремились к созданию таких норм справедливости, которые образуют всеобщее неизменное для всех времен и народов право… Выдвижение на первый план разума как силы, творящей право, подчеркивало новую важную роль, отводимую закону, и открывало путь кодификациям»21.
Систематизацией новых ценностей для уголовного правосудия стала книга последователя Монтескье Чезаре Беккариа «О преступлениях и наказаниях» (1764)22, ставшая краеугольным камнем концепции современного уголовного права и процесса. Идеи Беккариа, которого считают символом гуманизма в правосудии и родоначальником классической школы уголовного права, выражали непримиримую моральную реакцию на жестокость и бессмыслицу средневекового уголовного суда. Законность против судейского произвола, не жестокость, а неотвратимость наказания, цель наказания не в причинении страданий преступнику, а в предупреждении преступлений, презумпция невиновности, недопустимость пыток и смертной казни, простота и ясность языка закона, доступного для понимания обычных людей, – основополагающие положения его книги легли в основу законодательства разных стран в XVIII и особенно XIX в. и по сей день остаются фундаментом парадигмы уголовного правосудия. Тюрьма и каторга, придя на смену смертной казни как доминирующего наказания, становятся средством гуманизации, позволяют реализовать принцип рационального наказания, дав возможность, как предполагалось, отмеривать сроки заключения в соответствии с тяжестью преступного деяния.
Итак, в основу современного уголовного правосудия, пришедшего на смену инквизиционному, был положен принцип законности, в котором нашли свою реализацию ценности свободы, естественного права и разума. Реформы юстиции XIX в. были направлены на то, чтобы на основе принципа законности обеспечить уважение к основным правам человека. Свобода рассматривалась как высшая ценность, в плане уголовно-процессуальной процедуры это означало ограничение и регламентацию права государства на уголовное преследование. Права человека и гражданина стали основой фундаментального принципа современного уголовного процесса – презумпции невиновности.
В это время оформляется классическая школа уголовного права. Преступления и наказания четко очерчиваются законом. Основные формулы классического уголовного права: нет наказания без закона; нет наказания без преступления; нет преступления без законного наказания. Человек рассматривается как существо разумное, наделенное свободой воли, благодаря чему он является хозяином своих поступков – и на этом постулате основывается концепция уголовной ответственности. Уголовная ответственность устанавливается только за преступное деяние, а не за намерение23.
Нельзя, однако, примитивизировать представление о развитии в праве, о смене парадигм. Отказ от феодального репрессивного аппарата не изменил существа подхода к реагированию на преступления – наказания как возмездия, но регламентировал его осуществление. И, как отмечает М. Ансель, происходит постепенная догматизация права, «преступление» и «наказание» становятся юридическими категориями, закон снова оказывается «делом юристов», не доступным профанному сознанию.
«Великие принципы политической философии и социологии, провозглашенные Монтескье и Руссо, уступают место чисто юридической доктрине. Вместо понятия гражданского общества, соответствующего гуманистическим идеям, появляется понятие правопорядка, организуемого и определяемого законом. Преступление рассматривается как абстрактное посягательство на этот правопорядок, искупаемое наказанием, которое восстанавливает нарушенный порядок»24.
Разрабатывается доктрина состава преступления и противоправного деяния; судья определяет признаки преступного деяния и применяет предусмотренные законом меры наказания, не принимая во внимание личность преступника.
Если средневековое уголовное правосудие континентальной Европы можно рассматривать в первую очередь как инструмент укрепления публичного порядка и власти суверена, то классическая школа уголовного права формирует юридическую концепцию правосудия25. Классическая школа достигла вершин уголовно-правовой науки в исследовании догмы уголовного права, в изучении уголовно-правовой нормы и других категорий уголовного права как юридических понятий; подобным же формальным юридическим понятием была «свобода воли», замещающая представление о человеке.
«Уголовное право в продолжение трех четвертей века продолжало оставаться технико-юридической доктриной, доведенной до крайности, и считалось чем-то вроде алгебры, в которой абстрактные рассуждения занимали первое место и согласно которой преступление рассматривалось прежде всего как юридическая сущность»26.
XIX век: новые тенденции
Одновременно обозначаются течения, подготавливающие пересмотр существующих доктрин и образующие неоклассическое направление уголовного права27.
Сюда относится, во-первых, индивидуализация уголовной ответственности и наказания. Доктрина свободной воли модифицируется: начинает учитываться умственная неполноценность, возрастные особенности, смягчающие вину обстоятельства. В разных странах создаются системы альтернативных наказаний. Кроме законодательной, становится возможной и судебная индивидуализация, когда за судьями и присяжными заседателями закрепляется право признавать смягчающие обстоятельства.
«Только судья, рассмотрев всесторонне дело, оценив общественное значение посягательства, выразившиеся в нем преступные свойства личности преступника, может точно определить меру следующей ему кары. Но достижимо ли и для судьи выполнение этого требования?… Не подсказывает ли нам жизненная правда, что в действительности весьма и весьма нередко служители правосудия отправляют свои обязанности с традиционной повязкой на глазах, что выбор меры наказания определяется шаблонной рутиной, а не тщательным изучением дела и человека»28.
Логика индивидуализации вывела поиски эффективного наказания за границы судебного приговора. Отсюда следует второе направление, которое включает попытки выработки разнообразных режимов отбывания наказания. Возникают разные пенитенциарные системы, европейские страны обращаются к опыту Англии и Америки. На повестку дня ставится вопрос о том, что необходимо рассматривать не преступное деяние и наказание как юридические сущности, а конкретного человека, «личность, на которую налагается наказание»29. Меняется содержание идеи наказания: от возмездия к исправлению преступника и полезности наказания. Появляются «пенитенциарии»30: новые тюремные заведения ставили своей целью создание таких условий, которые способствовали бы улучшению самой природы правонарушителей31. Реформаторы Пенсильвании, в основном квакеры, использовали, например, систему одиночного заключения: осужденные в полном одиночестве занимались работой, чтением Библии и размышлением о своей судьбе. Другая модель опробовалась в тюрьме Обурн (Нью-Йорк): заключенным не разрешали общаться друг с другом, дабы избежать опасности дурного влияния, но они в полном безмолвии работали и питались сообща, посещали церковную службу, спали по отдельности.
Возможность различных режимов отбывания наказания и цель исправления привели к сомнению относительно фундаментального положения о непоколебимости приговора. Нужно ли оставлять в тюрьме человека, если есть достаточные основания убедиться в том, что он исправился?32 И наоборот, следует ли освобождать человека, если тюремная администрация убеждена, что по выходе он совершит новое преступление? Юридическим ответом стало то, что возможность изменения срока заключения будет содержаться в самом приговоре. Так в тюремной практике и законодательстве появляется конструкция досрочного освобождения – условного либо безусловного33.
Формируется и укрепляется точка зрения, что по отношению к случайным преступникам меры наказания должны носить, скорее, превентивный, а не репрессивный характер. «Нужно препятствовать тому, чтобы какая-нибудь неудачно примененная карательная мера не толкнула их к рецидиву и не превратила в преступников привычных и неисправимых»34. В законах появляются такие меры, как домашний арест, поручительства, внушения со стороны суда, условное осуждение. Последнее стало серьезным средством смягчения наказания и постепенно приобрело широкое распространение.
Идея условного осуждения, или «погасительной отсрочки», формировалась на основе различия категорий преступников: с одной стороны, новички и случайные преступники, с другой – привычные и даже профессиональные. Первоначально внимание было обращено на несовершеннолетних – карательные меры превращали случайных преступников в привычных. Смена приоритетов с карательного подхода на воспитательный в детской юстиции дала хорошие результаты, но возникла проблема недостаточного количества исправительно-воспитательных учреждений. И появился еще один путь, менее обременительный для государственного бюджета: внушение или выговор35. Однако в подобном «судебном прощении», уместном для несовершеннолетнего, усматривались недостатки по отношению к взрослым: в глазах многих оно демонстрирует бессилие суда, но в то же время носит для виновного характер меры позорящей. Отсюда возникла более сложная форма, предусматривающая неблагоприятные последствия в случае невыполнения осужденным ряда условий, которые ему объявляются при освобождении от наказания. Такая форма стала называться условным осуждением. К концу XIX в. сложились четыре системы условного осуждения: американская – система испытания (пробации); английская – система отобрания судом подписки, как правило, с денежным залогом или денежным поручительством; франко-бельгийская – система условно-погасительной отсрочки судом исполнения определенного наказания; австро-германская – система административного условного помилования36.
Институт условного осуждения вызывал много критических замечаний, причем с противоположных позиций. Одни говорили о том, что он являет собой безнаказанность. Другие, напротив, отмечали полное пренебрежение индивидуальными характеристиками преступника, поскольку последний предстает здесь не живым человеком, а некой «средней абстрактной величиной»37. Дело в том, что основание к применению условного осуждения оставалось формальным: тяжесть преступления, а вовсе не личность конкретного преступника, – и судьи применяли эту меру, по замечанию Ферри, «механически». Последняя точка зрения, как мы увидим, принадлежит формирующейся в это время позитивистской школе, которая выстраивала концепцию преступности и ответа на преступление на основании данных наук о человеке и в центр уголовной юстиции ставила личность преступника.
В России к началу ХХ в. институт условного осуждения не получил законодательного закрепления, но активно обсуждался в литературе и имел как своих сторонников, так и противников38.
К третьему направлению отнесем становление наук о человеке и социальных наук (антропологии, статистики, социологии, медицины, в том числе психиатрии, психофизиологии, позже психологии). Эти науки оказали существенное влияние на уголовное право, которое в определенной степени было подготовлено к восприятию новых идей упомянутыми выше течениями. Новые науки поставили под сомнение чисто юридическую трактовку преступления и преступника. Как пишет М. Ансель, выход в 1876 г. книги Ломброзо «Преступный человек» стал не менее мощным фактором обновления уголовного права, чем издание на столетие раньше книги Беккариа. Это третье течение вылилось в так называемый позитивистский бунт: развитие наук о человеке привело к тому, что проблематика преступности вышла за пределы юридической области. На первый план здесь выступает не рассмотрение юридической сущности преступления, а научный интерес к преступнику. Судить следует не преступление, а преступника – вот основной тезис нарождающегося к концу XIX в. нового направления.
Позиция позитивистской школы уголовного права, в которой синтезированы концепции и данные наук о человеке XIX в., порой примитивизируется; игнорируется заданный ею принципиальный поворот в понимании задач, роли и нового устройства уголовной юстиции.
1.2. Позитивистский поворот
Позитивистский (или естественно-научный) подход, поначалу представленный сенсационной работой Ломброзо, а затем включивший в себя социологическое направление в изучении преступности и получивший свое развитие и оформление в работах Э. Ферри и Р. Гарофало, синтезирующих данные антропологии, психофизиологии, статистики и социологии, выступал в резкой оппозиции к классической и неоклассической доктринам уголовного права. Вообще, это направление включало разные теории и даже противоположные взгляды39. В обобщенном виде позитивистская концепция представлена в упомянутой выше работе Ферри «Уголовная социология»40. Опираясь на нее, рассмотрим основные положения позитивистской школы, безотносительно к борьбе конкретных точек зрения внутри самого направления.
Преступник
Выводя на первый план преступника, а не преступление, позитивистская школа рассматривала человека как природное и социальное существо, чье поведение полностью детерминировано как внутренними (психофизическими, антропологическими), так и внешними (социальными, экономическими, политическими, климатическими) факторами. Тем самым позитивистские доктрины отвергали исходный постулат классической доктрины – идею свободы воли, которая и давала обоснование праву государства наказывать преступника. Поведение индивида, сообразно научным теориям, целиком детерминировано, а потому нельзя инкриминировать ему нравственную вину за совершенное преступление. Однако общество должно защищать себя от преступлений; естественная «оборонительная реакция общества», или социальная оборона (социальная защита), и служит обоснованием уголовных санкций. Отсюда меняется концепция санкций за поведение, опасное для общества: вместо воздающей справедливости – общественная оборона.
Биологическая детерминированность преступного поведения была исходной идеей итальянского психиатра Ломброзо41. В результате анализа большого массива эмпирических данных он выявил на черепах преступников «…целый ряд атавистических ненормальностей». Он рассматривал преступников как носителей регрессивной линии биологической эволюции, как вырожденный, дегенеративный тип. У Ломброзо были предшественники, и его книга, где преступник рассматривается как особый антропологический тип, стала своего рода итоговым оформлением этого взгляда42. «Прирожденному преступнику» нельзя инкриминировать вину, поскольку он побуждается к преступлению особенностями своей биологической организации, которые проявляются в определенных признаках. Антропометрические аномалии выявляются по внешним признакам и с помощью специальных измерений. Реагирование на преступления должно носить, следовательно, не юридический, а медицинский характер.
Но статистические и социологические исследования приводили убедительные данные, что преступниками не «рождаются», а «становятся». И более поздние доктрины позитивистской школы опираются также и на социологическую концепцию причин преступности. В результате учет антропологических и социальных факторов преступного поведения привел к классификации преступников по пяти категориям, каждая из которых требует специального исправительного воздействия:
– прирожденный;
– привычный;
– психически ненормальный;
– случайный;
– преступник по страсти43.
Помимо приведенной классификации, Ферри разделял преступность на атавистическую и эволютивную. Об атавистической преступности идет речь, когда преступления совершаются лишь из эгоистических, антигуманных, противообщественных побуждений: убийство, связанное с личной местью, с изнасилованием или кражей, со стремлением завладеть наследством, «стремлением, само по себе представляющим опасность для жертвы», а также другие формы насилия или обмана (грабеж, разбой, кражи и т. д.). «Эволютивная», или политико-социальная, преступность вызвана альтруистическими и гуманитарными побуждениями, даже если они ошибочны. Сюда, по мнению Ферри, относятся «революционный политический союз, устная и печатная пропаганда, организации классовой партии, стачка, оппозиция против известных учреждений или действующих законов и т. д.»44. Из этого следует, что в борьбе с атавистической преступностью заинтересовано все общество, в то время как в борьбе с эволютивной преступностью – только господствующее меньшинство. Атавистические преступники детерминированы природно, биологически, тогда как причины преступлений вторых заложены в устройстве общества. Фактически Ферри был социалистом, в социалистических идеях он видел способ изживания преступности второго рода. По мере переустройства общества нужда в уголовном правосудии будет уменьшаться.
Бороться с преступностью нужно, не только наказывая преступников, но предупреждая преступность, улучшая социальные условия жизни. «Группа этих мер весьма обширна и разнообразна и предполагает во многом реформу социальной жизни. Предполагается, между прочим, запретить ношение оружия, обложить высокой пошлиной спиртные напитки, сократить число праздников, ярмарок и других сборищ, устранить вредные для хозяйственной жизни народа экономические условия и т. п.»45.
Критика правосудия
В конце XIX в. стало очевидным, что карательная политика, основанная на постулатах классической и неоклассической школы, оказалась бессильной против преступности: рост преступности, рост числа осужденных, рост рецидивов, формирование криминальных сообществ в тюрьмах. Критикуя уголовное правосудие, Ферри выделял такие его пороки, как безличность, произвол, дезорганизацию и бессилие46.
Под безличностью подразумевалось игнорирование личности преступника.
«Подсудимый является просто живым манекеном, на которого судья наклеивает номер определенной статьи уголовного уложения, заботясь притом только о дозировке наказания, долженствующего быть пропорциональным нравственной вине обвиняемого. Во время приведения приговора в исполнение и отбывания наказания преступник остается таким же занумерованным автоматом, олицетворяя собой нелепый и пагубный контраст личности, которая живет, дышит и чувствует, а между тем затеряна и погружена в анонимную толпу какого-нибудь тюремного учреждения… [Он] (скорее, как тень, чем как живое существо) промелькнул перед волшебным фонарем так называемого уголовного правосудия»47.
Под произволом Ферри подразумевает новый формализм, в который выродились процессуальные гарантии. К примеру, мотивировочная часть приговора стала довольно стереотипной аргументацией, главный мотив преступления обычно остается не исследованным и не отраженным в приговоре, а потому и принимаемые судебные меры оказываются неэффективными. Отсюда следовал вывод о необходимости применения в уголовном правосудии научной диагностики, основанной на изучении биосоциальной личности преступника, и «позитивной терапевтики», которая могла бы приспособить его к социальной жизни48.
Дезорганизация означает разобщенность всех стадий уголовного процесса и исполнения наказания и субъектов (полиции, следствия, суда, полицейского надзора по выходу из тюрьмы), которые «передают» подсудимого и осужденного по конвейеру, не интересуясь результатом своей деятельности.
В силу того что юстиция не выполняет своего назначения, она оказывается бессильной в деле защиты общества от преступлений. «Поворот к человеку» в позитивистском смысле вовсе не был реакцией на жестокость наказаний, как у Беккариа; он был реакцией на их неадекватность. Если исходить из нравственной ответственности и руководствоваться юридическими критериями, в первую очередь критерием вменяемости (ибо только такие индивиды могут быть нравственно ответственными), то наиболее опасные для общества лица, осуществляющие атавистические формы преступной деятельности, оказываются невменяемыми и не подлежат наказанию, в то время как меч юстиции с несправедливой суровостью направляется против эволютивной преступности (против классовых интересов) и «против почти безвредной армии мелких преступников»49. Отсюда проистекает, что подлинные преступники уходят от ответственности, а общество остается незащищенным. Пришла пора, продолжает Ферри, установить равновесие между правами личности и общества. Он отнюдь не ратовал за ужесточение наказаний. Основная мысль состояла в том, что суд должен реагировать на каждое преступление, но не карательными мерами, а «мерами социальной обороны», которые должны быть адекватны антропологической категории виновного, и там, где это соответствует антропологической категории, способствовать возвращению лиц, совершивших преступления, в общество. Сосредоточенность на антропологической категории и пренебрежение правовыми критериями приводило естественным образом к выводу, что для преступников врожденных рекомендуется применять тяжкие и пожизненные виды лишения свободы, даже и за неважные деяния. Мягкость приговоров, осторожность судей в назначении наказания Ферри считает следствием неправильного определения целей уголовного правосудия и содержания понятия ответственности за преступное деяние. Обратим внимание на эту риторику: именно ее используют обычно новаторы, критикуя старое право и предлагая реформы. Но за подобными формулировками могут скрываться самые разные идеи.
Меры
Исходя из положений о детерминизме поведения, устраняющих идею личной вины и ответственности, позитивисты выводили, что суд должен заниматься прежде всего научным исследованием обвиняемого, «выяснением степени опасности, представляемой преступником для социального строя жизни. Отсюда необходимость новых отправных точек зрения для установки положений как уголовно-материального, так и уголовно-процессуального права»50. «Наказание» – старое, негодное выражение, необходимы оборонительные (по отношению к обществу) меры. Правосудие следует рассматривать как клинику для предохранения от преступности.
Исследование доказательств, несомненно, является необходимой фазой уголовного процесса, но «отдельное преступление является только симптомом, который следует исследовать вместе с другими индивидуальными и социальными симптомами для того, чтобы поставить правильно диагноз и подвергнуть правильному лечению каждого преступника»51.
Какие же меры имеет в виду позитивистская школа? Ферри предлагает два вида оборонительных мер52.
1. Возмещение убытков – в отношении менее тяжких преступлений, совершенных малоопасными преступниками, обладающими способностью приспособления к общественной жизни.
2. Устранение из общества на неопределенное время – в отношении опасных преступников, менее приспособленных к общественной жизни. Исполнение приговоров не изолировано от самих приговоров, оно потребует периодического вмешательства судьи для совместного с другими должностными лицами решения вопроса, наступил ли момент окончания изоляции данного преступника, т. е. момент, указывающий, что он снова приспособлен к гражданской жизни. Такие решения судьи получили название неопределенных приговоров.
Ферри был противником телесных наказаний и смертной казни, хотя некоторые из тех, кто принадлежал к позитивистскому направлению, смертную казнь вполне допускали. Устранение из общества атавистических преступников означает, по Ферри, клиническую изоляцию, где режим обеспечивается исключительно медицинскими соображениями и не должен причинять страданий. Ферри вполне допускал и условное осуждение, но только если виновным возмещены убытки потерпевшему.
Возмещение убытков
Позитивисты привлекли внимание не только к преступнику, но и к потерпевшему. Пренебрежение нуждами потерпевших, писал Ферри, доказывает односторонность индивидуализма классической школы, озабоченного только преступником, которого под влиянием воспоминаний о варварстве средневековья принято считать жертвой государства53. Возмещение убытков потерпевшему оставалось делом частным, делом гражданского процесса, тогда как позитивистская школа настаивала на публичном характере этого принципа. Возмещение убытков Ферри рассматривает как основную санкцию для большого числа преступников, причем значительно более действенную, нежели краткосрочное или условное лишение свободы.
В связи с принципом возмещения убытков как главной санкции для случайных преступников одно из предложений позитивистов заключалось в декриминализации деяний, причиняющих незначительный ущерб и совершаемых случайными преступниками или по неосторожности и неосмотрительности людьми нравственно нормальными, которых Ломброзо назвал бы «псевдопреступниками». Такие деяния следовало бы отнести к простым гражданским преступлениям или квазиделиктам, дабы подвергнуть виновных строгому и неукоснительному взысканию для возмещения убытков, а не смехотворным наказаниям в виде заключения на несколько дней.
Выдвижение в центр внимания возмещения ущерба потерпевшему представляет для нас большой интерес. Здесь можно увидеть один из источников движения, которое в конце ХХ в. оформилось как восстановительное правосудие. Если Х. Зер видел исторических предшественников в первую очередь в древности – в библейском и общинном правосудии, нам не менее интересны и более поздние идеи и реализационные формы некарательного правосудия, которые появились в Новое время. Позитивистская школа обратила внимание на то, что уголовное правосудие игнорирует жертву. «Поворот к человеку», следовательно, обращен не только к преступнику, но и к потерпевшему. Общественный (публичный) интерес Ферри видит именно в защите граждан, в компенсации вреда, причиненного потерпевшему, а не в удовлетворении нужд государственного аппарата. И хотя природа преступного деяния, по Ферри, в его опасности для общества, конкретное преступление рассматривается им в первую очередь как вред, нанесенный конкретному человеку (именно такого понятия преступления придерживается концепция восстановительного правосудия). И интересы потерпевшего рассматриваются не в карательной парадигме, не с точки зрения морального удовлетворения жертвы от наказания преступника, а именно с точки зрения возмещения ущерба как обязательства лица, совершившего преступление.
Неопределенные приговоры
Идея принятия мер, адекватных личности преступника, вывела позитивистов к необходимости неопределенных приговоров. Отрицая принцип нравственной вины и свободы воли, позитивисты видели задачу изоляции преступника не в причинении страдания, а в способе оказать на него (где это возможно) воздействия, которые позволят ему адаптироваться в обществе. Это уже другой принцип, нежели соразмерность наказания преступлению, поскольку в противовес идее возмездия за прошлое деяние такая мера ориентирована на будущее. Логическим продолжением института условно-досрочного освобождения стала и обратная идея: коль скоро тюремной администрации дается право сокращать срок отбывания наказания, почему бы не предоставить ей право удлинять срок? Решение об освобождении или продлении срока должно приниматься не тюремной администрацией, а специальной комиссией в составе экспертов антропологов-криминалистов, судьи, прокурора, защитника и членов администрации. «Эта комиссия творила бы действительно человеколюбивое и полезное дело – полезное как для общества, которое таким образом было бы ограждено от освобождения опасных преступников в день истечения срока наказания, так и осужденного, который был бы избавлен от полного отбывания наказания, когда на деле оказалось бы, что оно по отношению к нему слишком сурово»54.
Неопределенные приговоры появились в Америке. В Европе такая мера активно обсуждалась на международных конгрессах55, но не нашла применения при осуждении взрослых. Однако неопределенные сроки стали использоваться для несовершеннолетних, которые помещались в исправительные приюты. Подобная мера в отношении несовершеннолетних считалась не наказанием, а исправительно-воспитательной мерой, по отношению к которой не действовали такие уголовно-процессуальные гарантии как при наказании. Здесь действовал принцип исправления, и срок устанавливался администрацией воспитательного учреждения, которая имела возможность наблюдать за ходом этого процесса и определять момент, когда результат (исправление) достигнут. Поскольку мера касалась несовершеннолетних, предельный срок пребывания в воспитательном учреждении определялся возрастом окончания несовершеннолетия. Идея исправления путем помещения в воспитательные учреждения знаменует собой формирование новой парадигмы ответа на преступления – реабилитационной.
Каким должен быть уголовный судья
Этот вопрос с необходимостью вытекает из нового назначения уголовной юстиции. Если фокусировка на преступнике, а не на преступлении стала исходным пунктом позитивистского подхода, то в каком-то смысле его итогом стало представление об уголовном судье. Выдвигаются два основных условия судейской деятельности – научная подготовка и независимость. И если независимость была и остается неотъемлемым качеством суда и правосудия, которое в XIX в. тем более утвердилось в связи с концепцией разделения властей и практическим отделением суда от администрации, то научная подготовка судьи с позиции позитивистской школы должна претерпеть радикальные изменения. Вводилось принципиальное отличие профессионализма судей по уголовным и гражданским делам, оно касалось не просто понятийных аппаратов гражданского и уголовного права и процесса, а типов мышления.
Традиционный юридический взгляд на судью, для которого тяжущиеся стороны «не суть определенные лица, а абстрактные типы, маски: истец и ответчик; он видит лишь маску, а не индивид, скрывающийся под нею. Абстракция от всякой конкретной обстановки, возведение конкретного случая на высоту положения, абстрактно создаваемого законом, исследование дела тем способом, которым разрешается всякая числовая задача, при котором безразлично именование числа лотом или фунтом, талером или грошем, – вот отличительные свойства истинного судьи»56, оспаривается позитивизмом: не в форме юридической абстракции, а на основе научной классификации преступников должно быть организовано судейское восприятие в уголовном суде. В этом поворот от юридического формализма к человеку (так, как понимали человека в рамках естественно-научной парадигмы) – уйти от абстрактного подсудимого и исследовать его как объект науки.
Для обоснования своего подхода Ферри цитирует Гарофало (Гарофало – создатель криминологии – сам был судьей), и мы последуем его примеру.
«Наука о преступлениях и наказаниях, как показал Ферри, должна выйти из сферы чисто юридических наук и стать наукой социологической. Вот великое преобразование, начало которого положено нашей школой. Ясно, что когда речь пойдет о конкретных случаях, новый кодекс, основанный главным образом на психологии, антропологии и уголовной статистике, сможет служить лишь руководством, т. е. сможет своими формулами дать лишь некоторые указания. Исследование же каждого отдельного патологического случая, отыскание его настоящей природы и точное его определение – будет предоставлено научному умению судьи».
«Отсюда и возникает необходимость организации судебного ведомства из лиц, обладающих широкими знаниями не в области римского права, а в области статистики, уголовной антропологии и тюрьмоведения. Юстиниановские учреждения и пандекты могут дать этим лицам лишь известную классическую эрудицию. Они станут, однако, второстепенными предметами, быть может, даже излишними».
«…Вся эта наука, необходимая для правильного суждения в вопросах гражданского права, представляется большей частью бесполезной в той совершенно различной сфере, которая носит название уголовного права»57.
Роль позитивистской школы в развитии уголовной юстиции
Поворот к человеку открыл дорогу будущим медико-психиатрическим, психологическим и реабилитационным практикам, взаимодействующим с уголовным процессом.
Позитивистской школой выдвигается общий тезис о необходимости установления равновесия между индивидуальными правами (обвиняемого) и гарантиями безопасности для общества. Эта дилемма и сегодня не потеряла своей актуальности. Позитивисты дали свой ответ. Право социума применять определенные меры к преступнику обусловлено необходимостью самозащиты общества, а не возмездия. Отсюда соответствующие меры должны иметь целью не причинение страдания, а по возможности «излечение». Человек здесь – объект, который подвергается процедурам научного исследования – измерениям и трактовке получаемых результатов, но личностно – как субъект – отсутствует в этих процедурах. Больше того, научная детерминистическая картина мира и энтузиазм относительно возможности познания преступника приводил позитивистские концепции к пренебрежению правовыми критериями, и в этом смысле – к пренебрежению правами человека, включение которых в юридические доктрины было важнейшим гуманистическим завоеванием права Нового времени. Ответ, данный позитивистами, способ понимания человека оказались ущербными, однако совершенный ими поворот открыл наукам о человеке ворота в юстицию.
Прикладной характер исследований привел к складыванию практических форм использования научного знания в практике судопроизводства: судебно-психиатрическая экспертиза для решения вопроса о вменяемости; судебно-психологическая58, устанавливающая особенности душевной жизни обвиняемого, его индивидуальную историю, способность сопротивляться действию «преступных мотивов». Стали исследоваться социальные факторы, способствовавшие совершению преступления, «людьми всегда судится целый человек, а не таксируется отдельное, вырванное из его жизни, деяние»59. Нашли свое место идеи уменьшенной вменяемости, предлагалось введение обязательного проведения медико-психологического исследования обвиняемых, по крайней мере, тех, кому грозит наказание в виде тюремного заключения60. Развитие уголовного права и процесса проходит по линии все большей психологизации. К концу XIX в. оформляется криминология – комплексная наука о преступности и ее причинах.
Вокруг позиции уголовного судьи складывается инфраструктура специалистов. В первую очередь такое положение характерно для ювенальной юстиции: классическая парадигма ювенальной юстиции рассматривает преступление лишь как симптом трудной жизненной ситуации ребенка, и решения судьи ориентированы на его благополучие. В своих решениях ювенальный судья опирается на информацию о личности и социальной ситуации ребенка, полученную им от других специалистов. И профессионализм ювенального судьи не ограничивается лишь юридическими познаниями, а обогащается психологическими и педагогическими знаниями. Относительно взрослых обвиняемых – в разных странах в большей или меньшей степени – используются специалисты как для нужд определения субъективной стороны как элемента состава преступления (эксперты), так и для определения адекватных санкций (специалисты по социальной работе, психологи-консультанты, воспитатели, офицеры службы пробации, медиаторы, разного рода волонтеры и пр.). Эти профессиональные и общественные позиции во взаимодействии с судьями, полицией и пенитенциарными учреждениями составляют тело современной развитой уголовной юстиции.
Позитивистское движение не было однородным и включало разные концепции, объединенные критикой уголовного права, необходимостью защиты общества от преступлений и фокусировкой в способах реагирования на преступные деяния не на преступлении, а на преступнике, необходимостью научного подхода в реагировании на преступления. Рамки оказались настолько широкими, что в них уживались прямо противоположные ценностные позиции, концепции и проекты реформ. Движение ученых XIX в. за смену парадигмы уголовной юстиции дало мощные ростки как в плане развития гуманистических идей и практик в уголовном правосудии (эта линия продолжилась в движении новой социальной защиты), так и в противоположном направлении, приведшем к усилению репрессии и пренебрежению правами человека.
1.3. «Социальная защита»
Первый этап движения социальной защиты
Позитивистская концепция создала условия для рождения новых теорий, объединенных названием «социальная защита». В книге Марка Анселя, французского юриста и общественного деятеля международного уровня, проповедующего гуманистическое направление в уголовной политике и одного из основателей движения «новая социальная защита», детально показана история идей концепции социальной защиты, берущей начало в позитивизме61. Направленность этого общего течения состояла в разработке уголовной политики, под которой понимается рациональная организация социальной борьбы с преступностью.
В 1889 г. был основан Международный союз криминалистов (основатели союза – Лист, Ван-Гамель и Принс), в недрах которого продолжали развиваться позитивистские идеи и разрабатывалась доктрина социальной защиты. Союз старался привлечь как можно больше сторонников, так что его уставы периодически пересматривались. Первую самостоятельную теорию социальной защиты сформулировал Адольф Принс в 1910 г. в книге «Социальная защита и трансформация уголовного права», идеи которой во многом развивали положения, упомянутые нами при разборе работы Ферри «Уголовная социология». Основная мишень критики – уголовное право, догматизировавшее понятия преступления и наказания, рассматривавшее преступление не как живой человеческий поступок, сигнализирующий о некой проблеме, а как абстрактную юридическую сущность. Однако движение отмежевалось от позитивистских положений, которые, хотя и использовали понятие «социальная защита», не предложили, по мнению членов Союза, действенной уголовной политики.
Одно из основных понятий, разрабатываемых доктриной социальной защиты, – понятие опасного состояния личности. Опасное состояние рассматривается с точки зрения защиты интересов государства и общества, а не самого индивида. Ответом на опасное состояние должна быть и соответствующая мера, которую следует применять не за конкретное деяние, а в силу одной лишь предполагаемой потенциальной угрозы, исходящей от данного лица. Мера социальной защиты может состоять, например, в продлении срока лишения свободы, если это необходимо для обеспечения безопасности общества. Таким образом, оппозицией возмездному характеру санкций становится система охраны общества: для обеспечения эффективности охрана должна продолжаться до тех пор, пока существует само опасное состояние.
Первый этап формирования доктрин «социальной защиты» был связан, прежде всего, с определением мер в отношении к умственно отсталым преступникам и опасным рецидивистам. Законодательства разных стран в период до Второй мировой войны испытали на себе воздействие этого направления. В тот же период интенсивно развивается движение за уголовную профилактику. С одной стороны, оно восприняло от позитивистов такие идеи, как необходимость мер безопасности, классификация преступников и необходимость учреждения психиатрических отделений в тюрьмах. Но, кроме того, этим движением выдвинуты идеи воспитательного надзора и предупреждения преступлений на основе более полного изучения личности.
Идеи профилактики в период между двумя мировыми войнами, как показывает М. Ансель, не получили широкого признания, законодательства возвращались к возмездному принципу, а идеи мер безопасности стали использоваться фактически для усиления репрессии. «Меры безопасности», или меры социальной защиты, перед Второй мировой войной нашли применение при тоталитарных режимах в Италии, Германии (где, к примеру, Законом от 14 июля 1933 г. под предлогом улучшения расы была введена обязательная стерилизация для некоторых лиц). Концепция мер безопасности использовалась и при создании первых послереволюционных российских Уголовных кодексов (1922 г. и 1926 г.). Концепция социальной защиты как нельзя более подходила к политической ситуации нового государства и, в частности, советской уголовной политике, приоритетом которой была защита государства от преступлений и от общественно опасных элементов (ст. 5, 7 УК РСФСР 1922 г.). Преступлением признавалось «всякое общественно опасное действие или бездействие, угрожающее основам советского строя и правопорядку» (ст. 6 УК РСФСР 1922 г.). Все наказания вплоть до смертной казни стали именоваться в Уголовных кодексах РСФСР (1922 г. и 1926 г.) «мерами социальной защиты».
Однако, по мнению Анселя, применяемые тоталитарными режимами «меры безопасности» имели весьма поверхностное сходство с концепциями социальной защиты, поскольку усиление карательных мер и пренебрежение к индивиду противоречили самой идеологии социальной защиты.
Два течения в движении «социальная защита»
Второй этап развития доктрины начался после Второй мировой войны. В 1945 г. «социальная защита» утверждается как независимое идейное движение, которое ставит задачу пересмотра в рамках концепции эффективной уголовной политики всей уголовно-правовой системы, включая институт ответственности, режим санкций, правил судопроизводства и разработки рациональных методов исправительного воздействия на преступников62. В 1948 г. при Главном Секретариате ООН учреждена секция социальной защиты, которая проводила уголовную политику предупреждения преступлений и исправительного воздействия на преступников. Она организовывала международные и региональные конгрессы, исследовательские циклы, способствовала организации сотрудничества международных ассоциаций по изучению преступности.
Социальная защита, как и предыдущие движения, направленные на обновление уголовной юстиции, начиная с критики официального правосудия и своих предшественников, представляла собой разные течения, объединенные некоторыми общими идеалами и критическим отношением к реалиям и догмам уголовной юстиции. В послевоенный период формируются два основных направления: радикальное (Ф. Граматика, организатор первых международных общественных объединений по социальной защите) и «новая социальная защита», лидером которого стал М. Ансель.
Демаркационная линия между течениями прошла по вопросу об отношении к уголовному праву. Граматика выступал за отмену уголовного права и замену его социальной защитой, в то время как «новая социальная защита» стояла на позиции развития уголовного права за счет включения в него своих идей. Позиция радикального крыла состояла в том, что традиционное уголовное право, построенное на возмездии и предусматривающее наказание, должно уступить место «общественной защите» – «ресоциализация против наказания». В качестве цели Граматика предлагал не столько обеспечение охраны общества (как у позитивистов), сколько его улучшение, которое может быть достигнуто за счет социализации личности; конечной целью социальной защиты должно быть не наказание индивида, а его приспособление к социальному порядку. Соответственно принимаемые меры – меры ресоциализации – имеют предупредительный или лечебный характер и изымаются из традиционной системы уголовного процесса. Основное понятие, которым оперирует концепция Граматики, – «субъективная антисоциальность»; понятиям «преступление», «уголовная ответственность», «наказание» нет места в его системе. Критика этой позиции со стороны «умеренных» («новой социальной защиты») состояла в том, что социальная защита должна не разрушать, а совершенствовать уголовное право; вмешательство государства с целью ресоциализации должно находиться в правовых рамках.
Основополагающие положения уголовной политики «новой социальной защиты»
При общем критическом подходе к классическому и неоклассическому уголовному праву Ансель подчеркивает отличие идей «новой социальной защиты» от теорий позитивизма. Доктрина «новой социальной защиты» отвергает позитивистский детерминизм. В каком-то смысле «новую социальную защиту» не столько интересует философский вопрос о наличии свободы воли, сколько система рациональной социальной организации борьбы с преступностью. Придавая большое значение данным науки, новая социальная защита выходит за границы чисто научного подхода и предлагает строить эффективную уголовную политику как искусство управления, основываясь на сознательно поставленных целях, выражающих и отражающих социальную мораль. Опору такая политика находит в «признании, использовании и развитии того врожденного чувства ответственности, которым неизбежно обладает каждый человек, в том числе и преступник»63. Это положение является ценностью и аксиомой «новой социальной защиты».
«Социальная защита» сохраняет идею классификации преступников, однако опасается заранее разделять людей на категории. Задача состоит не столько в том, чтобы поместить лицо, совершившее преступление, в заранее приготовленную схему, сколько в том, чтобы изучить и объяснить причины, по которым определенный человек при наличии тех или иных обстоятельств, той или иной прошлой жизни, той или иной биологической конституции совершил определенное деяние64. Одновременно объяснение преступного деяния не сводится к истории жизни, биологической конституции или влиянию социального окружения индивида, и предлагается использовать понятие «динамика преступления» – связь индивидуальных предпосылок и ситуации совершения преступления, поскольку многочисленные исследования показывают, что одинаковые характеристики могут быть как у преступника, так и непреступника. «Новая социальная защита» выступает как против догматизма неоклассической школы уголовного права, так и против идеи медико-социального предупреждения преступности при отстранении от этого юристов. Основную задачу реагирования на преступные деяния новая социальная защита видит в ресоциализации преступника (этот термин используется и радикальным крылом, и новой социальной защитой): исправительном воздействии, основанном на изучении уголовного деяния и личности преступника.
«Социальная защита» в рамках предупреждения преступлений признавала понятие опасного состояния и применения (строго в рамках закона) мер безопасности (предупреждения) для предделиктных состояний (по отношению к бродягам, нищим, проституткам, алкоголикам, наркоманам)65, но они должны осуществляться строго в рамках законности.
Учет и систематическое изучение при помощи научных методов личности преступника новая социальная защита рассматривает как главную особенность своего подхода, отмежевываясь при этом от позитивистской школы, от биологизма Ломброзо и социологизма Ферри. В человеке, помимо биопсихического и социального существа, она видит не только объект научного исследования, но также и субъекта моральной ответственности и субъекта права.
В духе прав человека новая социальная защита утверждает право на ресоциализацию – государство должно обеспечить это право. Такая позиция ведет к пересмотру всех уголовных санкций и определению места некарательных мер66. Это означает, что изучение личности преступника должно стать составной частью уголовного процесса. Задача судьи состоит не в «дозировке» наказания, а в вынесении мер, наиболее адекватных для исправления конкретного подсудимого. Меры безопасности, принимаемые судьей, должны быть адекватны характеру опасности личности преступника. Отсюда необходимость законодательного определения опасного состояния и обязательного в определенных случаях проведения экспертизы в целях изучения личности преступника.
Включение научного изучения личности преступника в уголовный процесс влечет необходимость установления правового статуса досудебного изучения личности обвиняемого. В ряде европейских законов предусмотрено медико-психологическое и социальное обследование, которое оформляется в виде личного досье обвиняемого. В англосаксонской системе процесс разделен на две стадии: установление виновности и вынесение приговора. На второй стадии, если лицо признано виновным, производится исследование личности подсудимого. Все это означает, что состязательность в уголовном процессе нужна на стадии определения виновности, а дальше необходима научная стадия, позволяющая на основе исследования личности виновного определить меры, наиболее подходящие для его ресоциализации (подобного же разделения придерживался Ферри). Понимание судебных санкций как исправительных мер приводит к принципиальному изменению деятельности пенитенциарных учреждений. И постепенно во многих странах пенитенциарная деятельность освобождается от пассивного исполнения установленного законом наказания и занимается последовательной подготовкой осужденного к возвращению на свободу.
Понятие ответственности и цели ресоциализации
На основе анализа разных представлений о содержании понятия и основаниях уголовной ответственности (объективное вменение; свобода воли и моральная ответственность; умысел и неосторожность; разделение умысла и мотива; социальная ответственность за вред, причиненный обществу; невменяемость – вменяемость – уменьшенная вменяемость) Ансель выдвигает то понятие ответственности, на котором настаивает «новая социальная защита»: это осознание индивидом своей личности, поскольку она выражается в его поступке. Реакция на преступление должна соответствовать «психической реальности» индивида, которая состоит «в глубоком и естественном чувстве личной ответственности», присущем каждому человеческому существу67. С этой точки зрения нельзя человека отделять от его поступка. Преступное деяние остается для социальной защиты преступлением, но, в отличие от классического и неоклассического подходов, оно исследуется не в отрыве от исполнителя, а как социальное отражение его личности. Ответственность становится движущей силой процесса ресоциализации, исправительное воздействие должно обеспечить восприимчивость преступника к осознанию своей ответственности за совершенное преступление. Новая социальная защита определяет себя как «науку о воспитании ответственности»68. Мера, применяемая к преступнику, «является прежде всего воспитанием чувства ответственности, или, иными словами, терапией свободы; оно стремится превратить это врожденное или естественное – но у многих преступников неясно выраженное и неразвитое – чувство не только в чувство свободы, но в чувство осознанной свободы, принимаемой с ее неизбежными ограничениями»69.
«Новой социальной защитой» формулируются следующие направления уголовной политики.
1. Изменение пенитенциарных систем, которые должны преследовать цель перевоспитания, исправительного воздействия на преступников, возвращения преступников в общество.
2. Изменение содержания уголовной санкции. Наказание как причинение страданий имеет смысл лишь в парадигме возмездия. Причиняя зло, нельзя сделать человека лучше. Функция ресоциализации должна быть главной в наказании, а не побочной и второстепенной.
3. Предупреждение преступности.
Особое значение придавалось исследованиям тюремного заключения. Действительно ли оно является панацеей? Тюрьма, скорее, развращает человека, погружая его в специфическую субкультуру зла. Исходя из принципа реализма, «новая социальная защита» не отвергает тюремного заключения для определенных случаев, но считает необходимым и систему мер исправления, не связанных с лишением свободы.
В моральных ценностях и идейных традициях «новая социальная защита» опирается на два основания. Во-первых, утверждение прав человека, гарантирующих свободное развитие личности. Новое выражение прав человека в сравнении с провозглашенными Французской революцией состоит в том, что индивид имеет право на ресоциализацию, подобно тому, как прежде провозглашали, что он имеет право на свободу, безопасность, собственность, труд. И, во-вторых, связь с христианской традицией милосердия и искупления.
Роль «новой социальной защиты» Ансель видит в подталкивании внутренних глубоких трансформаций самой уголовной юстиции. Значение доктрин «социальной защиты» в том, подчеркивает Ансель, чтобы помочь юристам осознать ее эволюцию. Привычная реакция юриста – относиться к любому нововведению с недоверием, «поскольку оно нарушает гармонию существующей системы, которая оправдывается одним лишь фактом своего существования»70. Уголовная политика социальной защиты видит свою миссию не в разрушении уголовного права, а в постановке проблем и включении своих положений в новые законы: процессуальные нормы, устанавливающие обязанность исследования личности обвиняемого, взаимодействие суда с социальными, медицинскими и психологическими службами; альтернативные наказания; новые пенитенциарные режимы.
И все это постепенно входит в законодательство и практику уголовной юстиции. В поддержку этих направлений реформ активно выступили международные организации и Организация Объединенных Наций.
1.4. Научная реабилитация
«Новая социальная защита» как доктрина осмысляет, сопровождает и стимулирует эволюцию «недавно еще чисто репрессивной системы» уголовного права. Однако реальные изменения, продиктованные идеями гуманизма и социальной защиты, повлекли за собой очередной груз проблем, касающихся как пенитенциарной системы, так и альтернативных мер.
«Новая пенология» ХХ в. возродила идеи XIX столетия о перевоспитании заключенных. Центральный момент нового подхода к заключенным стал формулироваться как «индивидуализация обращения», преследующая цель коррекции поведения, установок, ценностей – в общем, социально-психологической реабилитации. Для этого недостаточно морального наставления, а необходимо научное изучение преступника и выявление набора факторов, приведших его к преступлению. Реабилитацией стали заниматься психиатры, психологи и социальные работники71. Воздействие на преступников рассматривается как своего рода «лечение», недаром эту модель еще называют «медицинской»72. Формы психологической терапии шире лечения в медицинском смысле. Они не только устраняют симптомы, но и нацелены на личностный рост и формирование у индивида навыков совладания с проблемами.
Единого понятия реабилитации преступников не существует. В медицине под реабилитацией понимается восстановление или компенсация нарушенных функций в целях облегчения социальной реинтеграции. Реабилитация преступников рассматривается схожим образом с тем уточнением, что реинтеграция включает воздержание от совершения преступлений. Тем самым важнейшей целью реабилитации стало предотвращение рецидива. Развитие реабилитационного подхода идет вместе с развитием психотерапии как таковой. Сегодня в мире насчитывается множество реабилитационных программ, связанных с теми или иными психотерапевтическими направлениями и школами. Реабилитационные программы используются в пенитенциарных и лечебных учреждениях, а также при применении санкций, альтернативных лишению свободы.
В 1974 г. был опубликован обзор73, где проанализировано 231 исследование и показано, что реабилитационные программы, о которых упоминается в литературе, по большей части не оказывают существенного влияния на рецидив74. Опубликованная точка зрения вошла в криминологическую литературу под термином «ничто не работает». Сторонники ужесточения наказания видели в реабилитационном подходе чрезмерную мягкость.
Но практика реабилитации критиковалась еще и с прямо противоположных позиций: реабилитация оказалась еще более сильным инструментом контроля, заключенные попадали в зависимость от начальника тюрьмы, персонала, комитетов по досрочному освобождению, поскольку условия освобождения связывались с оценкой прохождения реабилитационных программ.
В соответствии с политикой ресоциализации к преступникам, нуждающимся в лечении (алкоголикам, наркоманам, психопатам и т. п.), применялись «некарательные меры». Такие люди оказывались фактически лишенными свободы на неопределенный срок, их освобождение зависело от «выздоровления». Как пишет Нильс Кристи, центры по некарательному воздействию «по существу не были лечебницами. Они очень напоминали обыкновенные тюрьмы, штат этих учреждений – тюремную охрану, а предполагаемые пациенты – прежних тюремных сидельцев, но с еще более негативным отношением к тому, что с ними случилось, чем у обычных заключенных. Некарательное воздействие без заранее ограниченных сроков явно переживалось значительно более болезненно, чем старомодное намеренное причинение боли»75. Концепция некарательного воздействия снимала вопросы ценностного характера, поскольку ставила благородную цель улучшить состояние клиента76. Вопрос же о содержании понятия «опасности» лица не получил внятного ответа.
Резюмируя рассмотрение гуманистической линии эволюции уголовного правосудия, мы можем зафиксировать два вывода. Первый, возможно, парадоксальный: включение знаний о человеке в тело юстиции не означает автоматически ее гуманизации. Иными словами, «человекоцентризм вместо права» приводит к умалению человеческого достоинства и произволу. Второй вывод состоит в том, что право включает механизм самопроблематизации и ассимиляции нового содержания. В контексте нашей темы это значит, что рамки уголовно-правового подхода в принципе могут быть раздвинуты, и открывается возможность правового использования идей и практик, снижающих репрессивный характер ответа на преступление.
Крушение в 70-е гг. ХХ в. надежд на реабилитационный подход, гуманизм и эффективность некарательного воздействия не означает, однако, что цели, поставленные «новой социальной защитой», следует признать неверными. Продолжают разрабатываться и применяться исправительные и психотерапевтические программы, многие из которых достигают значительного эффекта. Профилактика преступлений и ресоциализация лиц, совершивших преступления, остаются самыми актуальными задачами. Однако эти цели формулируются в таком обобщенном виде, что за ними скрываются самые разные практики. Кроме того, на совершение повторных правонарушений влияет множество факторов, не только психологических, в то время как основу реабилитационных программ составляют методы коррекционного психологического вмешательства. Но означает ли последнее, что реабилитационные программы не нужны? Или, может быть, «рецидив» просто неадекватный показатель для оценки их эффективности? А, может быть, смысл гуманизации уголовного правосудия является самоценностью? И анализировать ее нужно не с точки зрения «эффективности», а с точки зрения ценностного содержания самих программ? И уж если мерить эффективность, то, к примеру, она может выражаться в том, что число повторных правонарушений тех, кто прошел программы, не становится выше? А есть ли измеритель эффективности карательного подхода?
«…Наказание, применяющееся в самых разных формах не одну тысячу лет, так и не привело к заметному сдвигу в динамике преступности. Тем самым оно, хотя и косвенным образом, показало свою неэффективность, а если выразиться мягче, далеко не полную эффективность… Поэтому постоянно и безуспешно изыскиваются пути замены наказания чем-либо более рациональным»77.
Практика реализация доктрины новой социальной защиты и реабилитационного подхода раскрывает очередной пласт вопросов относительно направлений развития уголовной юстиции. Проблема преступности остается актуальной. И мы оказываемся у очередной развилки:
1) назад к усилению роли наказания;
2) к продолжению поисков форм эффективного некарательного воздействия;
3) к необходимости новых подходов.
Все три линии получили свое развитие.
Глава 2 КОНЦЕПЦИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПРАВОСУДИЯ
Система реагирования на преступления остается карательной. Концепция восстановительного правосудия стала результирующей разных направлений общественной активности, социальной и правовой мысли, выступающих против такой системы. Среди факторов, оказавших влияние на становление восстановительного правосудия, выделяют: 1) социальные движения (борьба за сокращение численности тюремного населения и альтернативные наказания, за нормальные условия содержания в тюрьмах, за права жертв, за гражданские права национальных меньшинств, в том числе в уголовном правосудии); 2) программы и экспериментальные практики разрешения конфликтов (Conflict Resolution), в том числе в области реагирования на правонарушения; 3) религиозные концепции и практики миротворчества; 4) научные исследования и теории78.
Сегодня восстановительное правосудие – это новый взгляд на то, как нужно реагировать на уголовные преступления. По аналогии с предыдущими направлениями он включает критику доминирующего способа реагирования на преступления и конструктивную альтернативу79.
2.1. Критика карательного способа реагирования на преступления
В критической части концепции восстановительного правосудия следует выделить четыре основополагающие и взаимосвязанные линии: неэффективность уголовно-правового (карательного) способа в отношении преступников, пренебрежение нуждами жертв, неэффективность и ценностная неприемлемость для общества карательного способа реагирования и, наконец, отчуждение общества от решения собственных конфликтов, приводящая к его социальной и моральной дистрофии.
В критике наказания мы увидим многие линии, уже знакомые нам из предыдущих критических теорий, тем не менее специфика угла зрения концепции восстановительного правосудия приведет к принципиально новой практической альтернативе.
Преступник
Цели наказания, провозглашаемые современной доктриной уголовного правосудия, – исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений – оказываются по большей части декларативными. Места лишения свободы изолируют лиц, совершивших преступление, но вряд ли происходящие там процессы можно назвать исправлением. Там вконец разрушаются способности осужденного к социальной адаптации, к жизни в нормальном обществе, атрофируются элементарные социальные навыки, чувство ответственности за себя и близких, культивируется рецидивная преступность. Чем лучше осужденный приспособится к тюремной жизни, тем сложнее ему на свободе. Вряд ли можно всерьез говорить о том, что наказание способствует формированию чувства ответственности за преступление: оказавшись в тюрьме вместе с другими изгоями, выброшенными из общества, осужденные больше склонны к самооправданию, к осознанию себя в качестве жертвы. Эти люди преступили закон и должны нести ответственность. Однако, если человек совершил преступление из-за неспособности «управлять своей жизнью в рамках закона», чему научит его тюремный опыт?
«В течение этих лет ему не потребуется платить за квартиру, зарабатывать деньги, содержать семью. Oн полностью будет зависеть от государства, которое возьмет на себя заботу о нем. Когда же он выйдет, у него останется совсем немного навыков для жизни в обществе. Научится ли он снова ходить на работу, экономить деньги, платить по счетам?»80
И освободившемуся из мест лишения свободы зачастую ничего не остается, как совершить новое преступление и вернуться в привычную среду, поскольку в условиях лишения свободы у него не могли сформироваться навыки свободной и ответственной жизни. Жизнь в обществе предполагает активность, субъектность; в тюрьме – пассивность, покорность, потерю субъектности.
Выше мы уже обращались к книге норвежского криминолога Нильса Кристи «Пределы наказания». Просто и ясно он выразил то, что кажется само собой разумеющимся, но о чем мы предпочитаем умалчивать: наказание – это намеренное причинение боли. Наказание – это претерпевание страдания, здесь нет субъекта, который отвечает на боль жертвы, компенсирует причиненный ей вред. Это пассивный уход от проблемы, связанной с преступлением, загораживание от своего деяния с помощью профессионалов – адвокатов и специалистов в области поведения81.
Не надо забывать и о неотъемлемых «сопутствующих» обстоятельствах лишения свободы – той невероятной жестокости, которая царит в местах заключения в силу самой специфики разделения людей на заключенных и надзирателей82, а также таких атавизмов средневековья, как применение пыток83, разумеется, не потому, что они санкционированы законом, а в силу институциональной специфики мест заключения. В эксперименте Зимбардо показано развращающее влияние тюремных условий как таковых и на надзирателей, и на заключенных. «Словесный щит», говорит Кристи, маскирует истинный характер наших действий. Конечно, мы тут же услышим возражения: «преступник сам виноват, было бы странным, если общество как-то иначе относилось к преступлениям». Здесь нет простых ответов.
«Моя позиция, представленная здесь в неизбежно упрощенном виде, но с полным пониманием сложности обсуждаемых вопросов, кратко сводится к тому, что социальные системы должны строиться таким образом, чтобы свести к минимуму ощутимую потребность в причинении боли с целью социального контроля… Пусть преступление послужит исходным пунктом для подлинного диалога, а не для столь же неадекватного ответа посредством причинения боли полной мерой. Cоциальные системы следует организовать так, чтобы диалог мог иметь место»84.
На первый взгляд, странная точка зрения. Но именно она стала основой будущего подхода; деятели восстановительного правосудия подчеркивают, что взгляды Кристи оказали существенное влияние на формирование их позиции. Диалог стал основой процедуры, которая предлагается восстановительным правосудием.
Чрезвычайно важную роль в теоретическом переосмыслении понятия «преступник» сыграла теория стигматизации, или ярлыков, иногда ее называют теорией этикетирования (labeling approach)85. Эта концепция разрабатывается с 30-х гг. ХХ в. (Танненбаум, 1938; Беккер, 1963). Согласно этой теории не только (и даже не столько) первичное отклоняющееся поведение, но сам способ реагирования общества на такое поведение толкают человека (особенно молодого) в криминальную среду. То, что молодой человек совершает как шалость, трактуется как преступление; на человека навешивается позорящее клеймо, которое фактически предопределяет его дальнейший жизненный путь. В социальном окружении вина как бы «прилипает» к индивиду; «однажды обвиненный в воровстве в глазах людей навсегда останется вором, попавший в тюрьму – бывшим заключенным, бывшим преступником»86. Преступные качества «приписываются» лицу, совершившему преступление, и отныне воспринимаются как его внутренние свойства. Недоверие окружающих к ранее судимому ведет к внутреннему усвоению человеком роли преступника – и он ведет себя в соответствии с навязанной ему ролью.
И даже если наказание не связано с лишением свободы, правовой институт судимости (которая в конце концов погашается) «не работает» в социальном пространстве. Возьмем пример из нашей жизни. Во многих учреждениях при принятии на работу требуется справка о судимости. Форма справки Главного информационно-аналитического центра МВД России содержит графу: «имеются (не имеются) сведения о судимости (в том числе погашенной и снятой)». То есть на того, кто был когда-то осужден, в любом случае ставится социальное клеймо, и фактически перед ним закрываются многие двери. Официальное осуждение нарушителя становится актом социального клеймения. Клеймо ставится на человеке, а не на его поступке, и отныне отношение к нему общества определяется этим знаком позора. Следствием становится «вторичное отклонение» как результат реакции индивида на такое отношение окружающих: принятие и освоение им социальной роли отверженного и вхождение в криминальную среду, где он становится «своим». Особенно опасны последствия стигматизации для юного нарушителя, когда еще не завершены процессы взросления, личностной и социальной идентификации, когда идет интенсивный поиск своей социальной роли и образцов для подражания.
Теория стигматизации получила дальнейшее развитие в немецкой криминологии (Ф. Зак). Дискуссия вокруг этой теории оформилась в «критическую криминологию», которая принципиально изменила взгляд на преступность. В критической криминологии обсуждается низкая эффективность уголовного права, пересматривается взгляд на латентную преступность. Как показано в ряде исследований, около 90 % законопослушных граждан хотя бы раз в жизни совершали противоправные деяния. Понятие латентной преступности означает, что лишь часть совершенных преступных деяний попадает в каналы официальной регистрации. И это не только негативное явление, но и благо.
Практическим следствием теоретических обсуждений стали новые стратегии в уголовной политике.
«В различных политических кругах стала обсуждаться мысль о том, что традиционные карательные меры к лицам, разоблаченным… В преступлениях, иррациональны, дороги и негуманны, и было бы рациональнее, дешевле и гуманнее демонтировать традиционный уголовно-правовой контроль и заменить компенсирующими социально-политическими мероприятиями. К числу практических результатов распространения идей критической криминологии относится внедрение мер, альтернативных лишению свободы, в частности, касающихся предусмотренного законом примирения потерпевшего от преступления с лицом, виновным в его совершении, а также профессиональная подготовка целого поколения социальных педагогов и судей для молодежных судов».87
Социальная справедливость и нужды жертвы
Как и возможность исправления осужденного, весьма сомнительной представляется декларируемая уголовным правом цель восстановления социальной справедливости с помощью наказания (см., например, ст. 43 УК РФ). Разного рода социологические исследования показывают, что опрашиваемые нередко считают (относительно корыстных преступлений) более предпочтительным возмещение ущерба жертве, нежели наказание преступника88.
Какое содержание вкладывается уголовным правом в понятие социальной справедливости? Уголовно-правовая доктрина под жертвой (за исключением весьма небольшого круга дел частного обвинения) имеет в виду отнюдь не тех, кто реально пострадал от преступления. Жертвой является государство, и отвечает преступник перед ним, в то время как достижение социальной справедливости предполагает в первую очередь возмещение ущерба и заглаживание вреда тому, кому этот вред нанесен.
Во второй половине ХХ в. параллельно с активизацией общественного движения за права жертв стала формироваться и новая научная область – виктимология, появление которой было обусловлено односторонним подходом к феномену преступления, культивировавшимся традиционной криминологией. Первоначально виктимология (криминальная виктимология) ставила перед собой вопросы, «в силу каких причин те или иные лица и социальные группы становятся жертвами чаще, чем иные, оказывающиеся в аналогичных ситуациях?»89. Но по мере разворачивания исследовательских программ расширялась и область основных интересов, формулировались новые проблемы, и внутри самой виктимологии стали выделяться разные течения. Постепенно на повестку дня встали вопросы о том, как рассматривается жертва преступлений системой уголовного правосудия, в какой мере реализованы механизмы по возмещению ущерба, причиненного преступлением90.
Вред от преступления – это не только прямой материальный ущерб, это и те переживания, которые еще долго преследуют жертву. Ночные кошмары, ощущение уязвимости и ранее не свойственная подозрительность к другим людям, жажда отмщения, самообвинение («я сама виновата в том, что произошло»), невозможность выразить чувства, которые ее переполняют, в том числе и потому, что близкие избегают этой темы, ухудшение отношений с окружающими, которые ее «не понимают», неразрешимые вопросы («почему я?», «имел ли преступник что-нибудь лично против меня?» и пр.).
«…Нам часто не приходит в голову, что и жертвы менее серьезных (с нашей точки зрения) преступлений могут чувствовать то же самое. Oписание переживаний жертв ограблений напоминают рассказы тех, кто пострадал от изнасилования. Жертвы вандализма и автомобильных краж реагируют на ситуацию так же, как жертвы насильственных нападений, хотя и в менее выраженной форме»91.
Вряд ли наказание преступника может существенно помочь исцелению жертвы, однако стереотипы массового сознания, в которых властью сознательно поддерживается образ преступника, олицетворяющего собой зло, и жертвы, оказываются своего рода обоснованием легитимации репрессивного правосудия.
«В связи с тем что общество таким образом рассматривает преступление и правосудие, жертвы преступления, как правило, стремятся к тому, чтобы лица, совершившие против них преступления, понесли наиболее суровое наказание. Oбщество говорит им, что это будет справедливо, но зачастую, получив то, к чему они стремились, жертвы преступления испытывают чувство пустоты и неудовлетворенности. Месть не решает другую важную потребность жертв. Oна не способна восстановить их потери, дать ответы на их вопросы, избавить их от страха, помочь им осознать их трагедию или исцелить их раны»92.
Несмотря на различие в процессуальном статусе пострадавшего в США и России (у нас, как известно, пострадавший от преступления получает процессуальный статус потерпевшего, в связи с чем наделяется рядом прав), фактически его положение в разных национальных правовых системах более или менее идентично. В российском процессе потерпевший обладает совокупностью процессуальных возможностей: заявлять отводы, ходатайства, предъявлять доказательства и пр., «но фактически лишен квалифицированной юридической, психологической и материальной помощи со стороны государства»93.
Государство использует потерпевшего в целях уголовного преследования, мало заботясь об удовлетворении его нужд. Не получая реального удовлетворения потребностей, жертвы подвергаются вторичной виктимизации уже со стороны официальных органов.
Постепенно в результате общественных движений на Западе стали формироваться общества по защите жертв, оказывающие им реальную помощь; приняты международные рекомендации о защите жертв преступлений94, в национальных законодательствах появляются нормы о выплате компенсаций. Однако присутствие в законе соответствующих норм не означает наличия реального механизма их реализации.
Остаются и другие нерешенные проблемы. В результате преступления жертва теряет ощущение власти над собственной жизнью, появляется беспомощность, неверие в надежность и предсказуемость мира. Невозможность простить оставляет жертву под грузом случившегося. Прощение – это не забвение и не обесценивание случившегося, прощение – это освобождение. «Не пережив прощение, не поставив точку на прошлом, мы оставляем свои раны открытыми, мы позволяем преступлению взять верх над нами, нашим сознанием и нашей жизнью. Таким образом, истинное прощение – это процесс освобождения и исцеления. Истинное прощение позволяет жертве выжить»95. Но как возможно прощение?
Вернемся к преступнику. Что значит «нести ответственность?»
«У поступков людей есть мотивы. Если бы ситуация была построена так, чтобы можно было изложить свои мотивы (так как их видят обе стороны, а не только те, что юристы считают относящимися к делу), в этом случае ситуация может быть и не была бы столь унизительной. И особенно, если бы ситуация была построена таким образом, чтобы центральным был не вопрос определения вины, а подробное обсуждение того, что можно сделать, чтобы загладить ее, тогда ситуация могла бы измениться… Cерьезное внимание будет сосредоточено на потерях жертвы. Это привлечет естественное внимание к тому, как их можно смягчить. А это приводит к обсуждению возмещения ущерба… Правонарушитель утратил возможность объясниться перед человеком, чье мнение о нем может иметь для него значение. Cледовательно, он утратил одну из наиболее важных возможностей – возможность быть прощенным»96.
Итак, встреча правонарушителя и жертвы, чтобы правонарушитель увидел и услышал, какую боль он причинил. Диалог может привести к обсуждению того, как исправить последствия случившегося. Но подобная встреча грозит оказаться весьма болезненной для преступников. При наличии профессионалов – адвокатов, специалистов по человеку, объясняющих совершенное преступление разными обстоятельствами, «трудным детством» и т. п., совершившему преступление легче с их помощью отгородиться от жертвы. «Но, – продолжает Кристи, – я думаю, что делать это мы должны независимо от его желания. Мы здесь обсуждаем не контроль за здоровьем. Мы обсуждаем контроль за преступностью… Так что вопрос в том, хотим ли мы позволить им отказаться от этого и хотим ли мы дать им так легко отделаться?»97 Не абстрактный гуманизм, а представление о том, в чем должно заключаться существо правосудия – вот вопросы, которые остаются в фокусе обсуждения. И концепция восстановительного правосудия намечает свои ответы, которые отличаются от тех, что давались прежде; впоследствии предварительные ответы нашли и формы воплощения в процедуре медиации.
Взаимоотношения и общественная безопасность
Рассмотрим еще один аспект. Поскольку преступление определяется как виновное нарушение уголовного закона, то государство, наказывая виновного, восстанавливает ситуацию власти, но отнюдь не разрешает ситуацию между людьми.
Представим себе довольно типичный случай. Идет по улице подросток с мобильным телефоном, к нему подходит другой, из соседнего двора. Дальше возможны варианты, предположим, второй говорит: «Дай позвонить маме», ему дают, а он убегает с телефоном. Либо просто отнимает и убегает. Ограбленный идет домой, родители заявляют в милицию, грабителя ловят. Против юного грабителя заведено уголовное дело. Машина уголовного процесса работает очень хорошо: сначала предварительное расследование, затем дело передается в суд. Потерпевший, казалось бы, должен радоваться: дело заведено, преступник найден, в деле бесспорные законные доказательства. Но потерпевший и правонарушитель живут недалеко друг от друга, дворы рядом. Потерпевший боится выйти на улицу, потому что тот, против кого заведено уголовное дело (назовем его Петя), по-видимому, считает его виновником своих неприятностей, и потерпевший боится, что Петя будет ему мстить. Дальше суд, а Петя ранее не судим, на учете в милиции не состоит, у него положительные характеристики из школы и т. п., и ему назначают условное наказание. И потерпевший еще больше боится, потому что Петя оказался судимым, у него теперь вся биография испорчена, он прошел через позор и неприятности. А еще больше, чем потерпевший, нервничает его мама, которая боится выпустить сына из дома. Юридически ситуация разрешена, а реальная ситуация между людьми стала еще более напряженной.
Назначение уголовного процесса, утверждает Ван Несс, автор множества работ по восстановительному правосудию, один из ведущих разработчиков Декларации основных принципов применения программ восстановительного правосудия в уголовных делах (ООН, 2002), состоит в том, чтобы помочь жертве и правонарушителю разрешить их ситуацию. Но как раз этой задачей уголовная юстиция не занимается, это не ее функция98.
Виктимологическим исследованиям мы обязаны введением в поле рассмотрения преступления категории отношений, которая, в свою очередь, разрушает жесткое разделение участников ситуации на «преступника» и «жертву». Так, «по крайней мере некоторые преступники и жертвы могут рассматриваться как участники динамического и продолжающегося взаимодействия. В любой момент участники могут быть названы жертвой или преступником в зависимости от сцены взаимодействия»99. К примеру, при продолжающихся взаимоотношениях один из участников может прибегнуть к расплате за нанесенную ему ранее обиду, «в этот конкретный момент бывшая жертва становится нынешним преступником, а бывший преступник – нынешней жертвой. Если взаимодействие продолжается, позиции могут вновь поменяться»100. Так что вмешательство уголовного судопроизводства в той или иной точке подобных длящихся отношений, разделяя участников на «преступника» и «жертву», не дает возможности обнаружить «социальные корни преступления» и разрешить проблему реальных отношений между людьми.
Не может сохраняться безопасность в обществе, настаивает Ван Несс, отлученном от разрешения собственных конфликтов, поскольку тем самым общество снимает с себя обязанность разрешать собственные проблемы. Безопасность обеспечивается как порядком, так и согласием. Общество несет на себе ответственность за мир и согласие. «Согласие – это динамическое сотрудничество, взращенное в самом обществе»101.
Власть специалистов и вопрос ответственности
Итак, карательная реакция на преступления подвергается критике как с точки зрения ее низкой действенности по отношению к исправлению правонарушителей, так и по отношению к удовлетворению нужд лиц, пострадавших от преступлений, а также к общей задаче защиты общества от противоправных деяний. При этом наряду с вопросами эффективности возникают и вопросы аксиологического (ценностного) и этического порядка относительно применяемых средств для защиты от преступлений. Во введении к книге, которая в какой-то мере подытоживает криминологию ХХ столетия и направляет нашу мысль в будущее, читаем: «Криминологическая критика уголовного права будет развиваться, по всей видимости, не только с позиций оценки его эффективности (неэффективности), но и с точки зрения соответствия его институтов общечеловеческим ценностям, возрастающим стандартам гуманизма»102.
В этой ситуации привычно (в рамках карательной парадигмы, которая представляется естественной, а потому единственной) предлагать улучшение условий содержания заключенных, расширение спектра наказаний, альтернативных лишению свободы, расширение применения института досрочного освобождения, сокращение сроков лишения свободы и т. п. Однако ряд криминологических концепций все настойчивее говорят о «кризисе наказания» как такового: несмотря на все усилия полиции и уголовной юстиции во всем мире наблюдается рост преступности103.
В тесной связи с рассмотренными пунктами стоит более общий вопрос о причастности общества к разрешению собственных конфликтов – о его собственной компетентности. В знаменитой лекции 1976 г. «Конфликты как собственность»104 Н. Кристи обсуждает социальную ситуацию современного существования в урбанизированном и индивидуализированном мире, приведшую к проблеме отчуждения человека и сообществ от собственных конфликтов. Огосударствление правосудия и профессионализация как тотальный социальный феномен привели к тому, что юристы «монополизировали» конфликты, последние перестали быть собственностью самих людей. Криминология, которая обслуживает профессионалов, работающих в сфере контроля над преступностью, своими объяснительными теориями тоже по большей части служит отчуждению конфликта от людей. Профессионалы «знают», что имеет отношение к делу, пренебрегая тем, что важно для самих конфликтующих сторон. То же относится и к специалистам в области поведения – человек вытесняется носителями знаний о человеке, которые берут на себя принятие решений. Тема восстановления роли сообществ в разрешении конфликтов разворачивается и во всех последующих работах Кристи.
Продолжая эту линию, австралийский криминолог Джон Брейтуэйт выдвинул оригинальную теорию, согласно которой центральным психологическим (социально-психологическим) механизмом сдерживания преступлений является чувство стыда. Брейтуэйт разделяет стыд клеймящий и воссоединяющий. В первом случае речь идет такой реакции общества на правонарушающее поведение, которая ведет к клеймению и социальной изоляции нарушителя, выводя его за границы правопослушного сообщества. Но более эффективной является реакция на преступления со стороны тесных сообществ, которые воздействуют на преступника, сначала устыжая его, а затем участвуя в его реинтеграции. В этом случае речь идет о воссоединяющем стыде. В своей теории «воссоединяющего стыда» Брейтуэйт объясняет законопослушность как следствие убеждающих и объясняющих воздействий социального окружения, а не репрессивных средств социального контроля. Удерживающее действие стыда определяется не суровостью санкций, но их социальной укорененностью, «чувство стыда обладает большей сдерживающей силой, когда его внушают люди, имеющие и сохраняющие для нас свою значимость»105. А будучи отвергнутыми обществом, мы осуждаем тех, кто осудил нас, и механизм стыда «перестает работать». Тем самым различаются вразумляющий социальный контроль («горизонтальный») и репрессивный («вертикальный», властный).
Приемлемость и действенность механизмов «воссоединяющего стыда» коррелирует с культурой общества. Общества, где подобные механизмы оказываются достаточно действенными, определяются как коммунитарные. Они характеризуются плотно переплетенными отношениями взаимозависимости, привязанности, взаимными обязательствами и высоким уровнем доверия между его членами, чувством верности группе. Правовые нормы действенны в тех обществах, где они укоренены в качестве моральных оснований жизни людей. Современное же общество принадлежит не к коммунитарному, а к индивидуалистическому типу. Разобщенность людей, урбанизация, мобильность населения, деперсонализация взаимодействий (ослабление связей между соседями, родственниками) – все это «лишает промежуточные между государством и гражданином социальные группы возможности использовать свои санкции»106, а потому единственным способом ответа на преступление является обращение к репрессивному аппарату государства. С точки же зрения коммунитарных теорий ответ на преступление рассматривается как форма организации совместного проживания, как форма «горизонтальных отношений», как взаимная или коллективная ответственность за создание более крепких сообществ.
Однако современный человек, как неуклонно повторяет в своих работах Нильс Кристи, обречен на существование в окружении чужаков, а потому любые непривычные и неприятные нам поступки легко назвать преступлениями.
Кристи рассматривает в качестве моделей два типа правосудия – «горизонтальное» и «вертикальное»107. Первое характерно для традиционных обществ. Женщины каждый день в одно и то же время встречаются у колодца или реки, набирают воду, стирают белье, обсуждают конкретные ситуации или происшествия, обмениваются мнениями, сравнивают с событиями прошлого, оценивают. То же относится к мужским компаниям. Так через общение формируются социальные нормы, которые лежат в основе «горизонтального правосудия». Основные признаки последнего:
– выработанные решения имеют местное значение (сходная проблема в другом месте могла бы быть решена иначе);
– представления о значимости тех или иных событий и фактов существенно отличаются от тех, которые признаются таковыми в рамках официального уголовного правосудия; они вырабатываются в ходе обсуждения с участием всех заинтересованных лиц;
– компенсация ущерба здесь всегда предпочтительнее возмездия; соседи давно знают другу друга и понимают, что им и дальше придется жить вместе.
Другая модель – «вертикальное правосудие». Здесь в соответствии с законом «в одинаковых ситуациях нужно прибегать к одному и тому же решению. Однако, если принимать во внимание все обстоятельства, одинаковых ситуаций не бывает. Потому формальное право никогда не принимает во внимание все обстоятельства. Чтобы подвести тот или иной случай под определенную – одинаковую – категорию закона, приходится игнорировать многие факторы. Начинается процесс исключения несущественных деталей… Вопрос релевантности решается догматически: так, адвокаты часто запрещают своим клиентам упоминать в суде о фактах, которые кажутся обвиняемым главными аргументами в их защиту. Поступать подобным образом обучают на юридических факультетах. Эта форма правосудия существует за счет ограничений, определяющих существенные и несущественные аспекты дела. В противном случае применять законы было бы практически невозможно. В этом главное отличие вертикального правосудия от горизонтального, при котором вопрос о релевантности решается в ходе общего обсуждения»108.
Вертикальная модель правосудия оказывается в общем-то адекватной в условиях социальной разобщенности, когда мы не знакомы с окружающими нас людьми. Деревня умирает. И тогда наиболее подходящей оказывается репрессивная реакция на нарушения закона. Но упование на закон часто лишает людей возможности находить пути решения подлинных проблем.
Власть экспертов – социокультурный феномен, характеризующий не только сферу контроля над преступностью. В 70-е гг. философ и социальный критик, в прошлом священник, Иван Иллич назвал проживаемое нами время «эпохой недееспособности под властью экспертов». Критическая социальная философия второй половины ХХ в. привела к проблематизации многих ключевых практик – образования, психотерапии, медицины, инженерии. И под влиянием критики в разных сферах стали формироваться идеи «смены парадигм»109. Власть специалистов приводит к тому, что люди снимают с себя ответственность, атрофируются способности к пониманию других людей и разрешению собственных конфликтов – все это становится ненужным. Концепция восстановительного правосудия в своих ключевых идеях зиждется на взглядах Нильса Кристи. Согласно Кристи, чтобы предотвратить нашу социальную и моральную деградацию, конфликты должны быть «возвращены» людям.
В обществе всегда будут те, кто отказывается (по разным причинам) подчиняться общепринятым нормам, и, в конце концов, независимо от того, трактуем ли мы преступность как «нормальное явление» (по Дюркгейму)110 или как «социальную патологию», необходимо искать на нее адекватные ответы. Нужен пересмотр привычного образа мыслей, следует научиться жить в нестабильном и нерациональном обществе111. В повестку дня снова, как и сто лет назад, встает вопрос о способе реагирования на преступление. И продолжается поиск альтернатив.
2.2. «Восстановительное» в правосудии: ценности и прототипы
В этом разделе мы перейдем от критики к позитивным началам восстановительного правосудия, т. е. к ценностям и прототипам, которые легли в основу его концептуальных положений и практических форм. В сегодняшних программах восстановительного правосудия мы находим «отпечатки» как исторически далеких способов разрешения конфликтов, так и современных гуманитарных практик; концепция отражает течения философских и научных гуманитарных теорий (психология, социология, криминология, виктимологии и др.), а также теологические представления112 (см. рис. 2).
Традиционные практики разрешения конфликтов: восстановление мира в общине
Идея альтернативы, которая предлагается восстановительным правосудием, восходит к общинным способам разрешения конфликта, направленным на примирение и достижение соглашения между сторонами113. Во главу угла здесь ставится ценность совместной жизни людей.
«Так, многие черты народного права германцев, которые на западный взгляд являются признаками слабости, выглядят признаками силы в глазах людей незападных культур. Отсутствие движений за правовую реформу, сложной юридической машины, сильной центральной законодательной власти, сильной центральной судебной власти, независимого от церковных воззрений и эмоций свода законов, систематической юридической науки – все это лишь одна сторона медали. А вот другая: ощущение целостности жизни, взаимосвязи права со всеми сторонами жизни, ощущение того, что правовые учреждения и процессы, как и правовые нормы и правовые решения, составляют неотъемлемую часть вселенской гармонии. Право, как искусство, как миф и религия, как сам язык, было для народов Европы на ранних этапах их истории отнюдь не способом применения правил для определения вины и вынесения приговора, не средством разделения людей на основе набора принципов – право было средством удержать людей вместе, оно было инструментом примирения. Право воспринималось прежде всего как процесс посредничества, способ общения, а не как процесс создания норм и принятия решений»114.
Как показывает Норбер Рулан, основатель Французской ассоциации юридической антропологии, современные исследования развенчивают наши твердые убеждения, будто в первобытных обществах царило насилие и что только с появлением государственных судебных институтов удалось уйти от мести, «благодаря чему стало возможным сдержанное насилие». Исследования заставляют задуматься: «А не является ли это вечное насилие придуманным позже, при рождении государства, воображаемым представлением, чтобы узаконить монополию правосудия и применение силы, которое оно предусматривает?.. как показывают этнографические исследования, к мести прибегали редко, а сами традиционные общества стремились к строгому ограничению проявлений насилия. Однако, поскольку это далеко не соответствовало идеологии миссионеров и представителей государства, они в принципе резко осуждали месть»115. Несудебные способы разрешения конфликтов в «элементарных» («полуэлементарных», «полусложных») обществах фактически образуют систему: месть – переговоры – посредничество116. Ценность совместной жизни, которая лежала в основе древних и более поздних обычаев разрешения конфликтов, побуждала противоборствующие стороны к поиску мирного исхода ситуации. Угроза возмездия, безусловно, существовала, но ее можно рассматривать и как способ побуждения к миру. «Смысл и функция возмездия часто отражали философию компенсации. Вся система основывалась в первую очередь на необходимости компенсации пострадавшим и восстановления взаимоотношений. Обычно это вело к переговорам, результатом которых должно было стать признание преступником его ответственности и обязательств»117. Эти черты общинного правосудия заставляют сегодня людей в самых разных странах обращаться в прошлое в поиске образцов для процедур миротворчества, способов ответа на преступления, основанных на переговорах и посредничестве.
Традиционные формы разрешения конфликтов бытуют и сегодня, в том числе и на территории России, и их исследование и освоение этого опыта имеет большое значение для развития примирительных практик.
С 2010 г. в Институте государства и права РАН ежегодно проводятся всероссийские семинары по традиционным практикам разрешения конфликтов и примирению. Семинары носят междисциплинарный характер, в докладах и обсуждениях рассматриваются этнографические, исторические, правовые, политические и культурологические аспекты образа жизни и мировосприятия различных народов и их связи со способами разрешения конфликтов.
Так, на семинаре 2011 г. большой блок докладов был посвящен традициям разрешения конфликтов народов Северного Кавказа и Средней Азии118. Обычаи до сих пор играют в этих регионах гораздо более существенную роль, нежели государственное право, люди предпочитают обращаться не в официальные инстанции, а следовать традиционным процедурам. У народов Северного Кавказа сохраняются обычаи кровной мести. Кровная месть жестко регламентирована, она осуществляется тогда, когда не удается достичь примирения, так что роль примирения чрезвычайно велика. Ядро примирения – заглаживание вреда, которое имеет разные формы в зависимости от местных обычаев. Процедура предполагает совершение определенных обрядов извинения, прощения, а также ритуалов, отражающих связь общины с предыдущими и будущими поколениями, с Богом и вечностью. Обряды и ритуалы погружают событие примирения и прощения в связь времен, вводят в разрешение конфликтов трансцендентное начало. В настоящее время примирение инициируется и поощряется властями республик, на местах активно действуют примирительные комиссии для разрешения конфликтов между кровниками.
На материале обсуждений отчетливо выявилось концептуальное различие двух типов культур по отношению к понятиям вины и ответственности и, соответственно, форм разрешения конфликтов и ответа на преступление. Современная западная урбанистическая культура является продуктом разобщенного социума, для которого, в отличие от общинной культуры, тесные горизонтальные связи, близость, коллективность не образуют фундамента. Урбанистическая культура зиждется на безличных функциональных связях, она центрируется на атомизированном индивиде и индивидуальной ответственности, а в уголовном праве – на индивидуальной вине и наказании. Основной же социальной единицей в жизни народов Северного Кавказа и Средней Азии является община (семья, тейп, род). Отсюда коллективная вина и коллективная ответственность. Любое преступление – это причинение вреда общине. И ответственность за преступление несет община, к которой принадлежит виновный. Кровная месть либо прощение при достижении примирения адресовано общине, в ритуалах примирения виновник даже не всегда участвует, он отвечает перед своей семьей, родом. Община, в свою очередь, берет ответственность за его исправление. Посрамление перед общиной в случае нарушения установленного порядка является мощным инструментом воздействия на виновного, а стыд («воссоединяющий», по Брейтуэйту) – психологическим механизмом «ресоциализации».
В семинаре 2012 г. рассмотрение традиционных практик примирения, являющихся неотъемлемой составляющей обычаев, было увязано с анализом их взаимодействия с действующей системой государственных органов правосудия119. Подобное сопряжение традиционных практик с официальным правосудием в ряде стран становится важнейшим моментом государственной политики.
Изучение традиционных практик открывает новые пласты в понимании социальных форм урегулирования конфликтов и механизмов ответственности, раскаяния и прощения – столь важных в рамках концепции восстановительного правосудия. Один из уроков, которые можно извлечь из изучения традиционных практик, состоит в том, что раскаяние обидчика и принятие им ответственности непременно предполагают наличие опоры и поддержки, в традиционных обществах это происходит в виде разделения ответственности – с семьей, общиной, в форме освященных веками обрядов, которые символизируют сожаление о совершенном проступке (преступлении) и предлагают определенность форм, в которых должно произойти заглаживание вреда.
При всем разнообразии социальных структур и обычаев, мирное разрешение конфликтов и споров, переговоры, компенсация, примирение и прощение – все это мы находим в истории любого народа. Сегодня можно говорить о некой мировой тенденции, проявляющейся в повышенном интересе к традиционным способам разрешения споров и конфликтов и их увязывании с системами официальной юстиции. Понятно, что формирующиеся новообразования не тождественны древним механизмам – мы живем в другом обществе: в обществе мегаполисов, где господствует разделение труда, индивидуализм и взаимное отчуждение; в городских поселениях, как правило, отсутствуют или весьма слабы местные сообщества, а, следовательно, наказание не нарушает жизненного уклада социальных групп; мы живем в обществе с развитыми правовыми институтами, и вряд ли можно будет согласиться с тем, чтобы пренебречь завоеванными гарантиями прав человека и основных свобод. Однако в современных практиках восстановительного правосудия находят место и некоторые возрожденные обычаи.
Но неверно было бы говорить, что древние способы ответа на деяния, выходящие за пределы принятых правил, ограничивались только переговорами, посредничеством и мирным разрешением споров (а месть применялась как исключительная альтернатива), и лишь становление национальных государств привело к формированию публичного права и публичного наказания. По определенной категории деяний, угрожавших самому существованию общины, применялись публичные наказания; их целью было не возмездие, а защита общины.
Как показано в работе Генриха Оппенгеймера, который исследовал обширный материал из истории разных народов, нельзя представить развитие правосудия как процесс, имеющий в качестве источника «единое право, в котором заключались в недифференцированном виде право гражданское и уголовное»; гражданское и уголовное право возникают из самостоятельных источников, «и скорее напоминают две реки, текущие по параллельным руслам, причем одна река в известных местах посылает свои рукава в другую»120. Те преступления, которые сегодня являются уголовными, были таковыми не всегда. Первыми преступлениями были те, что в соответствии с господствовавшими взглядами ставили в опасность все общество, «подвергая его риску мести со стороны внешних врагов или мира духов, риску навлечения скверны греха посредством приведения в движение как бы механических тайных сил»121. Автор приходит к выводу, что главным источником возникновения публичных наказаний был страх, а мотивом – забота об общем благе, а вовсе не месть. «Месть, – пишет Оппенгеймер, – является источником не наказания, а права возмещения посредством гражданского иска деньгами или действиями и подлежит не уголовной, а гражданской юрисдикции»122. Так что сторонники теории мести, которые говорят, что в официальном правосудии государство просто поставило себя в качестве субъекта наказания на место потерпевшего, уводят нас от исторического понимания происхождения наказания.
К преступлениям, караемым в примитивных обществах, относятся чародейство, противоестественные пороки, измена, святотатство, преступления против половой нравственности, отравление, нарушение охотничьих правил трибы123.
«Древнейшими формами наказаний являлись уничтожение преступника вместе со всем, что ему принадлежало, или изгнание его из страны. Целью этого было изъятие из общества того, кто являлся источником опасности, пока он оставался в среде людей. Наказание вначале было мерой социальной гигиены. Страдания, которые вызывали применение наказания, были побочным результатом, специально не имевшимся в виду, и они не причинялись сознательно с тем расчетом, чтобы превысить степень, необходимую для достижения главной задачи наказания»124.
При этом именно религиозные идеи, страхи и чувства были главным источником определения того или иного деяния в качестве преступления и необходимости публичного наказания. Например, по отношению к колдунам применялись акты полного уничтожения: сам колдун, а также его семья и родственники предавались смерти, «такая санкция, искореняющая все, что связано с виновным, сразу наводит на мысль, что она продиктована желанием устранить заразу, передаваемую через прикосновение или по наследству»125. Изменник приравнивается к врагу общины, и с ним поступают так, как с побежденным противником: его убивают, а жена и дети либо тоже погибают, либо обращаются в рабство, имущество конфискуется.
Гражданско-правовые начала
Если говорить о законодательно санкционированном примирении сторон, то упоминания об урегулировании правовых споров с помощью примирения встречаются еще в римском праве. Наиболее типичным результатом примирения была (и остается) мировая сделка – transactio – соглашение о взаимных уступках, к которому прибегали в случае, когда стороны испытывали трудности в доказывании своих требований. По мере складывания официальных институтов правосудия долгое время гражданская и уголовная юстиция не были отчетливо отделены одна от другой, и мировое соглашение (внесудебное и судебное) могло заключаться во всей области спорных правоотношений, включая преступления, проступки и гражданские правонарушения. Уголовная юстиция начиналась с преобладания в ней частного начала, а главной формой ответа на преступление было возмещение вреда – морального, физического, материального.
В ходе социальной и политической эволюции запада по мере огосударствления правосудия перечень преступлений расширялся, но вплоть до Нового времени официальный суд действовал на фоне обычаев, народного права; там, где был нарушен не публичный, а частный интерес, приоритет отдавался мирному разрешению спора как в судебном, так и во внесудебном порядке126.
В России законодательные институты примирительных процедур и мирового соглашения начали формироваться с конца XIV в., об этом свидетельствуют памятники древнерусского права. Однако в русле общеевропейских процессов эволюции правосудия постепенно примирительные начала в уголовной юстиции уступали место карательному государственному правосудию127.
Как известно, большую часть населения дореволюционной России составляло крестьянство. В интереснейшем исследовании функционирования российского крестьянского правосудия второй половины XIX в. Л.И. Земцов показывает, как работали институты крестьянского обычного права, которое существовало параллельно с системой писаного права128. На основе обычного права действовали сельские, а также созданные реформой 1861 г. волостные суды. Основной формой решения споров на уровне сельского общества было заключение мировой. Волостной суд (судейский корпус рекрутировался из крестьян) выступал по отношению к сельскому в качестве второй инстанции, но и здесь примирение сторон было необходимым элементом судебной процедуры. Решения волостного суда могли обжаловаться, и в некоторых уездах основанием для отмены решения было «непредложение примирения»129. «Тексты мировых сделок показывают, что полюбовное решение дела предусматривало вовсе не христианское прощение, а в первую очередь возмещение убытка со стороны того, кто очевидно для всех являлся виновным. Подобного свойства подход к мировому разрешению дел вполне соответствует нормам современного восстановительного правосудия, когда примирение жертвы и преступника дополняется теми или иными формами компенсации принесенного вреда»130.
В современном праве преступление понимается как нарушение уголовного закона, жертвой оказывается государство, а ответ на преступление – государственная акция наказания. Концепция восстановительного правосудия подвергает критике такое понятие преступления и соответственно такую реакцию на преступление. Обосновывая свои позиции, восстановительное правосудие обращается не только к прошлому, к частноправовому характеру ответа на преступления, но и к более широкому правовому анализу институтов, связанных с санкционированием социальных отношений. В качестве ключевых в связи с обсуждаемой темой рассмотрим понятия предписания и санкции. Предписание – это правило, которое либо обязывает соблюдать то или иное поведение, либо вводит некий запрет. Предписание всегда живет в рамках правовой системы в паре с санкцией: если оно не выполняется, за этим следует санкция или, иначе, общественное (государственное) принуждение.
В праве выделяется два основных типа санкций. Во-первых, исправление неправомерного явления или последствий неправомерного деяния, и, если обратиться к латинским терминам, это «репарация», «реституция», что переводится как восстановление. Второй тип санкций – репрессия. Восстановление может происходить в разных формах: либо восстановление как возврат к той ситуации, которая была до произошедшего события, либо, если это невозможно, восстановление в форме компенсации, возмещения. Такой тип санкции применяется в гражданском судопроизводстве. Гражданско-правовой деликт (гражданское правонарушение) влечет за собой обязанность возмещения причиненного ущерба. А репрессия, или наказание, есть обречение нарушителя на страдание.
Преступление является одной из форм нарушения предписания, но не все нарушения предписания являются преступлением. Различение «восстановления» и «наказания» как основных институционально закрепленных санкций реагирования на нарушения официальных предписаний введено не концепцией восстановительного правосудия – концепция восстановительного правосудия взяла его из правового дискурса131. Оба типа санкций – репрессия, как причинение страданий, и восстановление – суть правовые формы ответа на нарушение предписаний. И дальше категориальная пара «наказание – восстановление» привлекается для анализа сегодняшней ситуации реагирования на преступления. Исходя из ценности мира в совместной жизни людей концепция восстановительного правосудия обосновывает приоритет второго вида санкций. В этом смысле термин «восстановление» указывает на то, что в правовой плоскости восстановительное правосудие предлагает приблизить ответ на преступление к гражданско-правовой ответственности.
Человеческое измерение
Итак, понятие восстановления задает правовую рамку новой практики реагирования на преступление. Но концепция восстановительного правосудия не ограничивается категориями права и общинного правосудия, она насыщается и множеством других понятий, а понятие «восстановление» распространяется и на иные процессы. Если перейти от юридического к «человеческому измерению», то в самом общем виде речь идет о восстановлении связей между людьми, разрушенных в результате преступления, восстановлении самоуважения, восстановлении жизненных сил, об исцелении душевных ран, нанесенных преступлением. Юридический метод – ни в уголовном, ни в гражданском суде – не работает с людьми, он имеет дело с процессуальными фигурами. Правовые средства оперируют юридическими категориями, они не предназначены для сочувствия боли жертв, для урегулирования взаимоотношений между людьми, они безразличны к тяжести, которую таит в себе осознание вины, к способности людей к взаимопониманию, к изменению и личностному росту. Следовательно, важно различить конфликт между людьми и правовой спор (см. рис. 1). Как метко формулирует автор книги «Основы судебного примирения», судья Арбитражного суда Свердловской области С. В. Лазарев, «правовой спор является замещением конфликта, переводом его в другую плоскость»132. При этом, продолжает автор, «учитывая возможную потерю (изменение) содержания конфликта, нередки ситуации, когда разрешение правового спора не влечет разрешение конфликта»133; как показывают многочисленные исследования по конфликтологии и медиации, предмет правового спора и предмет конфликта, как правило, нетождественны. Но видеть и разрешать конфликт не учат в юридическом вузе134.
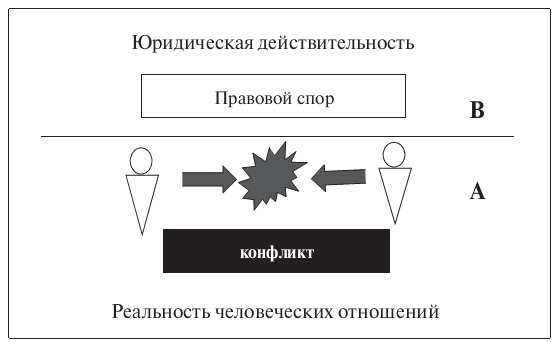
Рис. 1. Два пространства существования конфликта
(А – пространство человеческих отношений; В – юридическое)
Концепция восстановительного правосудия поставила вопрос о том, как «вернуть конфликты людям». Так что формирование восстановительного способа ответа на преступление состоит в «обратном движении», т. е. в разработке такой процедуры, которая «разоформляет» конфликт, облеченный в правовую форму, и «возвращает» его людям, переводя с языка юридического на их собственный. А людям важно то, что игнорируется в юридической действительности: чувства и переживания, последствия конфликта (преступления) для каждого его участника, представления о справедливости, о том, как возместить ущерб и как жить дальше после случившегося, иногда большое значение имеет история отношений. Обратное движение от «преступления» как юридической категории, или от «правового спора», к конфликту между людьми и конструирование процедуры его разрешения – такой поворот к человеку предлагается восстановительным правосудием. В этом его гуманистическая направленность.
«Гуманистическое» имеет множество интерпретаций – в философии, науке, истории, социальной практике. Его содержание связано с теми или иными концепциями и обретает определенный понятийный язык. В первой главе мы показали, что «науки о человеке» осуществили попытку переопределения предмета судебного исследования: от «преступления» (которое для наук о человеке всего лишь предлог) к «преступнику». В результате юридические конструкции и процедуры претерпели некоторую трансформацию. В реагировании на преступление классическая карательная уголовно-правовая парадигма удерживает свои позиции в качестве базисной, но в то же время «поворот к человеку» реализован за счет психологизации юридических конструкций – появления понятий «вины», «субъективной стороны» как элемента состава преступления, за счет индивидуализации при назначении санкций и при исполнении наказания. И при всей формализации, безусловно, они гуманизировали правосудие и стали, равно как презумпция невиновности, содержательным наполнением общего принципа прав человека.
Однако «научная гуманизация» уголовного права превращает человека, обвиняющегося в совершении преступления, в «индивида, подлежащего познанию»135 – в объект научного исследования. «Гуманизация» приводит к диктату «специалистов по человеку» и снова к вытеснению самого человека. «В культуре специалистов в нашу бюрократическо-индустриальную эпоху экспертам доверяют толкование и оценку внутренней жизни человека, а это само по себе наиболее злостное и агрессивное достижение разделения труда»136.
В XIX в. одновременно со становлением позитивных наук о человеке формировался и другой взгляд – концептуальные основы «наук о духе», которые противопоставлялись «наукам о природе» и заложили основы гуманитарного подхода. В отношении к психологии различие естественно-научного и гуманитарного подходов проявлялось в оппозиции «объяснительной» психологии, рассматривающей человека в естественно-научной парадигме как внеположенный исследователю объект и претендующей на выявление и объяснение закономерностей существования такого объекта, и «понимающей», или «описательной», психологии, выстраиваемой на принципах гуманитарного знания137.
В сегодняшних дискуссиях активно проблематизируется естественно-научный подход к изучению человека138, формулируется необходимость поворота в познании от выявления общих закономерностей к единичному и индивидуальному. На место «измерения» в качестве метода выдвигается «понимание». Человек, поскольку он обладает самосознанием, рефлексией, способностью к самоопределению, осознанию и самоизменению, являет собой «уникальный объект» и не может исследоваться по аналогии с объектом природы. Полученные в естественно-научном исследовании знания адекватны научному предмету, т. е. определенной абстракции, но не человеку в его целостности.
Сама по себе методологическая постановка проблемы неадекватности естественно-научного подхода исследованиям явлений душевной жизни не привела к быстрому формированию новых практик работы с человеком. В то же время бурное развитие «позитивных наук», знаменующих собой прогресс человеческого разума, их высокий авторитет и экспансия в разные практические области привели к тому, что именно естественнонаучная парадигма оказалась ведущей (социально признанной) в изучении человека. При всей критичности предлагаемых позитивистами идей последние оказались довольно живучими, поскольку высокий авторитет науки в современном мире затемняет различия в подходах.
Практика, которая зиждется на идеалах научности (отождествляемых именно с естественными науками, построенными по образцу физики), т. е. имеющая претензию на получение «объективных знаний о человеке», содержит неустранимое противоречие между подобной претензией и адекватностью полученных знаний. Если мы вернемся к рассмотренным в первой главе идеям позитивистской школы и новой социальной защиты, то принципиального методологического различия по отношению к правонарушителю у них нет: и в том, и в другом случае тот подлежит научному познанию, где существенная роль отводится психологии. Операция, которая производится при научной интерпретации человека, состоит в том, что целое замещается частью – «умственными способностями», «подсознанием», «характером», «склонностями», «агрессивностью», «личностью» и проч. При этом «наиболее тонкая и современная подмена – подмена человека личностью, попытка выведения из нее самой оснований человеческой жизни, некий персоноцентризм, успешно насаждаемый и психологией»139. «Личность» – это научный конструкт, поэтому о «личности» можно получать объективные знания (в соответствии с уровнем развития науки), но человек с его индивидуальной историей, способностью к смыслообразованию и изменениям не сводится к конструкту.
В соответствии с естественно-научным подходом строится практическая психология, в основании которой – экспертное знание об обследуемом. Сюда относится в первую очередь психодиагностика и ряд направлений в помогающих профессиях, в основе которых лежит знание специалиста о клиенте. Такой подход с полным правом можно назвать экспертно-диагностическим. В противовес ему складываются такие гуманитарные практики, куда относятся некоторые направления в психотерапии, консультировании, в социальной работе, а также медиация, которые построены не на претензии профессионалов получить «знания о человеке как объекте исследования», а на диалоговых формах, где в коммуникации восстанавливается субъектность самого клиента, его авторская позиция по отношению к собственной жизни (подробнее см. в главе 3). Второй подход начинает играть все более заметную роль и в формировании образа мыслей, и в практиках работы с человеком. И, заметим, криминология – наука о преступности – тоже является полем приложения гуманитарных разработок и разделяется на течения в зависимости от приверженности к первому или второму подходу. На этом социокультурном фоне идет процесс становления концепции и практики восстановительного правосудия.
Таким образом, восстановительная концепция реагирования на преступления формируется как определенная институциональная фокусировка более фундаментальных гуманитарных представлений. В ее основе лежит идея передачи полномочий в разрешении конфликтов и криминальных ситуаций самим сторонам, т. е. «горизонтального» способа разрешения конфликтов, идея конструктивного потенциала самих участников конфликта, критика чрезмерного обеднения и упрощения той трактовки преступления, которая предлагается юридическим языком. Так что неслучайно формирование теории и практики восстановительного правосудия совпадает с периодом развития гуманитарного подхода в целом и является фактически площадкой его реализации в области уголовной юстиции.

Рис. 2. Источники и содержательные аспекты программ восстановительного правосудия
2.3. Категориальный аппарат восстановительного правосудия
Итак, критика карательного способа реагирования на преступления исходит из ценностей мира в сообществе и субъектности основных участников события – возвращения людям полномочий на разрешение их конфликтов. Исходя из основных пунктов критики формулируются основные целевые ориентиры нового правосудия: исцеление жертвы, ответственность правонарушителя в виде обязательства загладить причиненный преступлением вред, извинение и прощение. Такой перечень не выстраивается в «дерево целей», это, скорее, векторы внутри восстановительного способа разрешения конфликта. А кроме того, на метауровне цель состоит в том, чтобы сократить в социуме пространство реализации карательных практик, а следовательно, придать восстановительному способу правовой статус.
Идея альтернативы не возвращает нас в прошлое, но побуждает изучать его, сопоставлять с настоящим, рефлектировать свои ценности и конструировать современные формы воплощения старых (вечных) идеалов справедливости. Восстановительное правосудие выходит на историческую арену в конце ХХ в. не под лозунгом «назад к первобытнообщинному строю», а, хотя и рассматривая в качестве исторического прототипа общинные формы разрешения конфликтов путем переговоров и возмещения ущерба, опирается как в критической части, так и в конструктивной на ценности мира и совместной жизни, на приоритет в разрешении конфликтов гражданско-правовых начал и использование процедур, привлеченных из гуманитарных практик (переговоров и медиации), при сохранении, однако, гарантий прав человека, завоеванных человечеством в процессе развития права. Так что речь идет не о примитивных, а о достаточно сложных конструкциях.
Сегодня альтернативные, или внесудебные, формы (переговоры, посредничество, арбитраж) нашли широкое применение в разрешении хозяйственных, гражданских, трудовых, административных споров. Коснулась эта тенденция и уголовного правосудия. В уголовном правосудии, где защищается в первую очередь публичный интерес, возможность реализации указанной тенденции не столь очевидна. Однако идея альтернативы в реагировании на криминальные конфликты является уже не только критической, но и конструктивной, поскольку предлагает определенный способ реализации некарательного подхода.
За точку отсчета в складывании восстановительной практики принято считать случай в Канаде (Китченер, штат Онтарио, 1974 г.). По предложению офицера службы пробации и представителя местной меннонитской общины судья принял решение о том, чтобы двое молодых людей, совершивших акт вандализма, обошли всех пострадавших и возместили нанесенный ущерб140. Этот случай обычно называют первой программой примирения жертвы и правонарушителя. Такого рода программы стали появляться и в других местах, но в 1970-е гг. термина restorative justice еще не было.
Термин появился позже, в 1980-х гг., в работах, осмысляющих новый опыт, в частности в трудах одного из разработчиков первой программы примирения жертв и преступников в США (конец 1970-х гг.), одного из лидеров и теоретиков восстановительного правосудия Ховарда Зера141. Сегодня за термином «восстановительное правосудие» стоят разные практические модели реагирования на преступления, объединенные общей идеологией: направленностью на исцеление жертв, ресоциализацию правонарушителей и привлечение сообществ.
Восстановительный подход подытожил различные критические позиции относительно современного правосудия в ряде положений:
– пренебрежение нуждами жертв преступлений;
– усугубление десоциализации осужденных в силу отсутствия механизмов реальной ответственности и исправления;
– «борьба с преступностью», являясь картой в политических играх, не обеспечивает подлинной защиты общества;
– обществу дорого обходится «борьба с преступностью» в ее сегодняшних формах;
– реагирование на преступления должно отвечать гуманистическим ценностям и пробуждать в людях стремление к социальному миру, а не усугублять вражду и страдания;
– общество должно вернуть себе возможность участвовать в разрешении конфликтов.
Был выработан альтернативный понятийный аппарат (табл. 1). Ядром подхода становится иное понятие преступления: преступление есть в первую очередь насилие, обида, нанесенные другому человеку, а не выпад против государства142.
Преступление наносит вред конкретному человеку или определенной социальной группе, а потому порождает у совершившего его лица обязательство по заглаживанию вреда – именно так трактуется понятие ответственности. Соответственно радикально переформулируется цель правосудия: не наказание, а восстановление – разрешение конфликтной ситуации между людьми (а не процессуальными фигурами), примирение, исцеление и возмещение ущерба. Восстановление здесь понимается не формально юридически как восстановление нарушенного абстрактного правопорядка и ущемленных прав жертвы путем воздаяния нарушителю (и при полном фактическом равнодушии к драме и нуждам жертвы), но в широкой рамке человеческого измерения и социального мира:
– как исцеление жертвы;
– как реальное (а не виртуальное юридическое) возмещение причиненного преступлением ущерба, искупление вины преступником, заглаживание вреда;
– как восстановление нарушенных отношений в социальной общности;
Таблица 1
Карательное и восстановительное правосудие143
Основные понятия
Карательное правосудие
Восстановительное правосудие
Преступление
Виновное нарушение уголовного закона
Причинение вреда и обиды другому человеку (группе)
Стороны конфликта
Преступник и государство
Преступник и жертва
Ответственность
Наказание (претерпевание страдания)
Обязательство возмещения вреда
Принципы, лежащие в основе ответственности
Воздаяние по заслугам, неотвратимость наказания
Преступление порождает обязательства по возмещению вреда
Цель процесса
Установление виновности и назначение наказания
Разрешение ситуации, возникшей между людьми (удовлетворение потребностей жертвы, осознание нарушителем причиненного вреда, возмещение ущерба, восстановление социальных связей)
Форма процесса
Состязательность, противостояние позиций, деперсонализация
Диалог людей, персонализация
Результат процедуры
«Выигрыш/проигрыш»
Примирение, «выигрыш/выигрыш»
Что является предметом упрека
Преступник
Преступление
Субъекты решения
Государственные органы
Стороны и ближайшее социальное окружение
Социальная функция
Изоляция преступников от общества, подтверждение властной функции государства
Ресоциализация преступников, исцеление жертвы, интеграция социальной общности
Ресурсы для решения проблем
Институты государственной репрессии
Способность людей к взаимопониманию и самоизменению, стремление договориться, опора на ближайшее социальное окружение (неофициальные механизмы социального контроля)
– как забота о будущем – решение проблем, приведших к преступлению, и проблем, возникших в результате преступления.
Это фундаментальные характеристики восстановительного правосудия. Основными действующими лицами решения проблемы, связанной с конкретным преступлением, его причинами и последствиями, становятся сами участники события – правонарушитель и жертва. Во главу угла здесь ставится диалог сторон.
Восстановительный подход – отнюдь не попустительство и всепрощение, это здравый смысл общества. Здесь не в меньшей, но в гораздо большей степени реализуется принцип ответственности правонарушителя: программа восстановительного правосудия проводится только в том случае, если он признает факт совершения деяния и готов загладить причиненный вред. Осужденный же «карательной» юстицией чаще всего считает себя жертвой (обстоятельств, правоохранительных органов, суда) и, отбывая наказание, формально («как бы») несет приписанную ему ответственность перед обществом, но не берет на себя реальной ответственности перед потерпевшим. Наказание в принципе не может исправить ситуацию, порожденную преступлением, но добавляет к ней еще большие страдания, увеличивая «суммарную» жестокость в обществе. И, как правило, потерпевший в этом случае не получает реальной компенсации за причиненный преступлением вред – ни материальной, ни моральной. В случае же восстановительного правосудия «отвечающий» является не пассивным претерпевающим объектом, а активным субъектом, который только и может нести подлинную ответственность. Поскольку ответственность «подразумевает “ответ”, способность “отвечать на что-либо”»144.
В соответствии с новым взглядом складывается практическая форма, ядерным элементом которого является посредничество, или медиация (mediation).
В широком смысле термином «медиация» обозначается способ разрешения конфликта с помощью беспристрастной третьей стороны, когда решение принимается самими сторонами. В Рекомендации № R (99) 19, принятой Комитетом Министров Совета Европы 15 сентября 1999 г.145 (далее в тексте – Рекомендация), дается определение медиации по уголовным делам: это процесс, «в рамках которого пострадавшему и правонарушителю предоставляется возможность, в случае их добровольного согласия, с помощью беспристрастной третьей стороны (медиатора) принимать активное участие в разрешении проблем, возникших в результате преступления»146. Упоминание в качестве сторон только пострадавшего и правонарушителя не исключает участия в медиации и других лиц147 (родителей, близких людей с той и другой стороны, специалистов, представителей учебного заведения и проч.).
Главная задача медиатора состоит в организации встречи правонарушителя и жертвы. Такие встречи направлены на разрешение конфликта между людьми, обсуждение и решение проблем, возникших в результате преступления, принесение извинений, достижение соглашений, заглаживание вреда.
В 1970-е гг. такие специально организованные встречи получили название «программы примирения жертв и правонарушителей» (Victim-Offender Reconciliation Programs – VORP),