Часть первая Трудное детство, тревожная юность
Глава первая Происхождение
За полтора тысячелетия до того, как албанцы-арнауты сделались прославленной элитой вооруженных сил турецкой Османской, или Оттоманской, империи, их предки-иллирийцы (вероятно, родственные древним венетам) по праву считались элитой отборных данубских (или же, по-современному – дунайских) легионов другой, Римской империи. Эти суровые, немногословные отпрыски пиратов, горных пастухов и земледельцев (покоренных в свое время римлянами с большим трудом в ходе нескольких кровавых войн) с завидным постоянством снабжали Римскую державу не только воинами для обороны имперских границ (считавшихся официально, нередко – вопреки очевидности! – неприкосновенными и нерушимыми), но и верховными владыками – императорами (то есть «повелителями»), именуемыми так по-латыни, по-гречески же – автократорами (то есть «самодержцами») или василевсами (базилевсами, базилеями, басилеями, Василиями, то есть «царями»). Отнюдь не самые худшие из римских самодержцев – Деций, или Декий, Аврелиан, Проб, Максимиан Геркулий (тесть будущего первого христианского императора римлян Константина Великого) – начинали свою головокружительную карьеру воинами низкого происхождения, родом из иллирийского Сирмия. Галерий происходил из иллирийской же Сардики (современной Софии, столицы Болгарии), Иовий Диоклетиан, Диоклитиан или Диоклециан – из Салон (позднейшего Спалато-Сплита) в Далматин. С учетом вышесказанного, в происхождении деда главного героя настоящего правдивого повествования – императора Констанция, или Константия I Хлора (одного из четырех тетрархов-соправителей, между которыми верховный император – август Диоклетиан разделил Римскую империю, с целью повышения эффективности управлении ею и снижения риска узурпации очередным честолюбцем высшей власти над державой «ромулидов») – не было ничего необычного: он родился в горах Дардании (современной Сербии) в семье «маленьких людей», поклонявшихся Солнцу, дослужился из простых легионеров до трибунского (офицерского) звания и стал основателем династии Вторых Флавиев, к которой себя гордо причислял Юлиан Отступник – главный герой нашего правдивого повествования. Впоследствии льстецы-историографы пытались возводить происхождение Констанция I Хлора к древней императорской династии Антонинов,[14] а кое-кто – даже к еще более древней династии Первых Флавиев[15] – но это уж как водится…

Монета августа – гонителя христиан (и тестя первого императора-христианина Константина I Великого) – Максимиана Геркулия (с изображением его профиля на аверсе и всех четырех тетрархов-соправителей Римской «мировой» империи на реверсе)

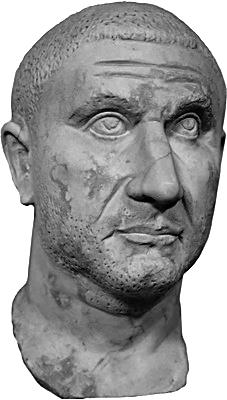
Римский император Констанций I Хлор (цезарь 293–305 гг., август 305–306 гг.), отец первого императора-христианина Константина I Великого (слева – в молодости, справа – в старости)
Судя по бюстам Констанция Хлора[16] и профилю этого весьма дельного римского императора, запечатленному на его монетах, основатель второй династии Флавиев (или династии Константинов) отличался крепким телосложением и энергичными чертами лица, которыми он походил на своего внука Юлиана – у них обоих были приятные живые, полные огня и выдающие тонкий ум глаза, красиво искривленные брови, прямой нос, несколько крупноватый рот, толстый и крутой затылок, сильные и широкие плечи. Именно таким описывает Юлиана Отступника (весьма самокритично оценивавшего собственную внешность, подчеркивая, что «природа не обременила его ни чрезмерной красотой, ни юношеской прелестью») один из его офицеров (назовем его так, чтобы не утомлять напрасно уважаемых читателей названиями чинов командного состава римской императорской армии), – служилый грек или эллинизированный сириец из Антиохии на Оронте (современной турецкой Антакьи) Аммиан Марцеллин (Маркеллин) – последний выдающийся латиноязычный римский историк позднеантичной эпохи, не раз встречавшийся с Юлианом лицом к лицу в военном лагере. При ознакомлении с биографией Юлиана II можно без труда убедиться в том, что он унаследовал от деда еще и иные свойства и черты характера – тонкую нервную организацию, чувствительность, возбудимость, восторженность, суеверное благочестие и прямо-таки азиатский мистицизм; истинно греческие артистические наклонности, любовь к наукам и искусствам, духовную живость и точность восприятия; простоту, энергичность и выносливость мизийского земледельца; все эти многоразличные элементы его крайне сложной натуры были им унаследованы – частично от предков по материнской линии или от его прабабки – сирийки царского рода по имени Феодора; частично – от его мизийских (мёзийских) предков-простолюдинов из данубских земель. Даже в царских домах, в которых особенно часто смешивалась кровь разного происхождения, нечасто можно было встретить столь причудливое сочетане и переплетение различных свойств.
Однако Юлиан обладал достаточной самодисциплиной для того, чтобы не стать игралищем своих разнообразных и разнородных инстинктов. Он постоянно остерегался поддаться им, и, тем не менее, постоянно ощущал свою неспособность полностью подчинить эти врожденные склонности своей воле. Порой он признавался себе и другим в недостатках и слабостях своего характера, в которых сам усматривал наследие своих предков-земледельцев: неотесанность, неловкость, грубость, неуклюжесть, упрямство и прочие признаки достойного порицания невежества и бескультурья.

Серебряная монета (аргентей) Констанция I Хлора с изображением его профиля на аверсе и четырех соправителей-тетрархов на реверсе
Не случайно Юлиан утверждал в своем весьма самокритичном сочинении «Брадоненавистник» (адресованном гражданам Антиохии Сирийской и потому именуемом суровым критиком Юлиана – святым Григорием Богословом – «Антиохиками»), к которому мы будем еще не раз обращаться по ходу нашего правдивого повествования: «они (греки – В. А.) более всех остальных народов боголюбивы и справедливы к иноземцам, имею в виду всех эллинов вообще, но в особенности – афинян, о чем и свидетельствую. И если они еще сохранили в своих нравах образ добродетели древних, то, конечно, естественно, чтобы то же самое было истинно и в отношении сирийцев, арабов, кельтов, фракийцев, пеонийцев и тех, кто обитает между Фракией и Пеонией, имею в виду поистрийских мизийцев, из которых происходит и мой род (курсив здесь и далее наш – В. А.), всецело дикий и кислый, неловкий, нелюбовный, непреклонный в суждениях – все эти качества суть, конечно же, доказательства ужасающей дикости».

Золотой медальон в честь победы римского императора Констанция I Хлора над британским сепаратистом-узурпатором Аллектом
Тем не менее, Юлиан удостоил именно своих «кислых» мизийских предков особого, сугубого культа. Их истовое поклонение богу Солнца, союзнику, хранителю и спасителю их власти, связывало Юлиана с этими предками наитеснейшим образом. Он любил, усердно почитал и неустанно восхвалял своего державного деда Констанция I Хлора, освободителя римской Британии от северных «варваров» – пиктов и скоттов – и победителя пытавшегося отделить Британию от Римской «мировой» державы местного узурпатора Аллекта, а также Клавдия II, усмирителя готов, получившего за свою победу над этими не раз опустошавшими земли империи «потомков Ромула» свирепыми германцами (которых считают своими предками шведы и, как это ни покажется странным – испанцы), от благодарных римлян почетное прозвище «Готик(ус)» – «Готский». По глубочайшему убеждению Юлиана, август Клавдий II Готский пришел к верховной власти над Римской «мировой» империей стезей справедливости и благочестия, сохранив и на престоле простоту нравов и скромность в одежде, в которой можно было убедиться, глядя на его изображения.

Марк Аврелий Валерий Клавдий, более известный в римской историографии как Клавдий II Готский, – римский император, правивший в 268–270 гг. Изображение на римской золотой монете – аурее (аврее)
Однако же, превыше своих доблестных, благочестивых предков Юлиан ставил, ценил и восхвалял озаряющего всех их своими светлыми лучами бога, к которому возводил, через этих предков, как бы «светивших миру отраженным божественным светом», свое происхождение – бога Солнца, подателя добра и добродетели, могущества и славы, небесный образец великодушия, правды и справедливости, неустанно ратоборствующего против сил Тьмы и Хаоса в качестве благодатного Владыки Небес и милосердного Правителя Земли. Именно род бога Солнца он, Юлиан, в которого этот бог вложил все, достойное бессмертия, был горд и счастлив продолжить на земле.
В эпоху, когда представления людей были преисполнены образов бесчисленных ангелов и демонов, предназначенных Высшими Силами для того, чтобы таинственными, мистическими путями сопровождать нисхождение душ со светил на эту землю, смысл изучения людских генеалогий, родословных, заключался в поиске подтверждения сверхъестественного происхождения и божественного покровительства, которым пользовался (или верил, что пользуется) тот или иной потомок того или иного предка. Люди исследовали свое происхождение, чтобы знать, кто был тем духом и тем светилом, под влиянием, опекой, покровительством которого они, эти люди, пребывали в земной юдоли. Следует заметить, что на этот счет Юлиан был достаточно полно и подробно осведомлен. Он твердо знал, что его душа сошла на землю с лучом бога Солнца. И детское благочестие, ощущаемое Юлианом по отношению к этому царю светил, укрепляло в нем горделивое чувство собственного избранничества и ревностную веру в несравненно большей степени, чем все влияния земного, кровного родства и происхождения.

Боголюбивый император Константин I Магн (Великий)
Августейший дядя Юлиана – император Константин I – был прозван Великим (или, по-латыни – Магном), прежде всего, за свои неоценимые заслуги перед христианством, которое он, разбив в 312 году в исторической битве при Мильвийском, или Мульвийском, мосту у врат Рима на Тибре своего соперника-язычника Максенция (сына тестя Константина и лютого гонителя христиан Максимиана Геркулия), в 324 году сделал господствующим вероисповеданием Римской «мировой» державы.

Соперник Kонстантина I Великого – yзyрпатор-язычник Максенций
Однако первый христианский император имел, как уже упоминалось выше, выдающиеся и неоспоримые заслуги в самых разных сферах. Он завершил военную реформу, начатую «господином и богом» Диоклетианом Иовием («сыном Иове», то есть «сыном Юпитера»), которому долго и верно служил (не разделяя его яро антихристианского настроя). Константин I разделил вооруженные силы воссоединенной им Римской «мировой» империи на две части – сравнительно легковооружейные пограничные войска (лимитанеи) и тяжеловооруженные части полевой армии (комитатенсес). Первым надлежало сдерживать врагов, вторгавшихся извне в пределы Римской «мировой» державы. А вторым, перебрасываемым из центральной части империи на угрожаемые участки – этих внешних врагов уничтожать.

Легковооруженные римские воины эпохи поздней империи
Вследствие огромной (если не сказать – катастрофической) убыли собственно римских (рожденных в пределах империи) воинов в ходе опустошительных внешних и междоусобных войн, а также эпидемий, реформа Константина I ускорила и усилила начавшийся еще до него процесс комплектования пограничных легионов преимущественно из «варваров» (главным образом – германцев, но не только). Одних только германцев-готов (соплеменников первого педагога Юлиана – ученого «скифа» Мардония, о котором будет подробней рассказано далее), служивших под знаменами августа Константина, в качестве «федератов» (союзников), насчитывалось сорок тысяч. Похоже, римское войско времен поздней империи просто не могло обойтись без готских «вспомогательных» частей. Не зря восточноримский историк готского происхождения Иордан писал в своем труде «О происхождении и деяниях гетов (причинившего римлянам немало хлопот фракийского по происхождению народа, с которым Иордан отождествлял своих соплеменников-готов, с целью их дополнительного возвеличения – В. А.)», именуемом сокращенно «Гетика»: «… после того как цезарь Максимин с их (готских наемников – В. А.) помощью обратил в бегство царя персидского Нарсея (Нарсеса, Нарсе – В. А.), внука великого Сапора (то есть Шапура, или Шахпура I, неоднократно наносившего римлянам тяжелые поражения – В. А.), и захватил все его богатства, а также жен и сыновей, Диоклетиан же одолел Ахилла (одного из претендентов на римский императорский престол – В. А.) в Александрии, а Максимиан Геркулий («сын Геркулеса» – В. А.) уничтожил в Африке квинквегентианов (одно из воинственных берберских или мавританских племен – В. А.) – в (Римском – В. А.) государстве был достигнут мир, и готами начали как бы пренебрегать. А было время, когда без них римское войско с трудом сражалось с любыми племенами».

Германцы-готы в сражении с римлянами
Император Константин I Великий, как было сказано выше, из-за острой, хронической нехватки живой силы, воинственными и весьма боеспособными готами (которые успели доставить римлянам немало хлопот и которым предстояло доставить «потомкам Энея и Ромула» еще больше хлопот в не столь далеком будущем), пренебрегать перестал – и совершенно правильно сделал. Привлечение «варваров» (умевших и, главное – любивших воевать, в отличие от все больше утрачивавших былой боевой дух и стремившихся под любыми предлогами «откосить» от некогда столь почетной в глазах всякого уважающего себя римлянина службы в «доблестных рядах» непобедимых легионов, «потомков Энея и Ромула») к службе в римской армии казалось ему делом совершенно правильным и очень выгодным. Почему бы не истреблять «варваров» руками «варваров», к вящей славе «вечного» Рима… Римские легионы были им разукрупнены (составляя теперь каждый не более тысячи воинов во главе с военным трибуном, то есть примерно одну пятую легиона времен Гая Юлия Цезаря), чтобы увеличить их мобильность и ослабить исходящую от них угрозу военного мятежа (шансов на преступный сговор командиров двадцати легионов было куда меньше, чем на сговор командиров четырех). Теперь сильно «разбавленные варварами» легионы строились в колонны. Численность воинских подразделений, именовавшихся не только легионами и авксилиями, но также вексилляциями, когортами, алами, кунеями (то есть «клиньями» – это название явно указывает на то, что данные подразделения состояли из германцев на римской службе, ибо германцы в бою традиционно строились клином, «свиньей» или «кабаньей головой»), нумерами и эквитами и находившихся под командованием офицеров в звании трибуна или префекта, уменьшилась и сильно колебалась, в зависимости от строя и иных условий. При этом было упразднено прежнее разделение офицерских чинов на низшие, или унтер-офицерские – центурионы – и высшие – военные трибуны, префекты и легаты, доступные лишь выходцам из высшего – сенат(ор) ского и второго по знатности – всаднического – сословия. Отныне воинам самого простого, и даже «варварского» происхождения была предоставлена реальная возможность дослужиться до самых высших чинов, вплоть до военного магистра. Легионеры (правильнее было бы сказать «легионарии», но по-русски «легионер» звучит как-то привычнее) в большинстве своем перешли на копье, спату[17] и облегченный овальный щит-парму легковооруженных ауксилиев (авксилиев), ауксилариев (авксилариев), или ауксилиариев (авксилиариев)[18] – взамен пилума[19], гладия[20] и тяжелого скутума[21]. В комплекс их вооружения вошли типично «варварские» боевые топоры или секиры. Были существенно облегчены доспехи (вплоть до частичного отказа от тяжелых лат и до замены цельнометаллических или покрытых металлическими пластинами шлемов шапками из кожи и меха). «По одёжке протягивай ножки!» В условиях всеобщего оскудения вследствие поразившего империю хозяйственного кризиса приходилось на всем экономить! В дальнейшем легионы (не только пограничные) все чаще уступали место наемным чисто «варварским» подразделениям под командованием не римских комесов, или комитов[22], и трибунов[23], а «варварских» вождей. Хотя и сами легионы уже почти поголовно состояли из тех же «варваров» (включая командный состав). Но это случилось уже после святого равноапостольного царя Константина (как его поныне именуют на Руси)…

Римская тяжелая пехота эпохи поздней империи (современная реконструкция)
В Ветхом (Первом), италийском, Риме, как и в Новом (Втором) Риме – Константинополе – были дислоцированы гвардейские части – дворцовые войска (палатинская авксилия, auxilia palatina) и «военная свита» императора (протекторы доместики, protectores domestici), предназначенные для охраны «священной» особы августа и заменившие собой прежнюю преторианскую гвардию, окончательно распущенную при Константине Великом.
Вся Римская империя была разделена на военные округа – дукаты – во главе с «дуксами» – Восток, Иллирия (Иллирик), Фракия и др. Военные округа не совпадали с административными (чтобы не дать «дуксам» чрезмерной власти). «Дуксы» носили (как и комиты) почетное звание «вири спектабилес» и занимали второй в служебной иерархии ранг после имевших первый ранг префектов претория и магистров, носивших почетное звание «вири иллюстрес». При этом по старой памяти, «дуксами» (лат. «вождями», «предводителями») продолжали именовать, в расширительном смысле, и полководцев вообще.
Брат по отцу благоверного августа Константина I Великого и отец нашего Юлиана – Юлий Констанций, законный сын императора Констанция I Хлора и Феодоры, большую часть своей земной жизни влачил поистине призрачное существование. Рожденный в 292 или в 293 году, он едва успел достичь юношеского возраста, когда в 306 году пришел к власти его сводный брат Константин, незаконный сын Елены – наложницы (или, по-латыни – конкубины) Констанция I Хлора. Елена, бывшая владелица распивочной или таверны (а по-нашему – харчевни), вознесшаяся волею судеб (или Божественным произволением) до положения матери императора, сразу же переселилась во дворец к своему торжествующему сыну-самодержцу, на которого всю жизнь оказывала колоссальное влияние, в том числе – и в сфере покровительства христианской вере.
Неудивительно, что безродная наложница императора Констанция I Хлора, брошенная им когда-то ради высокородной законной супруги – Феодоры – получила теперь от своего воцарившегося над «Римом и миром» сына в утешение ранг «благороднейшей женщины» – нобилиссима фемина – и долгожданную возможность в полной мере насладиться местью детям императрицы, когда-то оттеснившей ее от двора. Не зря говорят, что «месть – блюдо, которое следует подавать холодным». Дочери Феодоры были, впрочем, пощажены. Им предстояло, сделав блестящие партии, упрочить влияние второй династии Флавиев. Анастасию выдали за Вассиана (Бассиана), Констанцию – за Лициния (соправителя Константина), Евтропию – за консуляра[24] Непотиана (Непоциана)[25]. Сводным братьям Константина повезло куда меньше – они были немедленно удалены от двора. Впоследствии Юлиан сравнивал неприкаянное существование своего гонимого подозрительной мачехой из города в город отца-несчастливца со скитаниями бесприютного Одиссея.
Наконец Юлий Констанций нашел себе прибежище в Толосе (современной южнофранцузской Тулузе) – богатом торговом городе, средоточии античной учености, расположенном на территории Нарбонской Галлии. Судя по всему, молодой царевич (назовем его так, чтобы уважаемым читателям было понятнее) вел там, со своими братьями-изгнанниками Далмацием, или Далматием, и Ганнибаллианом, или Аннибаллианом, пребывая как бы в ссылке, уединенную жизнь питомца наук. Вне всякого сомнения, он был христианином и посещал в Толосе лекции знаменитых риторов, сиречь учителей красноречия, ограничиваясь достаточно узким кругом знакомств.

Августа Елена I, мать августа Константина I Великого
Около 324 года – возможно, по случаю двадцати летнего юбилея своего прихода к власти – август Константин I Великий возложил на главу своей и без того щедро осыпанной им богатствами и почестями матери Елены императорскую диадему, или диадиму, то есть корону или, по-нашему, царский венец, присвоив ей титул августы и повелев чеканить монеты с ее именем. Казалось бы, что ей оставалось еще пожелать? На самой вершине земного могущества и славы мстительные чувства былой трактирщицы по отношению к «отродью» ее ненавистной соперницы утратили былую остроту. В порыве великодушия бывшая кабатчица (принадлежавшая к числу ревностных христианок и весьма способствовавшая улучшению положения своих единоверцев и единоверок под скипетром Константина) даже позволила выбить в память Феодоры золотые и серебряные монеты, подобные выбитым в честь нее самой, Елены, и допустила некоторое сближение между своим родным сыном – императором Константином – и его сводными братьями. В 324 году Далматий-Далмаций получил важную государственную должность. Примерно в это же время фигура Юлия Констанция появилась на живописном фоне тускульской (а говоря по-современному – тосканской) сельской виллы. Он сочетался первым браком со знатной римлянкой по имени Галла. Галла происходила из родовитой фамилии, давшей Римской «мировой» империи целый ряд высокопоставленных чиновников и сыгравшей, по воле императора, немаловажную роль в ходе борьбы между кафоличеством («никейством», или, иначе говоря, православием) и арианской ересью[26], чьи приверженцы пытались рационалистически, силами слабого человеческого разума, истолковать основной догмат христианской веры. Скажем несколько слов о сути этой борьбы. Арианство получило свое название по имени александрийского пресвитера Ария, воспитанника Лукиана Антиохийского (причисленного православной церковью к лику святых). Идеи Ария напрямую перекликались с идеями другого великого христианского мыслителя – Оригена. Основная идея Ария и его последователей – ариан сводилась к тому, что Бог един, бестелесен, является источником жизни всех существ и не имеет начала своего бытия. То обстоятельство, что Иисус имел начало своего бытия, трактовалось Арием однозначно – Иисус сотворен и, как творение Бога, Сам не может быть Богом. Он – не единосущен (греч. «омоусиос»), но подобносущен («омиусиос»)[27] Богу-Отцу.
Борьба между православной, или кафолической, церковью и арианством носила временами крайне ожесточенный характер и шла с переменным успехом. Первый Вселенский собор, состоявшийся в малоазиатском городе Никее в 325 году, осудил арианство. Именно с победой «никейства»-православия, или же кафоличества, над арианством многие богословы и историки церкви связывают появление гимна «Свете тихий» – древнейшей, наряду с Великим Славословием и «Сподоби Господи», – христианской песни, датируемой как раз началом IV века п. Р. X. Пресвитер Арий был подвергнут изгнанию, его сочинения были признаны еретическими и как таковые подлежали сожжению. Однако Антиохийский поместный собор 341 года утвердил арианство в качестве официального христианского учения (хотя к этому времени от изначального учения Ария уже мало что осталось). Сам первый христианский император Рима Константин Великий был окрещен на смертном одре арианином – епископом Евсевием Никомидийским. Сын Константина – август Констанций II, римский император Востока Флавий Валент II и другие венчанные владыки римлян были не православными-«никейцами», а арианами («омиусиями», «омиями»). Окончательный запрет арианства и его проповеди на территории Римской империи был осуществлен лишь православным императором Феодосием I Великим после вынесения соответствующего постановления Первым Константинопольским поместным собором восточных иерархов (переименованным впоследствии, задним числом, во Второй Вселенский собор христианской церкви) в 381 году.
Следует заметить, что граничившие с Римской «мировой» державой, проживавшие на ее территории в качестве военных поселенцев и служившие в «несокрушимой и легендарной, в боях познавшей радость побед» римской армии германцы, окрещенные римскими проповедниками христианства в его арианской форме (еще не осужденной в самом Риме как ересь), сохранили ему верность. Остготы, вестготы, лангобарды, бургунды, гепиды, вандалы продолжали, за редкими исключениями, исповедовать арианство, даже становясь «федератами» Римской империи, перекрестившейся из арианства в православие. Очевидно, политеистические дохристианские религиозные воззрения германцев были еще настолько сильны в их среде, что мешали им принять православный догмат о нераздельности, неслиянности и единосущности всех ТРЕХ ЛИЦ БОЖЕСТВЕННОЙ ТРОИЦЫ (Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого). Даже Толедский церковный собор 589 года, созванный принявшим православие царем вестготов Реккаредом I, не решился на репрессии в отношении арианского духовенства. Хотя эпоха арианства медленно, но верно, клонилась к закату.
Уже в VI веке арианские церкви и их собственность массово передавались православным (никаких «католиков» до отпадения западной римской церкви от единой православной кафолической – вселенской – церкви в 1054 году не существовало). Но лишь к VIII веку приверженность арианству в Европе сошла на нет, пока оно не возродилось в начале XVII века в форме ереси социнианства. Некоторые интеллектуалы и ученые, например сэр Исаак Ньютон, становились сторонниками арианства и позднее, но оно никогда больше не вернуло своих утраченных позиций. Впрочем, пока что до этого было еще далеко. Мы же на прежнее возвратимся, как выражались в таких случаях древнерусские летописцы.
Благородная Галла родила Юлию Констанцию троих детей – дочь по имени Констанция и двух сыновей, младший из которых – Галл – родился примерно в 325–326 гг. в поместье Масса Ветерненсис в Этрурии. Имя этого Галла снова встретится нам с уважаемым читателем при ознакомлении с самым мрачным периодом жизни его сводного брата Юлиана.
«Недолго счастье длилося», как поется в русской народной песне. Очень скоро обстановка в окружении августа Константина I вновь изменилась к худшему (для его сводной родни, разумеется). Вновь вспомнились старые обиды. Юлию Констанцию пришлось покинуть так полюбившуюся ему благодатную Италию и в очередной раз превратиться в бесприютного скитальца. Превратности изменчивой судьбы привели его в славный греческий город Коринф (в свое время разрушенный римлянами, но затем восстановленный диктатором Гаем Юлием Цезарем), где изгнанника ждал неожиданно теплый и радушный прием. Там, где горные цепи Парнаса и Киферона живописно отражались в перламутровых или лазоревых водах залива (меняющих свой цвет в зависимости от погоды), он ощутил то же умиротворение и счастье, что и Одиссей, после десятилетия опаснейших скитаний по грозным морям и зачарованным островам, накануне возвращения на Итаку на веселом празднестве у хлебосольного царя феаков Алкиноя. Коринф стал последним поприщем его долгих скитаний. Оттуда он смог в 330 году возвратиться во Второй Рим на Босфоре, откуда был когда-то изгнан происками ревнивой мачехи. После смерти своей первой жены, Галлы, Юлий Констанций сочетался вторым браком с молодой христианкой по имени Василина (Базилина), родившей ему сына, названного Юлианом.

Профиль императора Лициния – соправителя, зятя и соперника Константина I Великого – на монете
Василина происходила из знатного рода. Ее отцом был некий Юлий Юлиан, матерью – некая патриция (патрикия) [28], владевшая в (Малой) Азии обширными земельными угодьями и роскошными сельскими виллами. Судя по всему, Юлий Юлиан был префектом (губернатором) Египта, считавшегося, наряду с (Северной) Африкой, главной житницей Римской империи. Во всяком случае, не говоря уже о присвоенном ему высоком ранге префекта претория – своего рода премьер-министра (316–324) – он занимал весьма важные позиции в годы правления Лициния, или Ликиния – соправителя, зятя и неудачливого соперника равноапостольного царя Константина.
Двор императора Лициния в Никомидии, или Никомедии, главном городе древней Вифинии, да и сам он, пребывали всецело под влиянием его супруги Констанции. Она была родной и уравнения их в правах с патрициями (к началу III века до Р. X.) верхушка патрициата и плебса, слившись, образовали «нобилитет» («знать»), или «сенаторское сословие». В эпоху ранней Римской империи возник новый патрициат, составивший привилегированную часть сенаторского сословия. В этот новый патрициат входили выдвинутые императором уроженцы не только города Рима на Тибре, но также Италии и римских провинций. К этому времени старые патрицианские роды вымерли, и сословие патрициев пополнилось за счет неофитов, «аристократии по письму», которых возводил в патрицианское достоинство в награду за службу император (этот процесс был начат еще диктатором Гаем Юлием Цезарем в конце I в. до Р. X.). сестрой Юлия Констанция, сводной сестрой августа Константина I и теткой «нашего» Юлиана. Церковные историки сообщают о многочисленных дипломатических успехах этой умной, волевой и своенравной государыни. При этом следует учитывать, что решающее влияние на многие действия и начинания Констанции оказывал один из наиболее выдающихся деятелей еретической (с точки зрения кафоликов-православных) церкви Востока – «великий Евсевий» (как его именует Фило-сторгий), Этот арианский епископ, которому суждено было впоследствии стать опекуном юного Юлиана, около 318 года прибыл из Берита (современного Бейрута, столицы Ливана) в Никомидию и очень скоро добился в императорской резиденции не просто власти, но прямо-таки полновластия. Он был связан родственными узами с Юлием Юлианом либо с его супругой. Вследствие чего можно предполагать, что между семейством префекта претория и могущественным епископом существовали тесные связи. И что Евсевий участвовал в строго христианском (хотя и арианском) воспитании обоих детей префекта – Юлиана, дяди и тезки будущего Отступника, и матери последнего – благочестивой Василины.
Историк Филосторгий утверждал (несомненно, следуя анонимному арианскому хронографу), что дядя императора Юлиана, подобно своему венценосному племяннику, стал отступником от христианства. Другой историк – Феодорит, однако, ничего не сообщает (или не знает) о данном факте, противопоставляя дядю Юлиана, сохранившего верность христианству, христианам Феликсу и Элпидию, или Ел(ь)пидию, ставшим ренегатами. В любом случае, было бы странно, если бы брат Василины не получил того же христианского воспитания, что и его сестра.
Юлий Юлиан, дед главного героя настоящего правдивого повествования по материнской линии, чью память Юлиан Отступник высоко чтил всю свою жизнь, был большим другом просвещения. Префект своевременно обратил внимание на выдающиеся задатки и таланты входившего в число его домашней челяди кастрата, или евнуха, по имени Мардоний, «скифа» по происхождению (с учетом того, что настоящих, ираноязычных, скифов в пределах грекоримской Экумены давно уже не осталось, склонные к архаизации окружавших их реалий греки и римляне называли «скифами» переселившихся на прежние скифские земли в Тавриде германцев-готов, ставших, к описываемому времени, важным фактором жизни империи, в первую очередь – в военной сфере, но не только[29]).
Этому якобы «скифу», в действительности же – готу (но в любом случае – «варвару») Мардонию[30] суждено было прославиться в качестве воспитателя Юлиана, введшего своего царственного питомца в храм эллинской мудрости (выражаясь возвышенным слогом его благодарного ученика). Просвещенный префект приказал дать одаренному «скифу» классическое воспитание и обучить его всем искусствам и наукам, после чего сделал его учителем Василины. Так юная патриция под руководством Мардония (о котором еще пойдет речь на дальнейших страницах нашего правдивого повествования) ознакомилась с творениями великих античных поэтов и писателей, изощряя и оттачивая под присмотром опытного ментора свой ум и дух, пока не стала соответствовать всем требованиям, предъявляемым в ее время к достойным представительницам культурных, просвещенных, образованных высших слоев грекоримского общества. Как впоследствии подчеркивал сын Василины – император Юлиан II: «Воспитан он (Мардоний – В. А.) был стараниями моего дедушки, чтобы провести мою мать через поэмы Гомера и Гесиода».
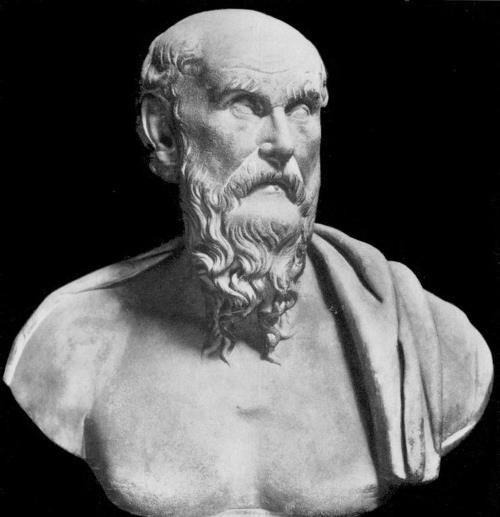
Гесиод, собравший в своей поэме «Теогония» («Феогония») древнейшие эллинские мифы о богах
Когда Юлий Констанций, попросив руки Василины, удостоил знатную и образованную грекоримлянку приема в императорскую фамилию, она, возможно, устрашилась отрывшейся перед ней не только весьма заманчивой, но и весьма опасной перспективы близости к императорскому двору (ведь «чем выше поднимешься, тем больнее падать»), но, вероятно, успокаивала себя тем обстоятельством, что могущественная августа Констанция одобрила этот брак, и что епископ Евсевий, ее родственник и духовный наставник, призвал на этот брак благословение небес.
Глава вторая На заре тревожной юности
Своим родным городом Юлиан Философ всегда считал возведенный на берегах Босфора Новый Рим, получивший со временем (а не сразу, как часто думают) название Константинополь, – чьи стены, башни, храмы и дворцы так живописно отражались в переливающихся перламутром водах залива, именуемого греческим географом римской эпохи Страбоном[31]«Рогом Византия», а нами, людьми XXI столетия – Золотым Рогом. Да и сам этот державный город, в чьих стенах царевич появился на свет и вырос, считал Юлиана своим, долгое время ему сочувствовал и симпатизировал.
Юлиан родился в Новом Риме на Босфоре до наступления зимы 331-33[32] года. Его матери, юной христианке-арианке Василине, пребывавшей на сносях, перед самыми родами, привиделось во сне, что она родила Ахилл(ес)а – величайшего из героев гомеровской Греции (русого, как и все Флавии, включая Юлиана), которого считал своим предком и которому всю жизнь подражал великий завоеватель, покоритель Востока Александр Македонский (тоже русый, как Ахилл).
Рассказывая этот удивительный сон своему супругу Юлию Констанцию, Василина, преисполненная величайшего волнения, если верить античным историкам, умудрилась «извести из белого чрева» (по выражению греческого сочинителя гимнов Пиндара) совершенно здорового мальчика, не испытав при этом ни малейшей боли. И потому счастливые родители возлагали на родившееся столь чудесным образом дитя величайшие надежды. Между тем, сон Василины вполне мог бы стать для них и поводом к беспокойству. Ведь, согласно Гомеру и другим эллинским мифологам, мать Ахилла – Фетида – родила сына-героя, которому, однако же, достались в удел короткая жизнь и горькая судьбина. Подобно Ахиллу, Юлиану предстояло пасть молодым на поле брани, сраженному метательным снарядом, пущенным в него предательски, исподтишка (хотя и поразившим его не в пяту, как Ахилла, а в бок). С этой точки зрения сон Василины оказался пророческим, вещим. Кто знает, приснился ли он ей в действительности или же это – всего лишь легенда, сохраненная для потомства восточноримским историком Иоанном Зонарой (со ссылкой на предшествующие исторические труды Евнапия[33] и Оривасия[34])? Впрочем, нередко легенда – всего лишь поэтизированное действительное событие, поэтому легенды так часто сохраняются в коллективной памяти человечества…

Александр Македонский в панцире с головой Горгоны Медузы
Благородный Юлиан вырос фактически без матери. Едва младенец научился улыбаться при виде лица склонявшейся над его колыбелькой Василины, как она умерла без всяких видимых причин. В соответствии со своей чувствительной натурой, Юлиан превратил память о матери в форменный культ. Хотя он и не любил роскошь, но долгое время не расставался с драгоценностями и украшениями, которые когда-то носила его мать, и назвал город, основанный им близ Никеи (современного турецкого Изника) в (Малой) Азии в честь своей родительницы Василинополем, то есть «городом Василины». Незадолго до собственной гибели он – неизменно верный памяти матери – воздал хвалу Провидению, позволившему ей умереть через несколько месяцев после его рождения, избавив ее тем самым от необходимости переносить жестокие удары злой судьбины. Ведь выживи Василина после на диво легких и безболезненных родов, ей вскоре пришлось бы стать свидетельницей неисчислимых и грозных опасностей, угрожающих жизни ее ребенка, и терзаться вечным страхом за жизнь своего порождения…
Первые шесть лет своей жизни Юлиан провел в гинекее – то есть на женской половине дворца —, после чего воспитатель-педагог, взяв мальчика за руку, впервые повел его в школу. Первым впечатлением, полученным мальчиком от мира, было впечатление от большого, шумного, многоязыкого и многонационального, совсем недавно и довольно неожиданно достигшего могущества и процветания столичного города, гордого множеством украшавших его блестящих памятников из мрамора и бронзы, которыми его основатель (или, если угодно – обновитель) украсил свою новую столицу – «царствующий град». Охваченный и воодушевленный страстным желанием не на словах, а на деле поскорее превратить новую, христианскую столицу воссоединенной им с превеликим трудом Римской «мировой» империи во Второй Рим, боголюбивый август Константин I Великий, начиная с 330 года, свез на Босфор великое множество (не менее двух тысяч) шедевров греческих ваятелей, оставшихся еще «неоприходованными» хозяйственными римлянами (совершенно не способными к ваянию) в Средиземноморье. И когда мальчик Юлиан – надо думать, находившийся под неусыпным наблюдением приставленных к нему наставников! – прогуливался по улицам и площадям своего родного города, его восхищенным взорам представал настоящий музей под отрытым небом.

Монета императора-солнцепоклонника Домиция Аврелиана (аверс) с изображением его бога – Непобедимого Солнца (реверс)
Из Афин, Дельф, Додоны, из священных рощ Геликона, изо всех частей Эллады, Смирны, Эфеса, с островов Хиос, Родос и Крит, первый христианский император собрал в «царственном граде» на Босфоре всю гордость и красу языческого мира. Выставив ее напоказ эллинам, римлянам и «варварам». На новоримском Форуме малютка Юлиан подолгу любовался великолепной порфирной колонной, стоящей по сей день близ Святой Софии. Сегодня оная колонна, почерневшая от удара молнии, лишена своего былого навершия. Но в годы детства и юношества Юлиана ее венчала колоссальная статуя императора Константина I, с челом, обрамленным нимбом из семи мистических лучей божества Солнца – Митры-Аполлона, именуемого римлянами, со времен мудрых и бесстрашных августов-воителей Септимия Севера[35] и Домиция Аврелиана[36], «Непобедимым Солнцем», по-латыни – Сол(ь) Инвиктус.
И юный царевич видел, как перед этим образом равноапостольного царя, украшенного атрибутами языческого бога Соля-Аполлона, преклоняли главу и христиане, и язычники.

Монета святого равноапостольного царя Флавия Валерия Константина I Великого (аверс) с изображением бога Солнца Соля-Аполлона-Гелиоса-Митры (реверс)
Были у бога Солнца и иные имена – Феб, Митра (Мифра), Эл(ь), Гелиос (Гелий)[37], или, в другом произношении – Илиос (Илий), Элагабал (Гелиогабал) [38]. Впоследствии Юлиан, отступивший от христианства, избрал своим небесным покровителем именно этого златокудрого, как и он сам, солнечного бога, под именем Гелиоса.
Заметим «в скобках», что по легенде о происхождении кумира царевича Юлиана – Александра Македонского – великий эллинский завоеватель, победитель персов и прочих «варваров», в кратчайший срок распространивший греческий язык и греческую культуру «до самых пределов обитаемого мира» и даже покоривший северную часть почти мифической, «потусторонней», сказочно богатой Индии (о повторении его подвига втайне мечтали многие эллинистические и римские монархи, включая самого Юлиана), был зачат царицей Македонии Олимпиадой не от ее законного супруга – царя Филиппа II Македонского —, а от явившегося к ней в виде змея бога Солнца (Амона, или Аммона, египетского аналога Аполлона). Кроме того, если верить римскому историку Гаю Светонию Транквиллу, автору жизнеописания первых двенадцати римских монархов-императоров («Жизнь двенадцати цезарей»), именно бог Солнца Аполлон, под видом дракона (то есть – того же змея – В. А.), разделив ложе с Аттией, пришедшей в его храм совершить обряд ожидания вещего сна, породил таким образом Августа (первого римского императора-принцепса и в то же время первого из «августов» – Октавиана, усыновленного впоследствии диктатором Гаем Юлием Цезарем, ставшего основателем первой римской императорской династии Юлиев-Клавдиев)» (Светоний. «Божественный Август»). Факт, что и говорить, многозначительный…

Философ-неопифагореец и теyрг I века Аполлоний Тианский
По легенде, императору Аврелиану в сонном видении явился философ-неопифагореец и теург I века Аполлоний Тианский, повелевший ему построить в Риме на Тибре храм Солнца. Господин и бог Аврелиан выполнил это повеление теурга, ввел в Риме культ Солнца и сам стал первосвященником этого культа (не привившегося, однако, в гражданской среде, в отличие от римской армии, где он тесно переплелся и фактически слился с культом иранского божества света, солнца и правды – Митры).
Заметим также, что язычники в своих молитвах именовали «Солнце, в пути неистомное» (как выражался Гомер в «Илиаде») не только «непобедимым», но и «праведным» (справедливым) – и это полностью соответствовало восприятию христианами Христа как «Солнца праведного», или «Солнца Правды»[39]. Не случайно в Православном тропаре Рождества Христова по сей день поется: «Рождество Твое Христе Боже наш, восс!я мирови свет разумный, внемъ бо иже звездамъ служапци, звездою поучахуся, Тебе кланятися Солнцу праведному, и Тебе ведети свыше Востокъ, Господи, слава Тебе».
Святой Дионисий Ареопагит (по преданию, обращенный в христианство в Афинах самим святым Павлом – «апостолом язычников») писал: «Ее (Причину всего, то есть Бога – В. А.) называют «солнцем», «звездой», «огнем»…» («О Божественных именах»).

Константин Великий и образ Sol Invictus. Медальон. 313 г.
А один из прозванных «великими каппадокийцами» святителей и столпов Христовой Веры, современников Юлиана – святой Григорий Богослов (Назианзин): «Солнце – образ (Бога – В. А.) Сына, Небо – образ (Бога – В. А.) Отца».
«Ведь в древности праздник солнца приходился именно на зимнее солнцестояние и именно в этот день, день Sol Invictas, постановил святой (император – В. А.) Константин праздновать Рождество Солнца Правды (Иисуса Христа – В. А.), которому поклонились цари-волхвы, цари Востока, цари от царя Мелхиседека…» (В. И. Карпец. «Родословие Кощея Бессмертного»).
В-общем, «бывают странные сближенья», говоря словами поэта. Но довольно об этом…
Новый Рим был блестящим и оживленным городом. «Владыка обитаемого мира» осыпал свою столицу на Босфоре бесчисленными знаками своей милости и привилегиями. «Варвары» были вытеснены за пределы «мировой» державы или казались покоренными римским оружием, интриги внутри императорского дома вроде бы прекратились. В 324 году благочестивый деспот приказал убить своих соперников в борьбе за императорский престол – Мартиниана (Марциниана) и Лициния (поверившего на слово и сдавшегося Константину I, обещавшему сохранить ему жизнь; впрочем, восточноримский историк готского происхождения Иордан, в отличие от других, более ранних, историков – к примеру, Аврелия Виктора – утверждал впоследствии, что Лициний был убит не по приказу Константина, а восставшими германцами-готами, своими бывшими союзниками, которые пронзили лишенного власти императора-неудачника мечом в городе Фессалонике… «от имени Константина-победителя») —, затем, в 326 году – устранить сына Лициния, но на этом не остановился.

Цезарь Флавий Юлий Крисп, старший сын Константина I Великого, казненный своим венценосным отцом
В приступе ревности (скорее всего – неоправданной) равноапостольный царь Константин повелел казнить своего собственного сына – цезаря Флавия Юлия Криспа, а после устранения Криспа – удушить горячим паром в бане свою супругу августу Фавсту (Фаусту, дочь свирепого гонителя христиан Максимиана Геркулия), якобы заподозренную им в преступной любовной связи с пасынком, уже павшим жертвой отцовского гнева. Полагая, что достаточно обезопасил этими убийствами свой престол и свое супружеское ложе, мстительный император счел возможным перейти к более умеренной и милосердной внутренней политике, постепенно допуская к власти своих родственников, сумевших уцелеть. Ибо вознамерился сделать императорскую власть наследственной, рассматривая Римскую империю, как наследственное достояние своего дома и рода (домен, или, говоря по-русски – вотчину). В 333 году сын Феодоры – цензор (ценсор)[40] Далмаций – получил инсигнии, сиречь знаки отличия консула (высшего магистрата-чиновника) – фасции (связки розог со вложенной в них секирой)[41] и трабею[42], после чего сын и тезка Далмация был назначен цезарем.

Римский кoнсyл в трабее
В 335 году, через пять лет после возвращения отца Юлиана в «царственный град» на Босфоре, по случаю тридцатилетия восшествия императора Константина I на престол, имя Юлия Констанция было внесено в консульские фасты (фасти консулярес – ежегодные списки консулов – высших магистратов, то есть высших римских государственных чиновников), и с «благороднейшим патрицием» – нобилиссимус патрициус – стали обращаться, как с царевичем, или, если использовать терминологию не Римской, а претендовавшей на ее преемство Российской империи – «князем крови императорской». Разделение власти в рамках императорской фамилии, осуществленное в это же время императором Константином I, можно считать первым из задуманных им проектов раздела Римской «мировой» империи (которую он сам так долго собирал воедино) между своими ближайшими родственниками. В самом выгодном и преимущественном положении оказались три провозглашенных цезарями родных сына и наследника Константина I – Константин Младший (будущий Константин II), Констанций и Констант. При этом следует подчеркнуть, что, хотя равноапостольный царь (оставивший себе Фракию и Грецию – современный Балканский полуостров) передал каждому из них в управление и наследство его удел (Константину Младшему – Испанию, Галлию и Британию; Констанцию – Азию и Египет; Константу же – Италию, Иллирию и Африку), они, цезари, по его замыслу, должны были оставаться любящими друг друга братьями, а Римская империя – единым целым. Иначе непонятно, чего ради Константин I Великий всю свою многотрудную жизнь занимался собиранием римских земель. Не остался обездоленным и цезарь Далмаций, которому была поручена «оборона готского берега Дануба». Брат Далмация, Ганнибалиан, получил власть над Понтом и Арменией со столицей в Цезарее (Кесарии) Каппадокийской с пышным титулом «царя царей» (который носили, в честь своих царственных персидских предков, правители эллинистического государства Понт, происходившие, по одной линии – от владык Древне-Персидской державы Ахеменидов, а по другой – от завоевавшего эту Древне-Персидскую державу Александра Македонского) и весьма заманчивой перспективой со временем распространить свою власть на (Ново-) Персидскую державу Сасанидов (также считавшихся потомками древних Ахеменидов) – Эраншахр («Арийское царство»), которую для этого, правда, еще предстояло завоевать и романизировать. Связи внутри этого правящего сообщества Вторых Флавиев были дополнительно упрочены путем заключения двух династических брачных союзов. Одна из дочерей Юлия Констанция, сводная сестра Юлиана, вышла замуж за сына равноапостольного царя – цезаря Констанция. Ганнибалиану же август Константин Великий обещал руку своей собственной дочери, Констанции (которой было суждено впоследствии стать супругой Галла – сводного брата Юлиана). В моменты кризиса император мог теперь окружить себя своими братьями, как своеобразным государственным советом. Таким образом, равноапостольный севаст постарался сделать все возможное, чтобы обеспечить мир, согласие и добрые отношения между всеми представителями своей династии. И надеялся, что восстановил, таким образом, покой и порядок.
Однако восстановленные, вроде бы, благоверным августом согласие и «мир во всем мире» продолжались, увы, недолго. В 336 году – Юлиану еще не исполнилось восемь – на Востоке стали вновь собираться грозовые тучи. По прошествии сорока мирных лет, там снова замаячила персидская угроза. Ко двору императора Константина I прибыло посольство от «царя арийцев и неарийцев» Шапура, или Сапора (как его именовали римляне и греки) II Сасанида, «брата Солнца и Луны», имевшее «типично варварскую» наглость потребовать уступки римлянами персам завоеванных августом Диоклетианом месопотамских провинций, прилегающих к реке Тигр.

Царь царей Персии Шапур II, «брат Солнца и Лyны»
В случае отклонения августом Константином требований шаханшаха Шапура персы угрожали возобновлением давней войны, длившейся, казалось, бесконечно, с незапамятных времен, хотя, естественно, с периодическими перерывами. В этой нескончаемой войне, ведшейся с переменным успехом, римляне потерпели от персов целый ряд тяжелых поражений. В III веке второй по счету персидский «царь царей» из дома Сасанидов (считавших себя, как уже было сказано выше, потомками и преемниками древних персидских царей из династии Ахеменидов, чье царство было в IV веке до Р. X. завоевано Александром Македонским, и теперь жаждавших реванша и мести грекам, не особо отличая их от римлян) – Шапур I, сын основателя династии – Ардашира Папакана, одолел римского императора Гордиана III (павшего в бою с персами, если верить персидским источникам, или убитого собственными приближенными, если верить источникам римским), принудил к унизительному миру его преемника – благосклонного к христианам (и, вероятно, тайного христианина) императора Филиппа I Аравитянина (Араба), взял в плен преследовавшего своих подданных-христиан императора Валериана I, так и умершего в персидском плену, подвергаясь всевозможным унижениям и, возможно, замученного до смерти (его останки были возвращены персами римлянам только через три столетия) и совершил еще великое множество подвигов на поле брани.

«Царь царей» (шаханшах) Эраншахра (Персии) Ша(х)пур I Сасанид (справа, верхом на коне) торжествует победу над Римом. Слева – принужденный Шапуром к миру римский император Филипп I Араб (Аравитянин), преклонивший колено перед царским конем.
Стоящий человек, схваченный Шапуром за руку – правивший после Филиппа римский император Валериан I, взятый персами в плен в 260 году и умерший в плену (Иран, Накше-Рустам)
А теперь вот новый «царь царей» – Шапур II, воинственный потомок Шапура I – вознамерился пойти по стопам своего победоносного предка.
Император Константин I Великий отвечал, что не замедлит лично выразить «царю царей» Шапуру свои чувства. Равноапостольный царь действительно возглавил весной карательную экспедицию против персов, фактически – первый в истории Крестовый поход объединенного Римом Запада на Восток. Ибо с собою благочестивый и христолюбивый август Константин (бывший солнцепоклонник, считавшийся теперь, после объявления Христианства государственной религией всей Римской «мировой» державы, императором не только всех римлян, но и всех христиан – «дьявольская разница!», как сказал бы «наше всё» Александр Сергеевич Пушкин) взял в поход на нечестивого персидского царя (все еще поклонявшегося по старинке Солнцу, Свету и Огню) особый шатер, в котором размещалась переносная военно-полевая церковь. Римское войско сопровождала целая группа христианских епископов, готовых молиться за успех военной экспедиции севаста-крестоносца против огнепоклонников. Однако, когда на небе внезапно появилась необычайно крупная хвостатая звезда (или, по-нашему – комета), римские войска пали духом. Вскоре после появления этого небесного знамения, не предвещавшего римлянам, по общему мнению, ничего хорошего, христолюбивый август Константин ощутил первые признаки поразившей его болезни, помешавшей ему осуществить свой Крестовый поход, доведя его до победного конца, дабы все языцы ему покорилися…

Святой равноапостольный царь Константин I Великий
Согласно биографу равноапостольного царя римлян и всех христиан Евсевию Памфилу (о котором еще пойдет речь далее), угроза римского вторжения настолько встревожила шаханшаха Шапура II, что тот, умерив свою прыть и обуздав свою воинственность, прислал посольство, чтобы заключить мир с равноапостольным императором. Мирный договор между Шапуром II и Константином I был заключен до праздника Пасхи – светлого дня Христова Воскресения —, то есть до 4 апреля 337 года. Прибыв в район целебных источников под Еленополем в Вифинии, Константин Великий остался там на лечение. Пройдя курс лечения на водах, благочестивый август совершил паломничество к мощам святого мученика Лукиана Антиохийского, особенно почитавшегося его матерью Еленой (хотя и объявленного впоследствии еретиком; впрочем, до этого было еще далеко!). Однако ни водолечение, ни паломничество к чудотворной святыне не принесли облегчения занедужившему императору, испытывавшему все большие страдания и пораженному жестокой лихоманкой, то есть, горячкой. Равноапостольный царь Константин был спешно доставлен в одно из императорских имений, расположенное близ Анкиры (столицы современной Турции – Анкары) под Никомидией. Там благочестивый василевс промучился на одре болезни шесть недель и, наконец, почил в Бозе. К счастью, умирающий, испустивший дух в Духов день, День Святой Троицы, 22 мая 337 года, успел перед смертью принять Святое Крещение…

Профиль августа Константина II на монете

Профиль августа Константа I на монете


Профиль августа Констанция II на монетах
Не вполне ясным представляется вопрос, был ли терзаемый жестокими приступами лихорадки август Константин в здравом уме и твердой памяти, необходимой ему для осознанного решения вопроса о престолонаследии. Епископ Евсевий Никомидийский причастил готовящегося к переходу в Вечность автократора Святых Христовых Таин, помог ему совлечь с себя царскую багряницу и вытянуться во весь рост на смертном ложе в белом облачении, дабы, паче снега убелившись и очистившись от всех своих многочисленных грехов (а кто из нас, смертных, не грешен?) приложиться к роду отцов своих в ореоле святости. До сих пор нет четкого и ясного ответа на вопрос, успел ли равноапостольный царь сообщить Евсевию свою последнюю волю? Епископ так и не раскрыл этой тайны историографам своего времени, так что придется нам с уважаемым читателем смириться с мыслью, что последние мысли умирающего самодержца остались погребенными во мраке смертного часа Великого равноапостольного василевса Константина I…

Ливаний
Скоропостижная кончина первого христианского императора вызвала глубокое потрясение в сердцах его подданных. Август Константин Великий был очень любим своими воинами, и траурные церемонии, прежде всего – в армии, были весьма впечатляющими. Скорбящие военные трибуны доставили роскошные носилки с телом усопшего императора в Новый Рим, где воздаваемые равноапостольному царю, посмертные почести вылились в форменный апофеоз, иначе говоря – обожение. В одном из парадных залов Священного Палатия – блиставшего баснословным великолепием константинопольского императорского дворца – было выставлено тело августа Константина I, облаченного в порфиру, или багряницу (то есть расшитую золотом пурпурную одежду) и увенчанного драгоценной диадемой (все – в подражание «царям царей» враждебной Риму сасанидской Персии, чьи невероятно пышные придворный церемониал и облачение римские самодержцы постепенно, во все большей степени, заимствовали и перенимали у своих противников, пока, при Диоклетиане, не сравнялись с ними в роскоши и блеске), на высоком катафалке, в окружении золотых светильников и дорогих настенных драпировок. День и ночь у гроба стоял на часах регулярно сменявшийся почетный караул в сверкающих доспехах и шлемах с пышными султанами. Причем усопшему монарху воздавались те же самые почести, что и живому правящему императору. В назначенные часы на торжественную аудиенцию к тщательно набальзамированному сиятельному трупу являлись пышно разодетые сенаторы, магистраты, придворные вельможи. Созданием иллюзии, что севаст Константин Великий как бы все еще жив, царедворцы надеялись избежать интриг вокруг внезапно опустевшего престола до прибытия в Царьград одного из наследников умершего. «Август жил, август жив, август будет жить!»…Для отца Юлиана было бы смертельно опасно, отстранившись от происходящего, не принимать участия в траурных церемониях. И потому наш нобилиссимус патрициус был вынужден вместе со своими сыновьями воздавать почести мертвому императору. Эта пышная демонстрация сиятельного трупа была первой встречей Юлиана со смертью. Очень скоро ему предстояло соприкоснуться с ней еще ближе, можно даже сказать – вплотную…
Благоверный цезарь Констанций, хотя и извещенный своевременно надежными гонцами о смерти своего августейшего отца, не смог сразу же прибыть в Новый Рим на Босфоре. Вследствие чего ещё 2 августа 337 года был обнародован закон, принятый от имени умершего, но официально все еще живого Константина I. И лишь после этого начались похоронные торжества, которыми руководил прибывший, наконец-то, во Второй Рим цезарь Констанций. Он распорядился похоронить отца в базилике Святых апостолов. 9 сентября 337 года все три сына почившего в Бозе Константина Великого – цезари Константин, Констант и Констанций – были провозглашены верховными императорами – августами. С момента провозглашения таковыми они могли по праву считать себя единственными легитимными владыками разделенной на три части Римской «мировой» империи.

Почти одновременно начали, (несомненно, с ведома августа Констанция II), распространяться тревожные слухи. Утверждали, что в руке усопшего первого христианского императора, прикрытой погребальной мантией, якобы было зажат свиток (или табличка) с завещанием, в котором Константин утверждал, что был отравлен своими братьями, оставлял империю в наследство своим трем сыновьям и одновременно призывал их обезвредить самым надежным способом виновников его смерти от яда. Об этом упоминают восточноримские историки Филосторгий, Иоанн Зонара и Георгий Кедрин. Скорее всего, именно этими сознательно распущенными по указке «сверху» провокационными слухами (что согласуется и с сообщением святого Григория Назианзина) был вызван военный мятеж, жертвой которого пали братья первого римского императора-христианина. Результат распространения облыжных обвинений не замедлил себя ждать. Разъяренные воины ворвались в резиденцию братьев севаста Константина I, и на берегу Босфора разыгралась первая из династических «кровавых бань», повторявшихся там с тех пор с завидным постоянством вплоть до времен османских падишахов, сменивших в 1453 году на цареградском престоле своих «ромейских» предшественников). Взбунтовавшимися воинами были зверски убиты отец, дядя, старший родной брат и несколько двоюродных братьев Юлиана (в общей сложности ни много ни мало – одиннадцать человек). Его сводный брат Галл, прикованный к одру болезни, был пощажен убийцами (то ли сжалившимися над болящим юнцом, то ли решившими, что он все равно не жилец на белом свете). Юлиан был обязан спасением от ярости убийц, скорее всего, своему нежному возрасту. Как утверждал впоследствии ритор, учитель и друг Юлиана – Ливаний, или Либаний, в своем надгробном слове павшему на поле брани императору-философу: «И вот Константин (Великий – В. А.) умер от недуга, а чуть не весь род, отцов и детей одинаково, обошел меч. Этот же человек (Юлиан – В. А.) и старший брат его от того же отца (Галл – В. А.) избегают великого смертоубийства, при чем одного (Галла – В. А.) спасла болезнь, которая представлялась достаточно опасной, чтобы окончиться смертью, другого (Юлиана – В. А.) возраст, так как он только что был отнят от груди.». Впрочем, согласно другой, достаточно достоверной, версии, спасителями юного Юлиана стали христианские священники, вставшие живой стеной между насмерть перепуганным ребенком и медлившими в нерешительности или успевшими остынуть воинами, а затем тайными ходами проведшие мальчика под защиту храмового алтаря. Юлиан до конца жизни не мог изгладить из своей памяти события того кровавого дня. Много лет спустя он прямо намекал на него при описании потрясшего его вещего сновидения (а говоря по-современному – «инсайта»), в котором лучезарный бог Солнца открыл ему смысл его жизненной миссии. Как утверждал Юлиан, тот день был днем резни, в который, как и в отношении рода Эдипа, по божественному произволению свершилось погибельное проклятие, и наследие его, Юлиана, отцов было разделено мечом («последовала всеобщая резня, и демон осуществил на деле трагические проклятия, и лезвия мечей разделили их вотчину, и все преисполнилось смятения»). При этом, однако, Отступник приписал свое спасение не христианским (или, как он выражался, «галилейским») священникам, а светлому, благому богу Солнца, во имя и ради которого он отрекся от христианской веры – Гелиосу (фактически слившемуся к описываемому времени в представлениях верующих в него язычников с Аполлоном), выведшему маленького царевича целым и невредимым из убийственной резни, кровопролития и смуты.
Глава третья Епископ Евсевий и евнух Мардоний
После того, как пронесшаяся над Юлианом буря улеглась, его миром стали приходящие в запустение дворцы и тихие улицы Никомидии (сегодняшнего турецкого Измита), расположенной на берегу Астакского залива на азиатской стороне Пропонтиды (сегодняшнего Мраморного моря), в северо-западной части Малой Азии. Туда Его Вечность август Констанций II, новый самодержец Восточной части Римской «мировой» империи, не решившийся «зарезать маленького царевича», приказал сослать осиротевшего мальчугана после убийства его злополучного отца.

Август-арианин Констанций II
В описываемое время римская (Малая) Азия, или Асия, вот уже полторы тысячи лет была очагом и средоточием культуры и культурных ценностей, наук, ремесел, знаний. Не только центром греческой колонизации, но и питательной средой для греческой культуры и образования. Задолго до Афин достигших расцвета и невиданных высот развития в славном и богатом городе Милете, героическое сопротивление которого персам было в свое время воспето афинянином Фринихом в трагедии «Падение Милета». Производившей на свет в каждом поколении гигантов духа и глубоких мыслителей. Рождавшихся под солнцем Азии и, наряду с эллинской кровью, хранивших в своих генах здоровое, могучее наследие пастухов Анатолийского плоскогорья и дикое непокорство киликийских мореходов. Эта часть света, куда древние греческие города-государства – полисы – Аттики и Пелопоннеса[43] издавна высылали своих неусидчивых «пассионариев», «людей длинной воли» (как выразился бы Лев Николаевич Гумилев), в куда большей степени, чем так называемая Великая Греция на Тринакрии-Сицилии и в Авзонии-Апулии[44], способствовала сохранению высокой эллинской культуры в ее полном блеске. Культуры, оказавшейся гораздо долговечней латинской Римской империи. И придавшей Второму Риму, в конце концов, чисто греческий характер. Именно в (Малой)
Азии, на восточных берегах Средиземного моря (именуемого «скромными» римлянами просто «нашим морем» – «маре нострум»), находилась духовная цитадель эллинизма, устоявшего под гнетом неотесанных мужланов с тибрских берегов. Дав повод классику римской поэзии Квинту Горацию Флакку сказать: «Греция, взятая в плен, победителей диких пленила». Иными словами, некультурные римляне, победившие греков силой оружия, переняли несравненно более высокую культуру побежденных. Римляне (естественно, в первую очередь – принадлежавшие к высшим слоям общества) начали «денно и нощно, не выпуская из рук» (по слову того же Горация), изучать греческую письменность, греческий язык (как средство международного общения, подобно английскому в наши дни), литературу, философию, покупать греков-рабов – для обучения своих детей, перенимать греческие обычаи, моду и правила жизни. Именно «из греческой школы вышло такое дивное создание римского гения, как речи Цицерона и поэзия Вергилия, с Энеидой во главе», как писал русский философ, богослов, литературный и музыкальный критик, композитор Владимир Николаевич Ильин. Мысль о родстве и равенстве римлян и эллинов во всех отношениях активно проводилась в жизнь на самых разных уровнях и в самых разных сферах государственной и общественной жизни – достаточно указать хотя бы на «Сравнительные жизнеописания» выдающихся греков и римлян, вышедшие из-под вдохновенного пера Луция Местрия Плутарха Херонейского, о которых еще пойдет речь далее. Пламенным и убежденным приверженцем мнения о равноценности, тождестве, идентичности грехов и римлян, был и Юлиан, утверждавший, без тени сомнения (и в то же время явно отдавая эллинам приоритет в этом «тандеме»):
«Ибо римляне не только относятся к роду эллинов, но и религиозные установления, и благая вера в богов, которую они утвердили и охраняют от начала и до конца – эллинские. Да и политическое устроение у них ничуть не хуже, нежели у лучших из эллинских полисов, если только не наилучшее из всех, какие когда-либо осуществлялись на практике. Поэтому, думаю, наш город (Рим – В. А.) эллинский и по роду, и по политическому устроению».
В конечном счете, эллинство добилось перевеса и триумфа над «латинством» (хоть «триумф» и римское понятие!), на тысячу лет пережив, в Малой Азии и Греции, римскую цивилизацию на италийской земле.
Но это так, к слову…
Никомидия давно уже не была императорской резиденцией, как во времена императоров Диоклетиана и Лициния (да и Константина Великого, до переноса им столицы империи в бывший Византий). Верховные владыки римлян посещали Никомидию лишь изредка, время от времени, но, тем не менее, она продолжала не только по традиции считаться, но и реально оставаться одной из «жемчужин» римской Азии. Внушительным видом своих бесчисленных монументов, здания сената, крытых галерей и колоннад, храмов, терм (или, по-нашему – общественных бань) и театров, мощных стен и обширных портовых сооружений она еще издалека приводила в восхищение прибывавших в Никомидию перегринов – путешественников, как только их взорам представали на горизонте, после горного пейзажа, очертания города. В этом красивом городе было нетрудно следить за ссыльными таким образом, чтобы те не замечали слежки.
Изгнанный из столицы империи, лишенный всего и находившийся под угрозой испытать на себе все еще не улегшийся гнев своих недоброжелателей мальчик Юлиан был взят под покровительство епископом ставшего его пристанищем города – Евсевием Никомидийским. Епископ понимал, что, согласившись взять на себя заботы о духовном окормлении и воспитании одного из последних Флавиев и в то же время осуществлять над ним неусыпный надзор, он оказал бы августу Востока Констанцию II неоценимую, поистине дружескую услугу. Поэтому он и согласился взять на себя столь ответственную задачу. Евсевий с самого начала занял благожелательную позицию в отношении Юлиана, оказывая ему всяческие знаки внимания. Больше нам об их отношениях ничего не известно, ибо Юлиан не оставил никаких воспоминаний и высказываний о епископе, пробывшем некоторое время его опекуном и выбравшем для него первых учителей.
Тем не менее, отношения между ними, скорее всего, не были слишком доверительными.
Неподалеку от Евсевия жила мать Василины, бабка Юлиана – богатая, влиятельная, «великосветская» дама. Эта почтенная матрона была, видимо, безмерно рада и прямо-таки счастлива представившейся ей возможности растить внука, напоминавшего ей любимую дочь, которой она так рано лишилась. И потому она относилась к внуку с той нежностью, которую пожилые люди испытывают к молодой поросли своего рода. Любящая бабка очень скоро предоставила в распоряжение юного царевича красивую, со всеми удобствами, виллу, дав ему возможность предаваться тихим радостям, указывающим на проявившиеся уже в раннем возрасте мечтательные и чувствительные стороны его натуры. Возможно, именно в окружении своей бабки Юлиан познакомился со своим дядей по матери, который впоследствии, подобно ему самому, стал отступником от христианства.
Насколько скуп и сдержан был Юлиан в своих высказываниях о своем опекуне епископе Евсевии, настолько же подробно он высказывался о своем воспитателе Мардонии, прибывшем к нему из Никомидии. Этот уже упомянутый нами выше старый евнух-«скиф» (то есть, скорее всего – гот) был, как, несомненно, еще помнит уважаемый читатель, в свое время «чтецом», то есть учителем, Василины. Тем проще и легче было ему теперь беседовать с мальчиком и отвечать на его вопросы, подобно тому, как он когда-то беседовал с его матерью и отвечал на ее вопросы. Не удивительно, что Мардоний с большим сочувствием относился к царственному сироте, чье воспитание было ему поручено и в чьих чертах гот очевидно узнавал черты его безвременно ушедшей матери, своей сравнительно недавней ученицы. Юлиан, со своей стороны, все больше привязывался к нему, и вполне понятно, что он позволял Мардонию оказывать на свой детский ум все большее влияние. В данной связи необходимо указать на следующий характерный момент в воспитании мальчика: в то время, как самые знаменитые из его современников, прославленных впоследствии христианской церковью в лике святых – два Григория (Нисский и Назианзин), Василий Великий, Иоанн Златоуст и Блаженный Августин – были обязаны своими важнейшими переживаниями и впечатлениями своему семейному кругу и, в особенности своим матерям, Юлиан, рано лишившийся семьи, стал, так сказать, хоть и не плотским, но духовным сыном своего учителя, под чьим умелым, чутким руководством «в науки он вперил ум, алчущий познаний» (да будет нам позволено использовать крылатое выражение бессмертного Александра Сергеевича Грибоедова из его столь же бессмертной комедии «Горе от ума»). Юлиан всегда, неизменно отзывался о Мардонии в крайне, подчеркнуто уважительном и почтительном тоне, называя его своим воспитателем и учителем, введшим его в притвор, или придел, святого храма философии. Вне всякого сомнения, Мардоний сумел пробудить в своем царственном питомце благородное воодушевление и преклонение перед величием греческой культуры, ставшее в дальнейшем главной, сильнейшей движущей силой и, так сказать, пружиной всей его деятельности. Мардоний был добродетельным старцем, свободным от человеческих слабостей, целиком и полностью, с величайшим чувством ответственности, посвятившим себя своей задаче (чем он весьма отличался – в положительную сторону! – от типа достаточно распространенного беспутного, безнравственного и подлого учителя, известного нам из сочинений античных сатириков). «Скиф» был сведущ во всех тогдашних науках, обладал хорошим вкусом и был исполнен духовного огня, вдохновляющего всех подлинно добрых учителей и воспитателей. Он оберегал Юлиана от опасностей изнеженного образа жизни, служил ему в качестве репетитора и руководил им при выборе книг для чтения. Как в свое время – Василине, так и теперь – ее единственному сыну Юлиану – просвещенный гот Мардоний демонстрировал, прежде всего, красоты поэтических творений Гомера и Гесиода (которые, по Мережковскому, не просто читал вслух, а пел, подобно древнегреческим рапсодам-гомеристам), формируя на основе их бессмертного (для всех образованных людей грекоримского культурного пространства) творчества духовную жизнь мальчика и его литературный вкус. «Скиф»-эллинист пробудил в своем подопечном, впитывавшем знания подобно губке, не только понимание смысла поэтических строф, которые ученик должен был заучивать наизусть, но и подлинную любовь к поэзии, радость наслаждения чтением ее шедевров, и сумел приучить его не довольствоваться антологиями, содержащими лишь отдельные отрывки из произведений классиков, но и обращаться от сборников к самим первоисточникам, из которых эти фрагменты были извлечены. Именно данным обстоятельством объясняется тот достойный упоминания факт, что Юлиан знал наизусть и мог цитировать по памяти множество литературных произведений, не встречавшихся в современных ему школьных учебниках и не входивших в обычный круг чтения образованных людей его эпохи. Особенно примечательным представляется то обстоятельство, что Юлиан цитировал стихи Гесиода, дошедшие до нас только в его выдержках..
На основании сохранившихся и дошедших до нас высказываний Юлиана о его отношениях с Мардонием, можно составить себе представление и о том, каким Юлиан виделся в своих детских воспоминаниях самому себе – послушным, прилежным, понятливым, пытливым, одержимым стремлением к знаниям, скромно держащим глаза опущенными, долу, шел мальчик вслед за своим воспитателем привычным путем от дворца до школы – удивительно рано повзрослевший и достигший зрелости ребенок с серьезным и задумчивым выражением на лице, у которого вошло в привычку держать голову склоненной к земле.
Однако стремление к дружеской склонности, доказательство которому он впоследствии так часто давал своим друзьям, нередко заставляло его, послушно следующего вслед за своим учителем, ощущать себя очень одиноким, и тогда его прогулки с Мардонием казались ему подчиненными столь строгому распорядку, что этот распорядок приводил его в отчаяние. Если верить воспоминаниям Юлиана, ему очень часто хотелось после окончания школьных занятий сходить со своими товарищами в цирк или в театр. Но всякий раз суровый воспитатель одергивал его, строгим тоном указывая на то, что подобным пустым развлечениям следует предпочесть учебу. И Юлиану приходилось подавлять свои тайные желания (а возможно – даже глотать слезы обиды и разочарования), печально и разочарованно провожать глазами смеющуюся веселую кампанию, уходящую развлекаться… увы, без него. Порой, как он признавался впоследствии, у него даже возникало желание возроптать и отказать учителю в повиновении…
В данной связи представляется не лишним процитировать дошедшее до нас сатирическое сочинение самого Юлиана, уже бывшего, на момент его написания, самодержавным властелином Римской «мировой» империи, «Антиохийцам, или Брадоненавистник (либо «Враг бороды», по-гречески – Мисопогон – В. А.)»:
«Я <…>, еще когда ходил в школу, был научен своим наставником смотреть в землю; что же до театра, то я никогда не ходил в него прежде, чем волосы на моем подбородке стали длиннее, чем на голове, и даже достигнув этих лет, никогда не ходил я в театр по собственному желанию и побуждению, но был там три или четыре раза по приказу правителя, моего родственника и человека мне близкого – я был принужден, «являя благосклонность Патроклу» (то есть, из любви и уважения к близкому человеку – согласно «Илиаде» Гомера, герой Ахилл был на все готов ради своего друга Патрокла – В. А.). Это было, когда я был еще частным лицом, и, следовательно, когда это мне было простительно. Итак, представляю <…> моего наставника, сварливость которого <…> (не давала – В. А.) мне покоя наставлениями даже на пути [в школу]. Результат его действий отпечатался в моей душе, чего я не желал тогда, хотя он был весьма усерден, прививая мне все это, как если бы творил нечто прекрасное; дикость он называл величием, бесчувственность – целомудрием, непреклонность к желаниям и отказ достигать счастья путем осуществления желаний он называл мужественностью. Он был варвар, клянусь богами и богинями, родом скиф (то есть, в реалиях IV столетия – гот – В. А.), тезка человека, склонившего Ксеркса двинуться на Элладу (то есть первого, древнеперсидского, Мардония; в данном случае Юлиан применяет характерный прием софистов – использовать иносказания, не называя имени прямо – В. А.). Более того, он был евнух – слово, которое двадцать месяцев назад (в правление севаста-арианина Констанция II, при дворе которого евнухи пользовались огромным влиянием – В. А.) почиталось и постоянно звучало, хотя ныне употребляется как оскорбление и ругательство (евнухи были изгнаны пришедшим к власти Юлианом, сделавшим исключение для Мардония – В. А.). Воспитан он был стараниями моего дедушки (Юлия Юлиана – В. А.), чтобы провести мою мать (упомянутую выше Василину – В. А.) через поэмы Гомера и Гесиода. А поскольку она, еще девочкой спасенная не имеющей матери Девой (вечно девственной богиней Афиной, вышедшей в полном расцвете сил и лет из головы своего отца – верховного бога эллинов Зевса Тучегонителя— В. А.) от множества приключавшихся ей несчастий, и дав мне жизнь – первому и единственному ее ребенку – спустя несколько месяцев умерла, я был отдан ему после того, как мне исполнилось семь лет. Тогда-то он и склонил меня к таким своим взглядам, с этих пор водил он меня в школу одной дорогой; поскольку ни сам он не хотел знать ничего иного, ни мне не позволял идти другим путем».
К счастью для Юлиана, Мардоний, несмотря на брошенные ему его бывшим подопечным «задним числом» упреки в излишней, чрезмерной сварливости, в действительности был не бездушным и черствым педантом, а истинно добрым пастырем (если использовать христианскую терминологию). Всякий раз ему удавалось утешить горюющего мальчугана интересными книгами, в которых он учил своего питомца находить все новые и новые источники чистых и подлинных радостей. В соответствии с установками строгой философской школы стоиков[45], старый гот терпеливо и убедительно разъяснял Юлиану, что тому, кто способен подходить к чтению не поверхностно, а вдумчиво и глубоко, Гомер дает возможность насладиться зрелищами, несравненно более великолепными, чем непритязательные театральные и цирковые представления, которыми развлекается подлый люд, низкая необразованная чернь.
«Он говорил мне часто – это так, клянусь Зевсом и Музами! – в то время, когда был педагогом при мне, еще мальчонке: “Никогда не позволяй толпе твоих сверстников, несущихся в театр, склонить тебя к страстному желанию подобных зрелищ. Не влечешься ли ты к скачкам? Об этом справедливейшим образом сказано у Гомера, возьми книгу и изучи. Слышал ли ты о тех, что изображают путем пантомимы? Оставь их, у феакийцев[46] юноши делают это лучше (ибо исполняют, в отличие от расслабленных, женственных мимов эпохи Юлиана, настоящие, мужественные танцы – В. А.). Из кифаредов ты имеешь (в поэме Гомера – В. А.) Фемия, из певцов – Демодока [47]. Более того, у Гомера есть много ростков, более сладостных для слуха, чем то, что мы можем увидеть:
В Делосе только я – там, где алтарь Аполлонов воздвигнут,
– Юную стройно-высокую пальму однажды заметил
(Юную пальму заметив, я в сердце своем изумлен был
Долго: подобного ей благородного древа нигде не видал я,
– в гомеровой ’Одиссее’, 6.162, эти слова потерпевшего кораблекрушение героя Одиссея обращены к Навсикае[48] – В. А.) и лесистый остров Калипсо, и пещеру Кирки, и сад Алкиноя[49]; клянусь, ты не увидишь ничего сладостнее этого”» (Юлиан. «Антиохийцам, или Брадоненавистник»).
Нам известно, как юный царевич любил проводить свое свободное от школьных занятий время (или, по-нашему – каникулы). Он получил от бабки в подарок имение, состоявшее из четырех больших земельных наделов и сельского дома, вероятнее всего, в районе Халкидона, с видом на державный город Константина и на рыбообильное море. Ранее этот сельский дом принадлежал патрицианскому семейству, родственному императрице. Поэтому можно себе представить, что доставшаяся Юлиан от бабки загородная вилла была выстроена в стиле, чья пышность и комфортабельность по праву служила предметом восхвалений классиков латинской литературы, посвятивших немало вдохновенных строк виллам римских аристократов и плутократов. В одном из своих писем Юлиан прямо-таки любовно описал ее. Кроме самой сельской виллы, в имении имелся целый ряд других построек, зданий и сооружений: баня, винодельни, амбары, парк, боскеты[50] и источники. Всю свою жизнь Юлиан охотно предавался воспоминаниям о выпавших на его долю скромных сельских радостях. Порой он наблюдал за рыбаками, тянущими на пустынный берег из моря сети, полные трепыхающихся рыб. Порой следовал за садовниками в огороженный сад, наблюдая там за их работой. Часто царевич брал у работников из рук лопату-заступ или же мотыгу. И, наконец, своими руками насадил небольшой виноградник, который тщательно возделывал, радуясь прозябанию выращенных им собственноручно лоз. Впоследствии он писал одному из своих самых близких друзей:
«Маленькое поместьице в Вифинии из четырех полей, доставшееся мне от моей бабушки, предоставляю тебе как дар твоему расположению ко мне. Оно слишком мало, чтобы создать ощущение преизбытка богатства, однако этот дар не может быть совершенно неприятен тебе, если я опишу тебе все по порядку. Ничто не мешает мне развлечь этим описанием тебя, преисполненного изяществом и благами культуры. Поместьице расположено не более чем в двадцати стадиях от моря, так что ни торговцы, ни матросы не беспокоят это место своей болтовней. И однако же, оно не всецело лишено милостей Нерея (морского бога-старца – В. А.): всегда в наличии свежая, еще трепыхающаяся рыба; если ты дойдешь от дома до холма, то увидишь море Пропонтиды, и острова, и город, носящий имя благородного государя; но тебе не придется при этом наступать ни на водоросли, ни на морской латук, ты не будешь раздражен той грязью, которую всегда выбрасывает на морские берега и песчаные отмели море и которая столь неприятна, что и имени не имеет; но ты сможешь задержаться на повилике, и тимьяне, и душистых травах. Совершенный покой обнимает возлегшего там и устремившего взгляд свой в книгу; если же, отдыхая, он отрывается от нее, то наслаждается видом моря и кораблей. В пору ранней юности это место казалось мне лучшей из летних дач, ибо там есть и недурные источники, и отнюдь не неприятные горячие купания, и сады, и деревья. Став уже мужем, я весьма тосковал по моему прежнему образу жизни и часто бывал там, и мои встречи [с этим местом] не обходились без литературы» («К Евагрию»).
Судя по позднейшим произведениям Юлиана, уже достигшего зрелости, он сохранил со времен своих занятий виноградарством немало приобретенных тогда знаний и навыков – как прививать и подрезать лозы, как особыми инструментами разрыхлять землю вокруг молодых растений, как устанавливать колья, чтобы закреплять на них стебли лоз, как перетягивать и перебрасывать их с дерева на дерево, как держать виноградные гроздья над поверхностью земли, чтобы у них было вдоволь воздуха и света.


Сбор винограда
Юлиан, уже вошедший в возраст, вспоминал о своем винограднике в поистине проникновенных и ностальгических, выражениях:
«Есть там и скромный памятник моему занятию земледелием – маленький виноградник, дающий благовонное и сладкое вино, которое не нуждается во времени для того, чтобы приобрести аромат. Ты увидишь [там] Диониса (бога виноделия – В. А.) и Харит (эллинских богинь вечной юности и красоты, аналога римских Граций – В. А.). Виноградины – и в кистях, и когда они сокрушаются на точиле, – пахнут, как розы, а молодое вино в кувшинах – «амброзия чистая с нектаром сладким», если поверить Гомеру. Почему же было не расплодить мне такой виноград и не засадить такой лозой многие акры?» («К Евагрию»).
В данной связи представляется небезынтересным отметить, что вышеупомянутый учитель красноречия и любомудр Ливаний из сирийской Антиохии, ставший впоследствии учителем и другом Юлиана, тоже любил, подобно юному царевичу, вспоминать о радости, доставляемой ему наблюдением за людьми труда, занятыми каждый своим «рукомеслом» (как выражались у нас на Руси) – например, за «тружеником моря, погружающим в воду свое весло, забрасывающим свои сети и готовящим наживку для рыб». В одном своем письме Ливаний извещал некоего отца семейства, поручившего ему воспитание своих юных сыновей, что проводит с отроками самые знойные летние дни не в самом городе, а в Дафне (живописном пригороде многолюдной Антиохии Сирийской, славящемся своими рощами и древним храмом бога Солнца Аполлона), где «деревья, ручьи и зефиры (теплые влажные западные ветры – В. А.)» облегчают им усвоение получаемых от преподавателя знаний. А в другом письме антиохийский учитель риторики и мудрости живо описывал прелести отдохновения в своем сельском доме с видом на море, расположенном на побережье Памфилии, откуда видны корабли, выходящие в море, и слышно пение моряков. Однако, в отличие от своего августейшего ученика, Ливаний, кажется, ни разу не упомянул в своей обширной переписке о радостях, даруемых ему возможностью предаваться мечтам, пребывая в полном одиночестве.

Давление винограда ногами
А вот царевич Юлиан был, похоже, слеплен из совсем иного теста или замешен на совсем иных дрожжах. Вволю потрудившись на земле, царственный отрок знал, куда укрыться, чтобы предаться уединенным размышлениям. Неподалеку от виллы располагалась гряда живописных холмов, где можно было в полной тишине и в полном одиночестве отдохнуть от трудов праведных. Там усталый Юлиан ложился на душистую траву между тимьяном и мальвами и углублялся в чтение очередной книги. Когда же Юлиан обращал утомленные долгим чтением глаза на море, ему отрывалась неизменно восхищавшая его панорама: у его ног – песок и галька залитого солнцем берега, за ними – неумолчно шумящие, пенящиеся у берега волны моря с медленно проплывающими по нему мимо задумчиво провожающего их глазами мальчугана лодками и кораблями, чьи паруса, словно цветы, колыхались между морем и небом, вдали – синеватые очертания Принкипонесского архипелага (позднейших островов Принкипио, или Принцевых островов) и, наконец, в далекой дымке горизонта – огромный город, втиснувший между Пропонтидой и Босфором свое увенчанное пышными дворцами, храмами языческих богов и христианскими церквями предгорье.
Если вдуматься в эти сильные, детские впечатления одинокого мальчугана, можно понять ту своеобразную форму, в которую он однажды облек свои весьма интересные воспоминания о гомеровской «Одиссее»: больше всего его восхищает в добродетельной супруге хитроумного скитальца – Пенелопе – ее способность так сильно привязать к себе Одиссея, что он, ради нее, даже отказался вступить в брак с божественными существами: «Из-за многих различных качеств достойна хвалы Пенелопа, но то, что она заставила своего мужа столь сильно любить и лелеять ее, удивляет меня больше всего: так, что он презрел, как мы говорили, сожительство с богиней, равно как и отверг родство с феакийцами. Ибо все они к нему относились любовно: и Калипсо[51], и Кирка[52], и Навсикая». Все они были страстно влюблены в него, и их любви способствовали имевшиеся в их распоряжении мощнейшие средства соблазна. Но какие? – спрашивает Юлиан, и сам же отвечает, что «они имели красивые и совершенные дворцы, сады и парки, в которых произрастали огромные тенистые деревья, луга, полные пестрых цветов и изобилующие нежной травой, где
Светлой струею четыре источника рядом бежали.
И лоза с кистями благородного винограда, полными плодов, цвела близ ее (Калипсо – В. А.) жилища. Так же было и у феакийцев, разве что лозы цвели более пышно, поскольку, я полагаю, были возделаны с искусством и выглядели менее прельстительными и приятными, чем дикорастущие».
Из приведенных выше строк, вышедших из-под пера Юлиана, можно сделать вывод, что, хотя феакийцы тоже имели чудесные сады (к тому же плодоносившие круглый год – позволим мы себе добавить в скобках), эти сады, разбитые с изощренными искусством и роскошью, именно поэтому были, с точки зрения Юлиана, начисто лишены прелести естественного, не испорченного вмешательством человека, природного ландшафта. Особенно восторгали Юлиана «мир и покой» волшебного острова нимфы Калипсо. Он с полным пониманием относился к желанию скитальца Одиссея, безмерно утомленного скитаниями, лучше провести остаток жизни на этом благодатном острове, чем продолжать свое путешествие по морю к берегам родной Итаки:
«Видя всю эту роскошь и богатство, мир и покой, окружавшие те острова, кто смог бы устоять? Особенно если речь идет о человеке, подъявшем столькие труды и опасности и ожидавшем, что претерпит еще худшее, особенно в море и в собственном доме, ибо там он сразился один с сотней юношей, бывших в расцвете сил – совершил то, чего не случалось с ним даже на троянской земле».

Дары земли и моря (римская мозаика)
Любимым поэтом Юлиана (как и его кумира – русого героя Александра Македонского, любимца бога Солнца, повергшего к стопам своего сына и избранника Персидскую державу и «всю Азию до самой Индии») всегда оставался Гомер. Этой любовью к Гомеру царевич был обязан в первую очередь (если не исключительно) именно «скифу» Мардонию. Дело было в том, что ученый гот не счел необходимым ознакомить своего питомца со Священным писанием христиан – ни с Библией вообще, ни с Евангелиями – в частности. Вместо этого (возможно, не будучи сам христианином, хотя это представляется сомнительным – ведь готы были уже давным-давно крещены своим просветителем епископом Вульфилой, или Ульфиласом, причем обращены им именно в арианскую, еретическую, рационалистическую версию христианства, всячески поощряемую и покровительствуемую августом римского Востока Констанцием II), оскопленный германец с персидским именем, усердно пестовавший Юлиана, преисполнил сердце, ум и душу своего питомца безграничною, безбрежною любовью к величайшему из греческих поэтов, которой мальчик предался всецело. И эта любовь царственного отрока – как к гомеровской, так и к классической Греции, да и вообще – ко всему греческому достигла степени одержимости, приняв поистине маниакальные формы.
На латиноязычном Западе Римской империи подобное воспитание не повлекло бы за собой, пожалуй, никаких дурных последствий. Классическое образование, полученное в юности, пример, Августином (Г)Иппон(ий)ским, будущим Отцом Церкви, только вызвало в нем отвращение к Гомеру и ко всему греческому, да и изучение произведений другого великого языческого поэта, «латинского Гомера» – Вергилия – не таило в себе никакой опасности для веры в Христа. Но в землях, в которых господствовали греческий язык и греческая культура, изучение древних поэтов могло вызвать страстный «синдром эллинизма», трудно совместимый с духом и верой в Спасителя – «Галилеянина»[53], как выражался впоследствии Юлиан. Так что кукловоды, полагавшие, что управляют юным Юлианом, как во всем послушной им, безвольной марионеткой, допустили большую неосторожность, если не сказать – огромный, непростительный просчет! – поручив его заботам страстного эллиниста, хоть и «варвара», Мардония. Впрочем, со временем они попытались исправить свое упущение, подчинив отрока-сироту более строгому надзору и контролю.
Глава четвертая Годы в макеллской обители
В самой глубине Анатолии, под сенью заснеженных вершин горного хребта Аргея (современного Эрджияза), с чьих высот, как утверждали античные авторы, можно было обозреть почти бесконечный горизонт, простирается лесистое предгорье, относящееся к числу самых диких областей суровой Каппадокии, пользовавшейся, наряду со столь же захолустными мало-азийскими областями Карией и Киликией, у просвещенных жителей античных мегаполисов недоброй славой захолустья обитаемого мира. Не зря распространенная греческая поговорка гласила:
Кария и Киликия,
Да еще Каппадокия —
Вот три «К», от коих мне
Хочется блевать втройне!
Впрочем, первое упоминание Юлиана о том, как он блевал (после отравления угарным газом), относится к периоду его пребывания, в пору уже не детства и юности, а молодости, в Галлии, так что в Каппадокии ему блевать, видимо, не пришлось. Там, в самом начале Кесарийской равнины, приблизительно в центре восточной части современной Турции, некогда располагался домен, то есть поместье, римского императора, называвшийся по-латыни Макелл(ум), или, в другом произношении – Мацелл(ум), а по-гречески – Макеллон – живописное, тихое, уединенное сельское владение[54]. Расположенный в нем, далеко от кипящих деловой жизнью прибрежных городов, окруженный живописными лугами и зелеными лесами загородный дворец (принадлежавший когда-то, если верить Дмитрию Сергеевичу Мережковскому, каппадокийским царям), был превосходным, прямо-таки идеальным местом ссылки для царевичей, которых тем, кто их сослал, представлялось необходимым держать вдали от источников мятежных помыслов и настроений. В другом месте первой части своей трилогии «Христос и Антихрист» – «Смерть богов», посвященной Юлиану Отступнику —, Мережковский называет Макелл (который он именует «Мацеллум») не дворцом, а замком. По нашим представлениям, замок – это характерное, прежде всего, для пришедшего на смену эпохе Античности Средневековья здание (или комплекс зданий), выполняющее и сочетающее в себе как жилые, так и оборонительно-фортификационные функции, в котором соединены в единое целое стены, мосты, жилые помещения, башни, рвы и иные постройки, и являющееся, в отличие от крепости (по сути – участка земли, обнесенного стеной с башнями), не общественным защитным сооружением, а укрепленной резиденцией частного лица – феодала. Однако, судя по сохранившимся мозаичным изображениям позднеантичных загородных резиденций римских магнатов-вельмож, многие из них вполне заслуживали названия «замок».

Всадник-вандал на фоне укрепленной римской сельской виллы позднеимперского периода
Об этом свидетельствует, например, хранящаяся ныне в Британском музее известная позднеантичная мозаика с изображением представителя германского племени вандалов, совершающего конную прогулку на фоне экспроприированной им (по праву победителя) у прежнего владельца – римского магната – сельской виллы, прямо-таки бросающейся в глаза своими мощными фортификационными сооружениями. Окружая свои загородные резиденции стенами и башнями, римские магнаты позднеимперской эпохи руководствовались теми же соображениями, что и император, «господин и бог» Аврелиан – окружая стенами и башнями «царственный град» Рим на Тибре.

Август Константин II
Впрочем, за стенами и башнями этих сильно укрепленных загородных резиденций имелось все, что услаждало жизнь проводивших там знойные летние дни «сильных мира сего» – окруженные колоннами дворы, фонтаны и мраморные водоемы; врытые в землю галереи для приема гостей; роскошные бани с бассейнами, парильнями, мраморными ложами. С башен можно было любоваться живописными пейзажами – полями пшеницы, ячменя и проса (рожь римлянам не была известна, а овес они считали дикой травой): рощами (некоторые из которых, огороженные частоколом, служили загоном для оленей, косуль, кабанов и иных диких животных); виноградниками; пастбищами для домашнего скота; огородами (где росли репа, капуста, горох, чечевица, бобы); садами (в которых выращивали фрукты и маслины). Близ жилых построек располагались многочисленные давильни для винограда, а рядом с ними – обширные винные погреба, амбары для хранения зерна и маслобойни, где выжимали оливковое масло из маслин. Прямо как на загородной вилле, подаренной в свое время нашему царевичу-сиротке его доброй бабушкой.

Август Констант I, покровитель кафоликов-«никейцев» (православных христиан)
Вот куда шестнадцатилетний Юлиан и был – совершенно неожиданно для себя! – перевезен из – пусть не столичного, но все-таки города! – Никомидии.
Епископ Евсевий Никомидийский переселился в лучший мир не то в 341, не то в 342 году, в самый разгар борьбы августа римского Востока Констанция II с изрядно досаждавшим ему родным братом – августом Константом I, ставшим к описываемому времени (после выбытия из военно-политической Большой игры третьего августа – Константина II, разбитого и убитого в битве с войсками Константа I) единоличным властителем всего римского Запада (мы с уважаемым читателем не должны забывать, что используемые нами выражения «Восточная Римская империя» и «Западная Римская империя» в действительности не употреблялись правителями этих держав «потомков Ромула» и их верноподданными; формально Римская «мировая» империя продолжала, вопреки очевидности, считаться единой и «всемирной», вплоть до самого захвата ее «сухого остатка», или, если угодно – «огрызка», либо «ошметка» – Константинополя на Босфоре – в 1453 году турками-османами, переименовавшими «град Константина» в Истанбул-Стамбул).
Недоверчивый и боязливый цареградский деспот, которому с востока угрожали воинственные и жадные до добычи персы (чей «царь царей» Шапур II счел мирный договор 337 года утратившим силу после смерти Константина I Великого, ибо по тогдашним персидским представлениям, мир заключался между конкретными государями, а не между их государствами), с запада – родной брат-соперник Констант I, а изнутри – все новые религиозно-политические осложнения и смуты, чувствовал себя на новоримском троне крайне неуютно и непрочно. Поэтому представляется вполне понятным решение Констанция II, «плавно» переместить двух своих юных двоюродных братьев, чье все возрастающее честолюбие со дня на день могло принять опасные для него, Констанция, размеры и формы, в как можно более надежное место и безопасное (для него, любимого) место. Приняв это решение, благочестивый император в его правильности более не сомневался. «Подписано – так с плеч долой!», – как говорил мудрый старик Фамусов в «Горе от ума» Александра Сергеевича Грибоедова. И цареградский император повелел сослать своих осиротевших, не без его ведома (если не прямого или косвенного соучастия), двоюродных братьев Галла и Юлиана в свой домен Макелл.
Как писал впоследствии пытающийся всячески обелить августа Констанция II и очернить обездоленного им Юлиана христианский автор:
«Человеколюбивейший царь (император Констанций II – В. А.) в одном из царских дворцов удостоил их царского содержания и царской прислуги, сохраняя их, как последних в роде, для царского престола. Сам государь, во-первых, думал оправдать себя в том, что беспорядки, открывшиеся в начале его царствования, произведены не по его согласию; во-вторых, хотел показать свое великодушие, приобщив их к царскому сану; а в-третьих, таким приращением надеялся более упрочить власть.» (Святой Григорий Богослов. «Слово четвертое, первое обличительное против царя Юлиана»).
Юлиан навсегда сохранил добрую память о прекрасной Никомидии, в которой провел часть своей юности. Получив впоследствии, в 358 году, известие о разрушении города сильным землетрясением, он сразу же написал туда своем другу и наставнику ритору Ливанию, выразив ему свое соболезнование в самых проникновенных выражениях.
При отъезде из Никомидии в новое место ссылки Юлиану пришлось разлучиться со своим первым воспитателем. Разлука с Мардонием означала для чувствительного мальчика разрыв самой тесной и искренней (если не вообще единственной) дружеской связи с дорогим ему человеком. Отрок очень страдал от очередного жестокого удара судьбы. Его единственным утешением была надежда снова свидеться со своим сводным братом. После почти четырехлетней строгой ссылки Юлиана, Галл предстал ему, можно сказать, в полном блеске полного сил, цветущего беззаботного юноши. Однако страстность, с которой стремилось к нему сердце Юлиана, скоро постигло горькое разочарование. Галл, прямо скажем, явно не был рожден отвечать нежностью на нежность. Под внешне любезными формами обхождения он скрывал грубые необузданные, если не сказать – варварские (безо всяких кавычек!) инстинкты. По оценке одного из современников, сводные братья отличались друг от друга, как Домициан – от Тита[55]. Тем не менее, Юлиан не испытывал к брату ни малейшей неприязни. Говоря о Галле, он всегда делал это с пониманием, сочувствием и сожалением о том, что воспитанию Галла не было уделено должного внимания.
Интересно, о каких предметах, на какие темы мог бы беседовать Юлиан с Галлом в те редкие мгновения, когда им посчастливилось бы остаться действительно одним, вдвоем, не под надзором чужих глаз, в каком-нибудь уединенном уголке макеллского дворца или на прогулке по его живописным окрестностям? Поэмы Гомера или серьезные книги вряд ли могли бы стать предметом их беседы. Галл не прошел школу воспитания Мардония и вообще явно относился к числу юношей, любящих лошадей, птиц и диких зверей куда больше, чем книги. Если Юлиан хотел избежать полного отчуждения от брата, ему поневоле приходилось предаваться вместе с Галлом атлетическим упражнениям и разного рода легкомысленным развлечениям, а, может быть, даже потешаться над приставленными к братьям и столь ценимыми благочестивым августом Констанцием II злокозненными евнухами, учиняя над ними разные проказы, чаще всего – отнюдь не остроумные, а с точки зрения утонченного гота Мардония – прямо-таки безвкусные…
Тем не менее, оба осиротевших юноши, какими бы разными они ни были по натуре, в равной мере страдали от всякого рода ограничений своей свободы, от вечного мягкого, но оттого не менее настойчивого принуждения, от постоянной слежки, хотя она и рядилась в одежды низкого раболепства и крайней предупредительности окружавших Галла с Юлианом надзирателей и соглядатаев. Общий им обоим гнев, который необходимо было тщательно скрывать, сплачивал братьев воедино, и, несомненно, они порой, в тайных беседах осмеливались даже совместно воскрешать в своей памяти воспоминания об убийстве своего отца. Судя по всему, их окружение с повышенной подозрительностью относилось к подобным попыткам сирот уединиться для доверительных бесед, и, чтобы отвести их гнев от цареградского севаста, старалось, путем искусных инсинуаций, перенаправить этот гнев с самого императора на его «дурных советников» или на «нерадивых подчиненных». Братьям пытались внушить, что император Констанций II был против своей воли вынужден уступить ярости не в меру разбушевавшейся военщины, давно уже привыкшей играть головами «сильных мира сего», вплоть до венценосцев. И что поэтому братьям не следует обвинять милосердного и справедливого «отца римлян» в совершенных от его имени совсем другими людьми злодеяниях и уж, тем более, возлагать на него ответственность за совершенные совсем другими людьми преступления. К этому сводились, согласно воспоминаниям Юлиана, «версии» гибели Юлия Констанция, нашептываемые братьям в период их макеллской ссылки.
Верил ли Юлиан этим нашептываемым им со сводным братом воспитателями-надзирателями «версиям» – одному Богу известно. Только Богу известно и то, имел ли христианский автор основания впоследствии писать: «Спасенный великим Констанцием, недавно от отца наследовавшим державу, когда при дворе стали править делами новые чиновники и войско, опасаясь нововведений, само сделалось нововводителем, вооружилось против начальствующих, тогда, говорю, невероятным и необычайным образом спасенный вместе с братом, не воздал он (Юлиан – В. А.) благодарения ни Богу за свое спасение, ни царю, его спасшему, но оказался пред ними злонравным, готовя в себе Богу отступника, а царю – мятежника» («Слово четвертое, первое обличительное против царя Юлиана»). Одновременно делалось все, чтобы помешать Юлиану и Галлу свободно и без помех беседовать между собой. Попыткам посещения братьев друзьями чинились всевозможные препоны. Товарищами по играм им служили лишь их собственные рабы. Правда, Галла и Юлиана воспитывали и держали в немыслимой роскоши, холили и лелеяли, как избалованных донельзя царских сыновей, но, несмотря на этот роскошный образ жизни, сироты постоянно находились под неусыпным наблюдением не спускавшей с них своих бдительных глаз камарильи евнухов. Не удивительно, что Юлиан впоследствии горько сетовал – с ним обращались по персидскому обычаю, ведь у персов принято держать нежелательных лиц взаперти в отдаленных крепостях («башнях забвения»), чтобы о них все забыли (как о неких «фигурах умолчания», выражаясь современным языком):
«Как мне описать те шесть лет, что мы провели там (в Макелле – В. А.)? Мы жили с чужим имуществом, жили словно бы под охраной персов, никто из гостей не мог видеть нас, никто из старых друзей не мог добиться разрешения встретиться с нами. Так что были мы лишены всякой серьезной науки, всякого свободного общения; мы становились блестящей прислугой, ибо мы воспитывались с собственными рабами, как совместно занимаются с друзьями. Ни один ровесник не подходил к нам, ни одному это не дозволялось.» («Послание к афинскому сенату и народу»).
Так они и жили… Впрочем, в один прекрасный (в плане смены обстановки) день жизнь в Макелле пришла в движение вследствие прибытия высоких гостей с «официальным дружественным визитом». В 347 году ни кто иной, как благочестивый василевс Констанций II, по пути из Анкиры в Гиераполь, или Иераполь, из любопытства соблаговолил завернуть в свой каппадокийский домен и самолично ознакомиться с условиями содержания там двух царственных сирот. Наряду с заботой о сиротах, август, очень любивший телесные упражнения и вообще пребывание на свежем воздухе (севаст был отменным бегуном, искусным наездником и метким стрелком из лука), вздумал заодно и поохотиться. Юлиану довелось понаблюдать за тем, как император романорум убивал в загонах для диких зверей, примыкавших к дворцовому парку, содержавшихся там медведей, львов и пантер (леопардов). Однако, несомненно, это кровавое зрелище (напоминавшее скорее не охоту, а избиение зверей на арене римского цирка специально натасканными на это гладиаторами – бестиариями, или венаторами) доставило юноше-интеллектуалу куда меньшее удовольствие, чем его не обремененному чрезмерным интеллектом брату-атлету Галлу. Если Юлиану в тот раз и выпала возможность вступить с «повелителем земного круга» в разговор, на него вряд ли произвела особенно благоприятное впечатление эта исполненная сознания собственного величия, напоминающая нерукотворный памятник самому себе, монаршая фигура, всеми силами старавшаяся изгнать со своего неподвижного лика следы каких бы то ни было человеческих чувств. Пребывание василевса ромеон в Макелле было весьма недолгим. Очень скоро император романорум со своей блестящей свитой отправился дальше. Залы и покои макеллского дворца сделались такими же мрачными, тихими, сумрачными и безлюдными, как прежде, до визита севаста Констанция. Да и был ли он вообще, этот «официальный дружественный визит»?
Столь резкий контраст и возврат к одиночеству мог бы вызвать в Юлиане чувство глубочайшей подавленности и уныния. Но ученик гота-эллиниста Мардония недаром принадлежал к числу вполне самодостаточных натур, умеющих быть счастливыми, даже ограничиваясь исключительно своей внутренней жизнью. Его склонность к серьезности и собранности со временем возросла до своеобразной, поистине маниакальной страсти к духовным предметам. Одинокий юноша, лишенный радости искренних, доверительных человеческих отношений, искал себе прибежище в мире мечтаний и грез, находя утешение в царстве своей собственной, творческой фантазии, наделявшей жизнью и языком даже самые ничтожные из окружавших его предметов.
Сам Юлиан впоследствии представлял дело таким образом, будто в Макелле его занятиям светскими науками чинились всевозможные препоны. Трудно сказать, обстояло ли дело действительно так. За сводными братьями был, вне всякого сомнения, установлен строжайший надзор, и надзиратели были озабочены, в первую очередь, их более основательным религиозным образованием, чем полученное братьями прежде. Замкнутый образ жизни, который Юлиан с братом был вынужден вести в Макелле, весьма способствовал успеху этого намерения воспитателей. Под их влиянием у Юлиана появилась склонность к своего рода духовному бегству от мира. Признанным на римском Востоке и авторитетным духовным учителям было поручено толковать юноше писания Ветхого и Нового Завета. Юлиан с большим рвением взялся за изучение священных христианских книг и очень быстро добился неожиданно больших, по мнению его наставников, успехов. Если верить автору жизнеописаний знаменитых философов Евнапию, скоро учителям-катехизаторам уже нечему было его учить, усвоенное же запомнилось на всю жизнь. И потому даже поздние сочинения Юлиана, уже отпавшего от христианства, были прямо-таки переполнены ссылками на Ветхий Завет и на Святые Евангелия. Столь характерная для Юлиана смесь языческих выражений с христианскими реминисценциями порою просто поражает…
Нам известен по имени один из тогдашних выдающихся церковных деятелей, оказавших в описываемый период немалое влияние на воспитание Юлиана – Георгий Каппадокийский, арианский епископ простонародного происхождения, занимавший некоторое время кафедру святого Афанасия в Александрии Египетской (или, если быть точнее – в «Александрии при Египте»).
Георгий – «счастья баловень безродный», выходец из самых низов – был «по жизни» типичным искателем приключений (называть его «авантюристом» как-то не хочется – все-таки, какой-никакой, а епископ!), сумевшим, благодаря своим хитрости и энергии, быстро подняться на вершины духовной карьеры. На тот момент, когда Георгий стал наставником юного Юлиана, он уже пользовался доверием императора Констанция II и умело сохранял это доверие, ибо не гнушался доносительства и находил законное извинение и оправдание любого злодейства, как самый изощренный адвокат. Этот бесстыдный и могущественный выскочка стал, в конце концов, самым непопулярным в народе из числа епископов, входивших в дружеский круг августа Констанция. Вероятно, беззастенчивость и сектантские наклонности Георгия способствовала возникновению у его впечатлительного ученика представления, будто христиане терзают друг друга, как дикие звери. Как бы то ни было, когда бы Юлиан ни заводил речь о епископе Георгии, он неизменно делал это без тени симпатии.
В то же время Георгий Каппадокийский владел ценной библиотекой и невозбранно позволял ею пользоваться юному царевичу. Юлиан считал епископскую библиотеку весьма богатой, в особенности – сочинениями христианских авторов (как, в общем-то, и полагалось библиотеке, хоть и арианского, но все же христианского епископа). Однако, кроме духовных сочинений, Юлиан обнаружил в библиотеке Георгия Каппадокийского произведения не столь хорошо знакомого ему литературного жанра, а именно – собрание самого разного рода сочинений риторов, философов и комментаторов, вплоть до последних платоников – Порфирия и Ямвлиха, или Ямвлика. И вот, вместо того, чтобы отложить эти преисполненные сатанинского духа писания туда, где им было самое место – налево, Юлиан принялся за их основательное изучение (причем настолько основательное, что даже по прошествии пятнадцати лет все еще продолжал рассуждать о том, что за глубины – если не бездны! – познания ему отрылись при их чтении). После зверского убийства епископа Георгия Каппадокийского, в клочья разорванного разъяренной толпой александрийского простонародья в 362 году, Юлиан (уже будучи августом) направил префекту Египта послание с повелением прислать ему все, что уцелело от столь ценной библиотеки растерзанного епископа. Император-философ писал своему наместнику в Египет, что сам был лично знаком с содержанием книг покойного епископа (которого, заметим в скобках, разъяренные александрийцы и впрямь «растерзали, как дикие звери» – Юлиан будто в воду смотрел!), «хотя и не всех, но многих», и сообщал в конце письма, что епископ тогда, в Каппадокии, предоставлял в его, Юлиана, своего тогдашнего питомца, распоряжение сочинения разных авторов с дозволением делать с них списки (то есть, по-нашему – копии). Скажем прямо – ученик, одержимый столь страстной и неуемной жаждой знаний, просто не мог рано или поздно не доставить своим наставникам в Макелле горьких разочарований…
Однако, несмотря на все угрозы, исходившие для правоверия («православия» сказать нельзя, ведь Юлиан рос и воспитывался с юных лет не в православном, а в арианском, то есть, как нам с уважаемым читателем уже известно, еретическом, хотя и христианском, окружении!) царственного юноши от его страстной одержимости всем греческим и от его склонности вникать в запретные духовные сферы, будущий Отступник в этот, первый, начальный, период своей юности, проявлял (по крайней мере – внешне) вполне искреннее христианское благочестие и религиозное рвение. Полученные им в указанный период впечатления продолжали находить свое отражение в его позднейших сочинениях, свидетельствуя о глубине наблюдений, сделанных Юлианом при его введении в вероисповедные таинства душеспасительного христианского учения.
Глава пятая Наставление в вере[56]
Провозглашенная равноапостольным царем Константином I толерантность, сиречь (религиозная) терпимость, устранила все препятствия, стоявшие на пути победного шествия и распространения христианства не только в пределах Римской «мировой» империи, но и далеко за ее пределами. Наконец-то Христова церковь оказалась в состоянии в полной мере использовать притягательную силу своих празднеств, торжественно отмечая их не под покровом темноты, в подземных убежищах (от чего, если верить церковной истории патриарха Иерусалимского Досифея, и пошел обычай христиан зажигать светильники во время богослужения), как прежде, в пору гонений, а безбоязненно, при ярком свете дня. Размеры христианских базилик заметно увеличились, их число многократно возросло. С целью привлечения язычников литургии придавались новые формы, с учетом языческих обычаев, привычек и склонностей. Очень скоро церемониал церковных праздников стал превосходить своим блеском и своей пышностью прежние, дохристианские культы. И в то же время церковный культ «галилеян» не отвращал своими формами от церкви даже самые тонко чувствующие души. Не вызывая более сомнений, церковь сумела привлечь к себе как высший, образованный слой, так и широкие, необразованные массы населения. Она апеллировала к самым благородным побуждениям души, указывала и открывала без разбора всем, большим и малым, общий для них всех путь к спасению, аналогичного которому не смог бы найти и указать в рамках древних религий даже самый фанатичный апологет язычества.
В целях повышения привлекательности и прелести молитвы, церковь успешно сочетала ее с самыми разными средствами воздействия на чувства прихожан (и «захожан»), которые только можно было себе вообразить – символическими изображениями и ритуальным языком жестов, песнопениями и музыкой, приводящими сердце и дух молящегося то в возвышенное, то в умиротворенное состояние. Она непрерывно предоставляла верующим возможность вновь и вновь разжигать в себе пламя веры. Дни памяти Христа Спасителя, святых апостолов и мучеников следовали другом за другом плавной чередой в церковном календаре, составляя и образуя годовой круг Богослужения, в каждый из них полагались особые чтения и благочестивые медитации, и потому смена времен и месяцев года сопровождалось значительным числом памятных и знаменательных праздников. В каждый из этих праздников, да и в промежутках между ними верующие могли сочетаться со Христом путем участия в Святой Евхаристии, как это было принято с самых ранних времен христианства, начиная с евангельской Тайной Вечери. А во все прочие дни с первого крика петуха и до наступления темноты они, трезвые, целомудренные и чистые, в ожидании раскрывшие очи и души, ощущали близость Иисуса, стучавшего в их сердце. Чтобы наитеснейшим образом соединиться с Ним, христианам надлежало, из почтения к Нему, принести Ему в жертву – посвятить Ему – не живые существа или плоды земные, но лишь все свои дела. Так благочестие облагораживало даже самые низкие будничные занятия.

Ловля рыбы (римская мозаика)
Когда матросы и гребцы безропотно несли свою суровую морскую службу; когда рыбаки тянули из озер, рек или моря сети с рыбой; когда возчики влачились со своими тяжело нагруженными возами по пыльным сельским дорогам; когда виноградари и пахари на залитых солнцем холмах и в долинах гнули натруженные спины на виноградниках и пашнях, добывая себя тяжким трудом хлеб насущный; когда рабы крутили скрипящие мельничные жернова, перемалывая зерно в муку, потребную для изготовления этого самого хлеба насущного; когда девушки и женщины трудились в своих каморках за ткацким станком и прялкой, – всегда и везде древние трудовые песни приспосабливались к новому спасительному вероучению, а трудовой ритм – к ритму псалмов.

Пахарь и сеятель (римская мозаика)
«Оратай (пахарь – В. А.), опираясь на плуг свой, поет аллилуйя, жнец освежается псалмами посреди знойных трудов, и виноградарь, обрезывая лозы свои, имеет непрестанно в устах своих стихи Давида (ветхозаветного святого царя-пророка-псалмопевца, сочинителя Псалтири – В. А.)», как писал блаженный Иероним Стридонский, автор латинского перевода Библии – так называемой «Вульгаты».
Так христиане превращали всю свою жизнь от рассвета до заката в одну сплошную, непрерывную молитву, возносящую душу к Богу и постепенно изгонявшую из атмосферы – то есть, из воздушного пространства – вредоносное влияние злых демонов (или, по-нашему, по-русски – бесов); ибо еще не изведенные под корень идолопоклонники по-прежнему творили в разных частях богоспасаемой (в общем и целом) Римской «мировой» державы свои безобразия.
Итак, в ту пору, когда Юлиан усердно предавался в благодатном и спасительном уединении Макелла своим духовным упражнениям, христианский культ уже подчинил себе, с помощью своей гармонично построенной литургии, умы и души многих подданных благочестивых августов, добившись повсеместного и прочного влияния. Кроме того, этот культ привлек Юлиана блеском и притягательностью, всегда присущими в глазах всякого человека, чему-то новому, успешному, победоносному. Будучи в возрасте, в котором дух, душа и настроение еще подобны чистому листу, неисписанной странице (или, как говорили римляне, tabula rasa), весьма впечатлительный юноша, конечно же, очень быстро поддался воздействию новой религии, исповедовать которую его учили опытные, искушенные наставники и душепастыри – ловцы душ человеческих (по евангельскому речению Спасителя), питавшие его духовной трапезой догматов богословия, умело толковавшие тексты Священного Писания и прояснявшие глубокий смысл церковных таинств. Склонный по своей природе к мистической мечтательности, царевич, вероятно, вполне добровольно позволил совершить над собой христианские посвятительные обряды, против которых открыто восстал лишь при своем отпадении от христианства. Сначала он принял возложение рук и крестное знамение на чело. Подобно всем оглашенным (по-гречески – катехуменам), Юлиану разъяснили смысл Молитвы Господней, а затем, после преподанных ему главных положений христианского вероучения (при этом история страстей Христовых растрогала его до слез), он был принят в число тех, кто испрашивал милости и благодати Святого Крещения. Царевич постился и молился положенное время и покаялся в своих грехах, выучил наизусть Символ Веры в форме, принятой в диоцезе (епархии) его епископа – полуарианина Диания («Верую в Бога Отца всемогущего, И в Иисуса Христа, Сына его единородного, Господа нашего; рожденнаго от Духа Свята и Марии Девы; распятаго при Понтийстем Пилате, и погребенна; воскресшего в третий день из мертвых; восшедшаго на небеса, седяща одесную Отца; и грядущего судити живым и мертвым. И в Духа Святаго; Святую Церковь; Отпущение грехов, Воскресение плоти»)., дал экзорцистам произнести над собой все необходимые заклинательные молитвы, в которых именем Божьим запрещалось нечистым духам приближаться к новокрещенному, совлек с себя все одежды, торжественно объявил (причем не трижды, как принято у современных христиан, а пятнадцать раз, как это было принято в IV столетии), что отрицается Сатаны и всех дел его, и всех аггелов (демонов) его, и всего служения его, и всея гордыни его, свидетельствовал свое сознательное сочетание Христу. Священник трижды облил его очистительной водой Крещения (в то время на римском Востоке крестили обливанием), смыв с крещаемого все его прежние грехи. Затем Юлиана облачили в белоснежную одежду новообращенного, помазали его елеем освящения, и наконец, к его великой радости, поднялась завеса, скрывавшая от него Таинство Евхаристии – на Пасхальной литургии он был допущен к Святому Причастию.
Воспитатели царевича повели его еще дальше по пути христианского совершенства – Юлиан, обретший Благодать Святого Крещения, был (как и Галл) допущен к вступлению в ряды низшего клира, приняв посвящение в священный чин анагноста. Иными словами, царевича приняли в число чтецов, чья задача (или, по-христиански – послушание) заключалась в том, чтобы ритмично, ясно и отчетливо декламировать членам церковной общины те или иные отрывки из Библии.
Как писал впоследствии святой Григорий Назианзин, один из самых яростных обличителей Юлиана Отступника, стремясь всячески подчеркнуть «отеческую заботу» и «любовь» августа Констанция II к обездоленным, с его ведома и при его попустительстве (если не по его державной воле), царственным сиротам:
«На них (сводных братьях Галле и Юлиане – В. А.) <…> не лежало тогда никаких должностей, царская власть была еще впереди и в одном предположении, а возраст и надежда не вели к чинам второстепенным. Посему они имели при себе наставников и в прочих науках (все первоначальное учение преподавал им сам дядя и царь), а еще больше – в нашем любомудрии, не только в том, которое имеет предметом догматы, но и в том, которое назидает благочестие нравов. Для сего пользовались обращением с людьми особенно испытанными и были приучаемы к делам самым похвальным, показывающим опыты добродетели. Они по своей охоте вступили в клир, читали народу божественные книги, нимало не почитая сего ущербом для своей славы, но еще признавая благочестие лучшим из всех украшений. Также многоценными памятниками в честь мучеников, щедрыми приношениями и всем, что показывает в человеке страх Божий, свидетельствовали о своем любомудрии и усердии ко Христу». («Слово четвертое, первое обличительное против царя Юлиана»)
Когда Юлиан впоследствии предпринял свою грандиозную попытку «влить новое вино в мехи старые» – вдохнуть новую жизнь в умирающий культ языческих богов, он (и это вызывает определенное удивление) восхвалял не те его аспекты и моменты, которые были свойственны в равной степени всем восточным по происхождению мистериальным культам – Христа, Кибелы, Исиды или Митры – но в первую очередь рекомендовал своим языческим единоверцам многое из того, с чем познакомился в лоне христианской церкви в пору своего первого религиозного рвения. Нигде и никогда он не утверждал в данной связи (в отличие от многих позднейших критиков христианства), что христианские обряды не содержат в себе ничего нового и оригинального, но, напротив, в своих сочинениях ставил христиан в пример «своим» язычникам и в особенности – хвалил христианскую трудовую мораль, как образцовую и достойную подражания.
Особенное восхищение у Юлиана вызывала структура внутренних помещений церквей и молитвенных домов, в которых собирались верующие в Спасителя Иисуса. Он оказался способным оценить по достоинству всю целесообразность их расположения и понять их значение. По его представлениям, богословское и нравственное обучение в форме чтения и проповедей повышало воздействие культовых действий и придавало им вящую весомость и основательность подлинного духовного просвещения.
Религиозный пыл тогдашних верующих христиан очень часто находил свое выражение преимущественно в почитании святых мучеников. На местах их захоронений повсюду высились роскошные молитвенные дома, купола которых были украшены красочными мозаичными изображениями. А в местах, где верующим для поклонения нельзя было предоставить святые мощи, их привозили из каких-либо иных святых мест. С момента обретения в Элии – Святом Граде Иерусалиме – Святого Гроба Господня, Святого Истинного Креста и Голгофских гвоздей (один из которых равноапостольный царь Константин Великий повелел вделать в свой шлем в залог своей непобедимости), в церквях римского Востока непрерывно обретались все новые священные реликвии, переносимые под пение псалмов и аккомпанемент страстных молитвенных обращений.
Когда христианское духовенство Кесарии Каппадокийской порешило найти для своей паствы небесного заступника перед Богом, долго искать ему не пришлось. Невдалеке от города покоились мощи скромного пастыря, то есть, попросту говоря – пастуха по имени Мамант, Мамае или Мама. Этот святой человек провел свою земную жизнь в праведных трудах и в благочестивых молитвах, питаясь, как о нем рассказывали, молоком стельных олених, пасшихся в его родных горах, и был в правление языческого императора-солнцепоклонника Аврелиана, приговорен к смерти за исповедание веры в Христа. Вскоре после мученической кончины Мамы его могила прославилась многочисленными творившимися там чудесами. Помолившись святому мученику, его преданные почитатели неоднократно получали чудесные подтверждения милости Небес, включая возвращение уже давно оплакиваемых ими близких, считавшихся пропавшими без вести; воскрешение умерших детей; многочисленные видения и исцеления.
Все эти чудеса, совершенные по молитвам угодившего своей праведной жизнью и мученической кончиной Богу пастуха прославили его имя на всю Каппадокию и соседствующие с ней области римской «мировой» державы.
Когда интернированные в Макелле благочестивые братья-сироты Галл и Юлиан, получили от своих катехизаторов испрошенное дозволение помолиться в часовне святого Мамы, они сочли это очень скромное строение недостойным столь великого святого, и решили построить на его месте монументальное здание. Братья взялись за этот подвиг христианского благочестия сообща, причем разделили «фронт работ» между собою пополам. Каждый из них старался превзойти другого пышностью и благочестивым рвением. Однако скромный пастух, чьи останки поились под камнями, еще раз проявил в данном случае свою чудодейственную силу. В то время как часть постройки, возводимая Галлом, росла не по дням, а по часам, все усилия Юлиана оставались напрасными. То построенное им рушилось, то земля засыпала сооруженный им фундамент, как если бы она не желала принимать ничего от человека, чье благочестие оставляло в действительности желать много лучшего. Это невероятное чудо, добавляет раннехристианский агиограф[57], сохранивший данную историю для последующих поколений (включая и нас, многогрешных), может быть подтверждено многими современными ему людьми, ставшими некогда его очевидцами. Возможно, этот исторический анекдот родился после отпадения одного из наших двух братьев от веры. К тому же он явно представляет собой прямую реминисценцию на жертвоприношение двух других, упомянутых в христианском Священном Писании Ветхого Завета, братьев – благочестивого Авеля (чья жертва была принята Богом) и нечестивого Каина (чья жертва была Богом отвергнута), что указывает на его литературное происхождение. Тем не менее, вряд ли стоит считать сообщение агиографа вымышленным от начала до конца. По крайней мере, безымянный рассказчик донес до нас достаточно привлекательный образ юного царевича Юлиана, честно стремящегося, не покладая рук, возвести базилику в честь и память скромного мученика-простолюдина.
Впоследствии эта знаменательная история обрела, в передаче святого Григория Богослова, епископа каппадокийского города Назианза, от названия которого он и получил свое прозвище «Назианзин» (пишущего просто о «мучениках», не упоминая конкретно святого Маманта), следующий вид:
«Один из них (двух сосланных Констанцием II в Макелл братьев-царевичей – В. А.) был действительно благочестив и хотя по природе вспыльчивее, однако же в благочестии искренен (речь идет о Галле – В. А.). А другой (Юлиан – В. А.) выжидал только времени и под личиной скромности таил злонравие. И вот доказательство! Ибо не могу пройти молчанием бывшего чуда, которое весьма достопамятно и может послужить уроком для многих нечестивцев. Оба они, как сказал я, усердствовали для мучеников, не уступали друг другу в щедрости, богатой рукой и не щадя издержек созидали храм. Но поелику труды их происходили не от одинакового произволения, то и конец трудов был различен. Дело одного, разумею старшего брата шло успешно и в порядке, потому что Бог охотно принимал дар, как Авелеву жертву, право и принесенную и разделенную (Быт. 4:7), и самый дар был как бы некоторым освящением первородного, а дар другого (какое еще здесь на земле посрамление для нечестивых, свидетельствующее о будущем и малозначительными указаниями предвещающее о чем-то великом!) – дар другого отверг Бог мучеников, как жертву Каинову. Он прилагал труды, а земля изметала совершенное трудами. Он употреблял еще большие усилия, а земля отказывалась принимать в себя основания, полагаемые человеком, зыблющимся в благочестии. Земля как бы вещала, какое будет произведено им потрясение, и вместе воздавала честь мученикам бесчестием нечестивейшего. <…> Какое братолюбие в мучениках! Они не приняли чествования от того, кто обесчестит многих мучеников, отвергли дары человека, который многих изведет в подвиг страдания, даже позавидует им и в сем подвиге».
Как говорится – «почувствуйте разницу!» Впрочем, довольно об этом…
Как известно, вера без дел мертва есть… И потому царственного «ссыльнопоселенца», в соответствии со словами святого Григория, учили, что благочестие находит свое наилучшее, наиполнейшее выражение в нравственном поведении. Его духовные воспитатели в ходе своих разъездов по странноприимным домам, сооружаемым в то время церковью для путешественников и нуждающихся, а также в ходе своих посещений больных и заключенных брали с собой и юного царевича. Так они пробуждали в нем сочувствие и понимание нравственного евангельского учения, давая Юлиану возможность участвовать в творимых ими делах христианского милосердия.
Время тогда было крайне тяжелое, если не сказать – кризисное. Голод, вторжения внешних врагов, стихийные бедствия, всевозможные трудности и испытания, осложняемые безудержной спекуляцией и ростовщичеством, а также бездарной политикой хищного фиска – имперской налоговой службы —, действовавшего по принципу «чем больше жмешь, тем больше выжмешь», повсюду вели к неудержимому, все возрастающему массовому обнищанию. Города были переполнены бродягами и беженцами.
На площадях и на церковных папертях Антиохии, столицы римской Сирии – прославленного на весь античный мир своими роскошно украшенными площадями, нескончаемыми рядами тщательно вымощенных улиц длиной до тридцати шести стадий (или, по-современному, шести с половиной километров), сдвоенными колоннадами и галереями, освещаемыми ночью с помощью фонарей так же яро, как и днем – солнечным светом, обильным водоснабжением, позволявшим иметь ванны даже владельцам самых скромных домов, города социальных контрастов – теснились несметными толпами калеки, слепцы, больные лихорадкой и жалкие фигуры голодающих, прилюдно обнажавшие свои покрытые язвами члены и свои исхудавшие, как скелеты, тела, в надежде вызвать сострадание. Ефрем Эдесский и другие авторы тех времен описывали подобные душераздирающие сцены, способные вызвать сочувствие по сей день. В такой весьма опасной для общественного порядка обстановке церковь изыскала новую возможность претворить в форму деятельной любви к ближнему – благотворительности – свое сочувствие и сострадание страждущим. В IV веке церковь принялась – прежде всего на Востоке Римской «мировой» державы, а если быть еще точнее – то на Ближнем Востоке, учреждать при молитвенных домах лечебницы, дома призрения – приюты для убогих и странноприимницы. Первоначально они были предназначены для размещения неимущих странников, не имевших чем заплатить за ночлег, но вскоре постройки стали расширять, располагая под одной крышей несколько отделений, дававших приют всем категориям нуждающихся в помощи, либо отдельные детские дома для сирот и подкидышей (у язычников – греков и римлян – подкидывать детей, даже рожденных в законном браке, было совершенно обычным делом); больницы (в том числе для неизлечимо больных), дома престарелых (по-латыни – инфирмерии). Одновременно повсеместно множились мужские и женские монастыри, также помогавшие нуждающимся.

Турецкий город Антакья, в древности – Антиохия-на-Оронте, столица римской Сирии (современный вид)
Кесарийская церковь была богатой и щедрой. Нигде лучше, чем в Макелле, Юлиан не мог наблюдать за тем, что священники и епископы делали для бедных. Возможно, именно тогда он впервые увидел запомнившиеся ему на всю жизнь фигуры людей, названных им апотактитами, то есть отшельниками или отрицателями мира – нищенствующих монахов, отказавшихся, по его утверждениям, от всего, одетых в грубую рубаху-тунику, а поверх туники – в черный плащ либо мешок из козьей шкуры; их нечесаные и неприбранные волосы развевались на ветру, бороды были всклокочены, нестрижены и неухожены, ноги – босы. В таком виде они бродили по округе, просили подаяния, молились в церквях и, в качестве единственного «рекомендательного письма» предъявляли выданное епископом удостоверение. Наиболее строгие в своем непримиримом аскетизме апотактиты даже отказывались обращаться со словами приветствия к женатым мужчинам или замужним женщинам.