Часть 1. Мифопоэтическое в визуальном повествовании: русский авангард
Раздел 1. «Язык» и «речь» художественного изображения
Глава 1. Время как слово в живописи позднего авангарда
Повествовательность художественного изображения (монументальной и станковой живописи, скульптуры, графики) обычно связывают с сюжетом – его наличием, степенью выраженности, отнесенности к вербальным прецедентам (мифу, фольклору, литературному произведению) с соответствующими узнаваемыми в системе тех или иных культурных кодов эпизодами, персонажами и идеологическим кодом (например, евангельские сюжеты). Однако важно учитывать, что собственно сюжет еще не образует повествовательной структуры. Последняя определяется прежде всего соотношением точек зрения агентов повествования и позицией нарратора. С другой стороны, сюжет в изобразительном искусстве, заданном психофизиологической природой зрения и пространственной перцепцией окружающей реальности, строится на принципиально иных семиотических законах, чем сюжет литературного произведения, пространство которого конвенционально (это пространство второго уровня – пространство текста) и которое разворачивается во времени естественного языка. Говорить о визуальном нарративе, таким образом, означает говорить прежде всего о соотношении/пересечении зрительных повествовательных стратегий, выраженных преимущественно в различных точках зрения на единый предметный объект и группу предметов, как в их соотношении с физическим миром, так и виртуально. Т. е. речь идет о фокусе изобразительного означивания, который не сводится лишь к точке зрения автора-художника, а предполагает сложную равнодействующую всех агентов повествования – автора, зрителя и персонажей полотна (пусть даже вещных «персонажей» натюрморта), результатом сложения которых становится целое изобразительного «текста». «Текст» образует поле трансформации языка зрительных форм, существующих между знанием (как семиотическими законами коммуникации) и искусством (художественной интенцией). Всем этим занимается теория визуального нарратива, которая является в наши дни бурно развивающейся областью визуальной семиотики. Как известно, сдвиг в сторону изобразительности определяет существенные свойства современной цивилизации (телевидение, Интернет и пр.). Исследования визуального нарратива сосредоточены на природе повествовательности изображения, как художественного, так и любого другого в системе коммуникации (реклама, логотипы и т. п.).
В настоящей главе ставится задача осветить основные положения современного визуального повествования (области семиотики, в нашей стране являющейся практически полностью terra incognita), на основе которых попытаться решить две проблемы. Первая – теоретическая – состоит в исследовании природы имплицитной вербальности изображения-рассказа, его типологии и коммуникативной структуры, в частности, посредством постановки вопроса о внутреннем зрителе в художественном изображении. Разумеется, в рамках настоящей главы мы лишь называем проблему, не претендуя на ее всестороннее рассмотрение. Вторая сторона вопроса носит историко-культурный характер: нас интересует, как фигуративная (миметическая) жанровая живопись вписывается в парадигму авангардного (немиметического) наследия. Механизм этой связи, как мы предполагаем показать, основан на выявлении в «тексте» визуального повествования вышеупомянутого внутреннего зрителя. Иными словами, настоящая глава посвящена проблеме того, как картина (живописное изображение) рассказывает историю, точнее – как картина рассказывает историю, не прибегая к параллельному вербальному ряду, и, наконец, как картина рассказывает историю, не прибегая к параллельному вербальному ряду, однако опираясь на имплицитную вербальность (имеющую место в ряде типов изобразительного повествования).
Уникальный эпизод истории искусства, который нами берется как пример – поставангард конца 1920-х – начала 1930-х годов в России. В это время, когда авангард вступил в фазу своего заката, произошел резкий поворот от беспредметности к фигуративной композиции в живописи. Однако новая фигурация несла память об авангарда, что проявилось как в стиле, так и в семантике произведений. Важный вопрос, на который история искусства еще не дала ответа, состоит в том, в чем именно состоял этот след. Ясно, что авангардом был создан новый субъект художественного языка. Об этом свидетельствуют более приближенные к нам эпохи. Так, в живописи соцреализма 40–50-х годов возникали почти точные реплики реализма до-авангардного, передвижников. Примером может служить картина А. Решетникова «Опять двойка» (1952, ГТГ) [илл. 1], композиционно почти полностью повторяющая известное полотно И. Репина «Не ждали» (1888, ГТГ) [илл. 2]. Однако авангардная парадигма, с одной стороны, и опыт отечественного концептуализма 70–80-х годов с его самоиронией – с другой, заставляет прочитывать художественное сообщение картины советского мастера не только спрямленно-дидактически (хотя очевидно, что сознательной интенцией автора было именно это), но и сквозь призму опыта авангарда и поставангарда, в духе игровой интертекстуальности и как событие постистории. Т. е. художественный опыт зрителя и – подспудно – самого автора радикально влияют на интерпретацию и общее формирование значения повествования. Однако дело не только в восприятии. Этот пример показывает, как важно задаться вопросами, каким образом на уровне наррации происходит переключение фокуса зрения, каковы агенты наррации в позднем фигуративном авангарде.

1. А. Решетников. Опять двойка. 1952

2. И. Репин. Не ждали. 1888
Один из парадоксов художественного авангарда состоит в том, что хотя изображению удалось выйти за пределы диктата слова, т. е. преодолеть логоцентризм культуры нового времени, он при этом создал обильный вербальный контекст и во многом на нем базировался: манифесты, автокомментарии, диалогические формы соотношения текста и изображения внутри визуального целого. В поставангарде вербальный компонент ушел вовсе или отошел на задний план. Однако слово не покинуло изображение по существу, переместившись во внутренние слои изобразительного текста. Интересно выявить эту зону вербальности.
В изобразительном сообщении необходимо различать эксплицитную и имплицитную вербальность. В отношении эксплицитной вербальности следует отметить, что соотношение изображения и слова может иметь три варианта: продуктивное взаимодействие при доминировании одного вида (картина и название, иллюстрация текста, экфрасис), конфликт (например, комикс), индифферентность (параллельный ряд – закадровый авторский комментарий, образующий культурный контекст (автокомментарии и теоретические трактаты В. Кандинского)).
Имплицитная вербальность – это «чреватость» изображения словом. В современных исследованиях визуального нарратива в варианте имплицитной вербальности нарратив понимается в широком и узком смысле. В широком смысле любое изображение рассматривается с точки зрения внутреннего сценария, драматургии действия, значимых персонажей. Сюда попадают как фигуративные, так и нефигуративные произведения. В узком смысле рассматриваются только те изображения, которые имеют выраженный временной план и определенный, включающий категорию времени сюжет, и потому область узко понимаемого нарратива строго ограничена живописью, сюжет которой может быть пересказан словами, т. е. переложен в вербальный нарратив. В данной главе мы остановимся на промежуточном по отношению к названным моделям варианте – на сюжетной фигуративной станковой картине, которая не обязательно ориентирована на какой-либо уже существующий в культуре словесный текст. В рамках этого варианта может быть рассмотрена не только жанровая композиция, но и, например, портрет, содержащий приметы изобразительной истории жизни персонажа. Свойством портретного нарратива может обладать и натюрморт как скрытый портрет – жизнь вещей, описывающих некую личность, стоящую за ними [Лотман 2002: 349–375; Соколов 1994].
В современных исследованиях визуального нарратива можно выделить два основных направления, в которых одно исходит из традиций лингвистики текста, а другое больше ориентировано на общую семиотику [Sonesson 1988]. Семиотическое направление (например, [Kolstrup 1998]) следует модели Морриса-Пирса, сосредоточиваясь на различении формы (символа, т. е. конвенционального знака), индексального и иконического знаков. Сложность применения этой модели к визуальному «тексту» состоит в том, что каждый вид знака может быть одновременно и другим, отсюда и полисемичность сообщения. Что касается лингвистического направления (основные направления описаны в: [Lester 2006; Kolstrup 1998]), для него отправной точной служит рассуждение о том, что есть и чего нет в языке по сравнению с изображением. Так, например, в изображении (не только художественном) можно различить семантику и синтактику, однако нельзя обнаружить грамматики, и это препятствует созданию языка описания. Впрочем, согласно некоторым теориям, грамматике частично соответствует перспектива [Панофски 2004], а закон грамматического согласования усматривается в закономерной повторяемости цветовых пятен и объемных форм в живописи Сезанна [Лотман 2002: 340–348].
Если опираться не на различия, а на общее между вербальным и визуальным повествованием, следует признать, что их объединяет наличие признака времени[1]. Повествование в изобразительном искусстве справедливо усматривается там, где есть компонент времени, т. е. темпоральность [Sonesson 1997]. Открытой темпоральностью исполнены те визуальные нарративы, в которых имеет место совмещение нескольких рассказов в пределах одного изобразительного поля, и тут чаще всего представлены разновременные эпизоды (лубок, фреска, комикс, плакат); последовательное развертывание эпизодов во времени выступает как имплицированная вербальность (категория времени заимствована у вербального сообщения), служащая способом ограничения полисемии изобразительного сообщения. Чреватость словом, таким образом, следует рассматривать как чреватость темпоральностью, а следовательно, и чреватость событием, если под событием подразумевать сдвиг состояния объекта по формуле:
состояние 1 → состояние 2 = событие
Темпоральность может быть выражена не только суммой эпизодов (как в житийной иконе или лубке), но и в форме изображения действия, движения. Так, на картинах А. Лабаса конца 1920-х годов («В вагоне поезда», «Едут», обе работы из частного собрания) движение в композиционном отношении описывается статически – дан торцовый срез стремительно движущегося транспорта, однако передача семантики движения достигается посредством размытости контуров и зыбкости прозрачной цветовой гаммы, в результате чего возникает ощущение скорости. Кроме того, следует различать повествование/ повествовательность как фигуративную картину-рассказ (изображение действия) и как латентный рассказ (ожидаемое действие). Изображение движения выступает в визуальном нарративе знаком латентного, ожидаемого события: такова, например, логика совмещения двух эпизодов в картине К. Петрова-Водкина «Смерть комиссара» (1928), где последовательные события (военная атака и ранение воина в бою) объединены единым сферическим пространством, однако – отчасти благодаря все той же круглящейся сфере – разведены во времени [илл. 3]. Однако какова бы ни была форма темпоральности, для нас в данном случае важно, что темпоральное в изобразительном нарративе эквивалентно вербальному компоненту, является скрытым следом его присутствия, и именно в этом качестве должно рассматриваться.
Как уже упоминалось, наиболее продуктивным направлением размышления в рамках теории визуального нарратива, на наш взгляд, зарекомендовала себя область, фокусирующаяся на проблеме точки зрения. Именно в этом пункте теория визуального нарратива вплотную смыкается с теорией нарратива литературного. Для описания позиции повествования в визуальном нарративе вводится понятие точки зрения автора, агента фабулы (персонажа) и субъекта зрения (focalizer, внутреннего зрителя) [Бел, Брайсен 1996]. В своей уже давно ставшей классикой отечественной семиотики работе об иконе Б. А. Успенский рассматривает визуальный нарратив, выделяя внутреннего и внешнего зрителя; стратегия его исследования направлена на выявление внутренней границы в архаическом и каноническом искусстве [Успенский 1995]. Представляется, что с учетом наработок общей нарратологии целесообразно расширить понятие внутреннего зрителя за счет введения понятия имплицитной темпоральности нарративной позиции.
Внутренний зритель часто рассматривается с точки зрения субъекта зрения в изобразительном пространстве. Так, Коллинс писал об эксцентрическом зрителе внутри композиции картины в связи с маньеристическим и раннебарочным типом анаморфических изображений [Collins 1992]. Примером может служить полотно Гольбейна Младшего «Послы» (1536) – двойной портрет, где на первом плане представлена трудноразличимая форма: будучи мысленно спроецирована под прямым углом, она образует изображение черепа, которое может стать зрительно различимым только изнутри портретной сцены [илл. 4]. Здесь зритель сам создает значимое изображение, повинуясь точке зрения внутреннего зрителя. Другой случай – втягиваемый в диалог автор – персонаж зритель: здесь создается напряжение соотношения реального и воображаемого (моделируемого автором) зрителя. В такого рода визуальном повествовании, где в зеркале отражен не присутствующий в «реальной» сцене соглядатай («Чета Арнольфини» Ван Эйка, «Менины» Веласкеса), различаются зритель-персонаж и зритель = автор (нейтральный зритель). Точка зрения внутреннего зрителя может совпадать с точкой зрения персонажа в пространственном коде. Так, М. Бел и Н. Брайсен [Бел, Брайсен 1996] рассматривают три полотна на известный библейский сюжет «Сусанна и старцы». Наблюдая за направлением взгляда персонажей и пространственных доминант иконографии, авторы статьи утверждают, что в первом случае (Рубенс) сцена зрительно «описана» с точки зрения похотливых старцев, они – субъект зрения и агенты фабулы. Во втором случае (А. Джентиллески) – с точки зрения страдающей Сусанны (мерзнет на холодных каменных ступенях, акцентирован ее ненавидящий поклонников взгляд), а в третьем (Рембрандт) – субъект размыт, образуя диалог дискурса насилия с дискурсом меланхолии, которые в свою очередь приходят в диалог с эротическим дискурсом (взгляд преследующего старца направлен в неопределенную даль, сама Сусанна подчеркнуто эротична). Согласно авторам статьи, в последнем случае зритель не может идентифицироваться ни с одной точкой зрения. Т. е. анализ точки зрения повествователя в исследовании американских ученых сводится к попытке идентификации позиций зрителя и того или иного персонажа.

3. К. Петров-Водкин. Смерть комиссара. 1928

4. Х. Гольбейн Младший. Послы. 1533
Подобное сведение точки зрения исключительно к субъекту зрения и его места в композиции страдает, на наш взгляд, механистичностью. Важно было бы учитывать модус изображения, т. е. того, как последний задается оплотненным планом выражения и как он влияет на смещение точки зрения нарратора в визуальном повествовании. И здесь опять на первый план выступает имплицитная темпоральность.
Известно, что в авангарде произошла утрата идентичности репрезентаций пространства. Согласно Сонессону, «пространство репрезентации в картине является в то же самое время и репрезентацией пространства обычного человеческого восприятия, которое затрудняет организацию другими системами (это было нарушено кубизмом, Сезанном, некоторыми формами коллажа и синтетическими картинами, и более радикально модифицировано визуальными системами информации, логотипами, дорожными знаками и пр.)» [Sonesson 1997]. Иными словами, план выражения переместился в область плана содержания, т. е. произошло описанное в свое время Р. Якобсоном опрокидывание оси семантики на ось синтагматики. По отношению к историческому авангарду в поставангарде возникло двойное смещение: «опрокинутая» семантика вернулась на свое прежнее место, но уже в форме метанаррации, т. е. с сохранением доминирующего значения синтагматики. Отсюда – значимая роль имплицитной темпоральности как скрытой вербализации, выразившейся в отсылке к устоявшейся иконографической схеме. Речь идет о временно́м измерении плана выражения (оплотненная имплицитная темпоральность), которое определяет интертекстуальные значения изображения и актуализирует фоновую память – знание прецедентных текстов. Точка зрения, таким образом, должна быть рассмотрена на уровне плана выражения.

5. Г. Федотов. Завтрак аристократа. 1849–1850

6. Э. Мунк. Крик. 1893

7. К. Малевич. Купальщики. 1929–1932
Кроме того, следует различать объектное и субъектное повествование как рассказывающее и рассказываемое. Разумеется, грань между ними зыбка, но все же может быть отмечена: объектное (рассказывающее) повествование можно проиллюстрировать рассказом-картинкой живописью, имеющей целью повествование за пределами (или частично за пределами) собственно живописных задач – например, картина Г. Федотова «Завтрак аристократа», и здесь доминирует внешний наблюдатель. Субъектное повествование описывает состояние (которое можно развернуть до уровня рассказа) с позиций внутреннего зрителя, т. е. визуальное повествование обретает признаки страдательного залога, становится рассказываемым [илл. 5]. На этом основана повествовательность картины Мунка «Крик», [илл. 6] а также эскиза К. Малевича «Купальщики», описывающих состояния (ужаса, холода и т. п.) от лица самих персонажей [илл. 7].
С радикальным субъектом авангарда произошла метаморфоза – он трансформировался в радикальный объект поставангарда (например, тема катастрофы, определявшая в историческом авангарде область поэтики, в конце 20-х годов заняла зону мотивики русской живописи). При этом среда повествования может быть описана оппозицией плотная/прозрачная. Критерием степени плотности может служить степень акцентировки плана выражения. Уплотнение плана выражения, т. е. его усиление, интериоризирует точку зрения, т. е. вводит зрителя внутрь повествования, а его опрозрачивание – наоборот, экстериоризирует ее, задает зрителю положение извне. В поставангарде сохраняется плотность плана выражения и происходит перенос иконического значения в план индексального. След авангарда реализуется как оплотненность плана выражения. Последний влечет за собой скрыто-временную позицию зрителя, что усиливает напряжение отношений нарратор – зритель. Нарратор задает интертекстуальный код, при этом позиция зрителя как бы перемещается внутрь картины-рассказа: зритель оказывается своего рода свидетелем описываемого события, т. е. развертывания визуального повествования во времени. Приведем три примера.
Первым примером иллюстрируется точка зрения нарратора в имплицитно-темпоральном коде: К. Малевич. «Автопортрет» (1929–1932)[2] [илл. 48]. Автопортрет по специфике своего жанра является нарративным эго-текстом, и это особенно ясно проявилось в данном случае. Семантика целиком смещена в план выражения: имплицитная темпоральность задана мотивом разрыва стилей – временной слой от итальянского Возрождения до супрематизма демонстрирует категорию времени (прежде всего, времени истории искусства, смены стилей) как третье измерение (противопоставлено плоскостности изображения). Вспоминаются тексты Малевича о прибавочном элементе в истории живописи, очевидной иллюстрацией которых «Автопортрет» и выступает. Риторический жест изображенного на полотне указывает на доминанту категории времени – он театрально отсылает зрителя к прошлому. Костюмированный маскарад автора = персонажа направлен на обозначение кульминантной позиции супрематизма в пространстве временного развертывания культуры, а иронический модус этого портрета-маски вводит взгляд со стороны. Автор здесь полностью совпадает со своим внутренним «Я» как внутренним зрителем, и имплицитная темпоральность плана выражения призвана остранить супрематизм как внешний объект, локализовав его место в Большом времени постренессансной европейской цивилизации[3].
Второй пример – картина неизвестного советского автора «Происшествие» (1937) [илл. 8]. На полотне представлена сцена с всадником, лежащей на земле полутенью/полуфигурой и стоящим рядом человеком. Визуально описываемое здесь событие только что произошло, но время не фиксировано. Внутренний зритель проявляет свое присутствие благодаря реализации в изобразительном рассказе позиции, которая выступает как грамматический аналог формы Present Perfect в английском языке. План выражения (экспрессивный пейзаж, размашистый длинный мазок) особенно оплотнен, и это можно прочесть как актуализацию памяти об авангарде со свойственным этой поэтике акцентом на выражении. Необходимо учитывать и интертекстуальность повествовательного компонента: описываемые события выступают как иконографическая отсылка к мотиву Апокалипсиса (всадник на белом коне, тревожный пейзаж и пр.). В данном повествовании имеет место двойной темпоральный модус: зритель располагается и внутри нарратива (внутренний зритель как свидетель-участник события), и вне его, в той области, которая реализует иконографическую отсылку как интертекст (фоновый дискурсивный прецедент), описывающий время нарратора. Возникает рассказ в рассказе, метанаррация.

8. Неизвестный автор. Происшествие 1937
Наконец, третий пример – картина К. Петрова-Водкина «Новоселье» (1936) [илл. 9]. На страницах этой книги мы не раз будем обращаться к данной композиции. Ее сюжет отмечен обилием бытовых подробностей: это визуальный рассказ о вселении советской семьи петроградских рабочих в квартиру «бывших». В отличие от предыдущего примера, здесь план выражения прозрачен: акцент сделан на сюжете, семантике изображения. Последняя определяется двойственностью планов и оппозициями старое/новое, близкое/далекое, жизнь/смерть. Акцентирована дейктическая функция иконических значений: там и тут, тогда и теперь (старинные картины в рамах vs «пролетарская» внешность персонажей, стул vs табуретка, интерьер празднующих новоселье vs пейзаж за окном и т. п.). Иконографический интертекст картины отсылает к жанру vanitas и Тайной вечере (изображение в зеркале натюрморта со знаками vanitas – часы, начатая еда, схема сцены застолья, напоминающей тризну, а также центрально-осевая композиция картины, восходящая к традиции надгробия и очерчивающая фюнеральный код нарратива). Мотив выступает здесь как форма (в смысле мотивных схем В. Проппа), надстроенная над первичной визуальной формой, и благодаря интертекстуальной отсылке эта вторичная форма (мотив-форма) приводит к оплотнению плана выражения: возникает семантический лабиринт. Зритель находится внутри события не в качестве участника (как это демонстрировал предыдущий пример), а в качестве незримого наблюдателя. Указанием на присутствие последнего служит зеркало, расположенное в значимой центральной части композиции, и оно реализует свою традиционную в истории искусства функцию, вводя в представляемую сцену незримого персонажа (Веласкес и Ван Эйк): в данном случае «персонажем» служит отраженный в зеркале натюрморт, которого нет в «реальном» пространстве интерьера и который, как рассказ в рассказе, но уже с противопоставлением двух временных планов, отсылает к быту прежних хозяев. Present Perfect предыдущего примера сменяется здесь на Past Perfect. Имплицитная темпоральность поставангарда вследствие вторичного оплотнения плана выражения выступает как имплицитная вербальность. К этому добавляется игра иконографическими схемами-кодами как знак имплицитной темпоральности. Можно сказать, что мы имеем дело с фрактальной конструкцией: сюжетная и композиционная часть повторяет целое, и благодаря зеркалу цепь замыкается[4].

9. К. Петров-Водкин. Новоселье. 1936
Таким образом, имплицитная вербальность фигуративной живописи поставангарда может рассматриваться как своего рода нарративный фрактал. В поставангардную эпоху визуальный нарратив, реализующий внутреннюю темпоральность как позицию внутреннего зрителя, хранит память-слепок о вербальном авторском комментарии. Метауровень нарратива в поставангарде задается полисемией изображения. Множественность интерпретативных стратегий фреймирована социумом, отбирающим те или иные коды.
Из приведенных рассуждений можно сделать следующие выводы:
1. Зона совпадения вербального и визуального нарратива – это временное развитие события. Таким образом, если наличествует темпоральность, то налицо и вербальность.
2. Темпоральность может иметь имплицированную форму, когда она выражена посредством позиции зрителя.
3. Соотношение позиций нарратор/зритель актуализирует напряжение между двумя темпоральными планами: позицией зрителя внутри события и позицией нарратора в форме фонового дискурсивного прецедента (интертекстуальной отсылки).
4. В поставангарде полисемия визуального нарратива реализуется на базе оплотненного плана выражения, составной частью которого является имплицированная темпоральность.
Глава 2. Мотив зеркала и проблема косвенного повествования в визуальном нарративе
А в зеркале я за спиной своей
Так часто что-то лишнее видала…
Зеркало в искусстве рассматривается нами как визуальный мотив, ферментирующий механизм расширения смыслов, а тем самым и осуществляющий перенос значений. В качестве текстопорождающего семиотического механизма и оператора смысловых переносов зеркало может быть рассмотрено в контексте визуального нарратива. Под последним мы понимаем фигуративные композиции изобразительного искусства, главным образом живописи, которые передают некоторое повествование (т. е. последовательность действий, распределенных между набором персонажей с их закрепленными традицией функциями и выраженной рядом художественных приемов позицией рассказчика). Повествование может быть передано вербально, однако – как это было показано в предыдущей главе – оно не сводится к литературной параллели, реализуя собственные, присущие виду потенции. В наиболее простой форме примером визуального нарратива может служить лубок, где изображение последовательных сюжетов и комментирующий их текст взаимосвязаны, а также историческая или социально ангажированная живопись (будь то передвижничество XIX века или соцреализм сталинской эпохи – особенно Лактионова, Решетникова, Бродского). Более сложный тип нарратива образован сюжетно мотивированными портретами, композициями на мифологические темы, средневековой иконописью или фигурацией эпохи позднего авангарда (например, П. Филонова и К. Малевича). Рассказчик в них часто не объективирован, и его роль берут на себя явные и/или скрытые персонажи, а также зритель[5]. О зеркале, порождаю щем дополнительных персонажей и воспроизводящих «чужую речь» в повествовании и пойдет речь дальше.
Изображение и слово в процессе повествования с большой остротой реагируют друг на друга и на сам по себе тип этого перевода: его принципиальное наличие и характер маркируют очень важные свойства культуры, и потому встает проблема взаимной переводимости кодов в каждую эпоху или в связи с той или иной практикой поведения. Отдавая бразды правления тому или иному рассказчику, автор реализует определенную коммуникативную стратегию, выраженную в определенном типе речевого поведения персонажей и всей композиции в целом. Поэтому важно найти соответствия между определенным типом нарратива в искусстве и речевыми формами естественного языка. Некоторые такие соответствия лежат на поверхности жанра: так, плакат оперирует грамматическим императивом (плакаты времен голодомора «Помоги!» или взывающий к бдительности советского гражданина «Не болтай!») – аналогичным образом построена и телереклама нашего времени [илл. 10]. Императив приводит в действие перлокутивный (побуждающий к действию) речевой акт. К изобразительным соответствиям речевому жанру можно отнести лубок, где реализуется повествовательная форма сказа.

10. Советский плакат «Не болтай». 1930-е гг.
Однако для других типов речевого поведения в изобразительном искусстве необходимо учитывать различение объектного и субъектного повествования, о которых шла речь в предыдущей главе. Помимо объектного и субъектного повествования можно говорить также о повествовании прямом и косвенном. Если с прямым повествованием и его визуальными аналогами дело обстоит относительно просто (под него можно подвести все искусство нового времени, начиная с Ренессанса), с косвенным несколько сложнее. Оно предполагает вычленение неявного повествовательного плана в изображении, на который автор только намекает, но который не вводится в саму композицию.
Одной из речевых форм косвенного повествования являются слухи. В аспекте коммуникационных механизмов культуры можно говорить об аналогии между зеркалом как мотивом изобразительного повествования и слухами. Слух характеризуется наличием неявного адресанта и саморасширяющегося сообщения, которое в процессе своего расширения все больше мифологизирует исходное сообщение в контексте рамочного повествования. При этом сообщение передается рассказчиком от лица третьего персонажа, как чужая речь («он рассказал, что…»). В настоящей главе мы намерены показать, что зеркало предполагает в изображении не только наличие объекта и его отражения, но также и некого третьего участника коммуникативного акта, от лица которого в сущности и ведется повествование. Этот зримый (или незримый) свидетель-нарратор задает смену модуса рассказа, а тем самым осуществляет семантический сдвиг – перенос смысловой структуры изображения. Зеркало можно считать агентом трансформаций, осуществляющим косвенное повествование как объектного, так и субъектного типа, и оно аналогично несобственно-прямой речи в литературном нарративе. Но сначала несколько предварительных замечаний о мотиве зеркала в истории искусства и семиотике культуры.
Зеркальное отражение, выступающее как топологическая модель изобразительного искусства, лежит в основе онтологии творчества в целом. У истоков формирований культурных коннотаций зеркала в искусстве лежат два мифа – о Медузе Горгоне (чью голову Персею удалось отрубить благодаря зеркальному отражению в щите) и Нарциссе (смертельно влюбившемуся в собственное отражение в озере). Третий миф – о младенце Дионисе и титанах, его разорвавших, – дополняет картину зеркального отражения в контексте мотива смерти, однако сам по себе не визуализируется. Множество исследований семиотики зеркала разворачиваются между полярностями – от пансемиотичности зеркала как объекта, реализующего специфическую коннотацию в зависимости от идиолекта культуры [Левин 1988], до полного отрицания зеркала как семиотического объекта, что основано на его неспособности создавать иконическое значение [Eco 1986]. Множество исследований посвящено мотиву зеркала в литературе. Не повторяя написанного, мы выделим то, что для нашего аспекта темы представляется наиболее важным, а именно двойственность зеркала как агента переносов изобразительной семантики (возможно, именно она и определила существующий разброс мнений).
Двойственность состоит в способности одновременно удваивать (т. е. тиражировать) изображение, создавать двойника, и при этом в большей или меньшей степени искажать исходный текст, т. е. создавать бахтинско-лакановского Другого и его осмысления в семиотике культуры. Причем следует иметь в виду, что искажение это чисто семиотическое, потому что с точки зрения оптико-математической никакого искажения нет – имеет место поворотная симметрия с регулярной меной правого и левого. Эта относительная свобода означающего, оторванного от своего означаемого, которая определяется оппозицией истинное/неистинное, легла в основу многих литературных сюжетов, разрабатывающих тему двойничества. В их основе часто лежат фольклорно-мифологические представления содержащейся в мотиве зеркала семантики пограничья, границы между мирами. Сама операция перевода изображения определила дезавтоматизацию кода сообщения, а возведение в литературно-художественном тексте сообщения в квадрат (мотив зеркального отражения как сообщение сообщения) явилось моделью художественной условности. Зеркальное отражение выступает и в качестве символического аналога субъективизации зрения, активности глаза, как двуобращенность видимого-видящего, на чем основана мифологическая модель глаза.
Различаются два парадигматических ряда, формируемые зеркалом как семиотическим объектом. В качестве проектора субъективизированного зрения зеркало попадает в ряд телесной парадигматики, причем различение природа/культура выступает здесь в соответствии с противопоставлением целое/партиципированное, т. е. становится эквивалентом протеза органа зрения: линза (микроскоп), фотоаппарат, киноглаз, телевизор, компьютерные технологии, Интернет [Лахманн 2009]. Цивилизационные механизмы, призванные нейтрализовать субъективность (улучшить зрение), приводят к противоположному результату, создавая фантомов-роботов, вписанных все в ту же мифологию глаза.
В качестве агента удвоения-как-искажения зеркало задает другой парадигматический ряд, в котором естественные индексальные знаки обнаруживают соответствие в среде культуры и искусства: в звуковом коде – эхо и вариативность музыкальной фразы, в визуальном коде – тень и орнамент (равно как и всякая регулярная, основанная на тиражированном элементе и зеркальной симметрии изобразительная композиция), в вербально-поэтическом коде – рифма. Этот ряд можно было бы продолжить. Т. е. осуществляется трансляция информации. В таком случае в эту же парадигму попадают и слухи как механизм речевой коммуникации. Таким образом, базовым тезисом исследований мотива зеркала является его бинарность.
Между тем, анализ изобразительного материала дает другой результат: в фигуративных изображениях с участием зеркала всегда есть третий, зримо присутствующий, или косвенно, т. е. как незримо обозначенный персонаж. Впрочем, и в других видах искусства две способности зеркала (повторюсь, одновременно удваивать и искажать объект или, по крайней мере, ставить под вопрос идентичность удвоенного), традиционно служащие для различения двух субъектов («Я» и «Ты», «Я» и «Другой»), на самом деле скрывают в себе третьего. Не этого ли «третьего» имел в виду Владислав Ходасевич в своем стихотворении «Перед зеркалом» (1924):
Я, я, я! Что за дикое слово!
Неужели вон тот – это я?
Разве мама любила такого,
Желто-серого, полуседого
И всезнающего, как змея?
Учет незримого третьего приводит не только к дезавтоматизации кода, но на основе этой дезавтоматизации – к прирастанию нарратива, дроблению его больше чем на две субъектности. При этом возникает и двоение денотата-референта, отсылающего как к предмету, так и к его отражению как представлению о предмете. Информационная троичность зеркального отражения выражена М. Бахтиным: «В зеркале Я намерен показать 1) не себя, а лицо, которое Я намерен показать Другому; 2) реакцию на него Другого; 3) реакцию на реакцию Другого» [Бахтин 1979]. Добавим, что реакция на реакцию не только выявляет механизм отражения = кода, но и собственно порождает этого дополнительного участника коммуникационного процесса как посредника. Троичность зеркала обусловила и его роль в традиционной картине мира, народную магию и «неявно намекает на старинную репутацию зеркала как дьявольского стекла» [Исупов интернет-ресурс].
Косвенное повествование и коммуникативная, а стало быть, речевая природа зеркального отображения в повествовании отражены в литературе: достаточно вспомнить пушкинские строки «Свет мой зеркальце, скажи…». Золян в одноименной статье рассматривает волшебное зеркало как модальный оператор, преобразующий одну функцию в другую и как овеществленное описание семантики высказывания [Золян 1988]. В контексте культурных механизмов в целом Т. В. Цивьян закрепляет за зеркалом значение «чужой речи» как посредника, устанавливая соответствие между феноменом отражения в культуре и механизмом самоидентификации национальной культуры, в связи с которой возникает введение пересказа от лица анонимного третьего: «правильно про нас говорят…» [Цивьян 2001][6]. Мотив третьего в связи с зеркальным отражением в литературе отмечается и Й. Ужаревичем. По поводу стихотворения Ахматовой «Проводила друга до передней» (1913) и строк «А глаза глядят уже сурово / в потемневшее трюмо» он пишет: «opozicija… pretpostavlja postojanje nekih “trećih očuju”, koji istodobno vide i ogledalo… i oči koje gledaju u ogledalo, i oči odzrcaljene u ogledalu. …Te treče, istinske videce oči nije moguće otkriti na strukturno-pojavnom planu… te treće oči krajnja su instancija cijeloga vizualnog komleksa, i kao takve one su načelno nevidljive… riječ je o onoj transf zioloskoj, a možda i transf zičkoj sferi koja se obično naziva sviješću, duhom»[7] [Užarević 1995: 82, 84].
В живописи зеркальное отображение (sub specie – отражение в зеркале как мотив) также наделено характеристиками агента речевой коммуникации. Вовлекая третьего как анонимного (= коллективного) адресанта, зеркальное отражение в живописи, вследствие своей неопределенности в отношении к истинное/ложное, порождает саморасширение информации за счет мифологического приращения смыслов в процессе ее передачи и приема со стороны адресатов. Анализируя кубистическую живопись, Р. Якобсон писал: «…есть попытки усугубления точек зрения на предмет и в старой живописи, оправданные искажением пейзажа или тела в воде либо в зеркале» [Якобсон 1987: 414]. Усугубление точек зрения – это проблематизация позиции рассказчика, применительно к живописи выступающая в форме визуализации точек зрения, их взаимодействия в пространстве полотна.
Именно в аспекте точек зрения, т. е. в плане пространственности понимается нарратив в живописи. Как уже говорилось, в зеркале как посреднике обнаруживается соответствие категории несобственно-прямого, т. е. косвенного повествования в составе авторской речи. Позиция рассказчика проявляет себя в зоне противопоставления оплотненного плана содержания (объектное высказывание) столь же оплотненному плану выражения (субъектное высказывание). Однако характер этой экспликации рассказчика в мотиве зеркала и роль зеркала как самостоятельного посредника-рассказчика, незримого свидетеля, на протяжении истории искусства менялись в соответствии с типом культуры.
Если в миметическом искусстве зеркало собирало изображение, раздвигая границы видимого, в барокко оно ставит под вопрос идентичность «Я», в символизме удваивает миры, открывая бездну демонического инобытия, т. е. реализуя миф о Нарциссе. О демоничности зеркала у первого поколения символистов и противопоставившего им значение зеркала как прозрачности у второго поколения, вместе с закрытием им дурной бесконечности отражений посредством концепта двойной бездны, подробно пишется в исследовании о символизме А. Ханзена-Лёве [Ханзен-Лёве 1999б]. В авангарде эстетика зеркала является знаком распыления реальности. Кубистическое дробление предмета, видимого с нескольких сторон одновременно, есть в известной мере результат расширения пространства за счет зеркального отражения. В поставангарде – советской живописи переломной эпохи конца 1920-х и начала 1930-х годов – вновь возникает мотив зеркала: он появляется в составе натюрмортов, использующих набор традиционного (особенно характерного для барокко) сюжета vanitas. Однако какова бы ни была роль мотива в любом из указанных значений, в контексте той или иной модели культуры проявляется третий как речь скрытого персонажа, имплицитно вводимого в рассказе автора.
Неявный рассказчик (значимый третий) в живописи мог приобретать формы обозначения, не связанные с мотивом зеркала. Так, оптический способ обозначения неясного видения дают разнообразные обманки барокко: например, анаморфизм в уже упоминавшейся в предыдущей главе картине Гольбейна Младшего «Послы» (1636), где непонятный предмет на первом плане, будучи мысленно спроецирован под другим углом, дает изображение черепа. Другой пример скрытого персонажа посредством оптического трюка – сюрреализм С. Дали: на его полотне «Невольничий рынок с явлением исчезающего бюста Вольтера» (1940) группа персонажей на заднем плане может одновременно зрительно выстраиваться в изображение бюста великого философа [илл. 11]. Помимо оптических приемов обозначения стороннего наблюдателя/повествователя в истории живописи был распространен способ игры в истинную/ложную идентификацию автора полотна. Так, облик автора в виде одного из фоновых персонажей предстает на картинах В. Пукирева («Неравный брак», 1862), А. Иванова («Явление Мессии», 1837–1957), В. Сурикова («Утро стрелецкой казни», 1881)[8].

11. С. Дали. Невольничий рынок с явлением исчезающего бюста Вольтера. 1940
Между тем, именно когда в игру вступает мотив зеркала, вводя третьих лиц, возникает решительное раздвижение семантических рамок и смысл рассказа трансформируется. В истории живописи о мотиве зеркала в этой функции особенно много писалось в связи с картинами Я. Ван Эйка «Чета Арнольфини» и Д. Веласкеса «Менины» (Фуко). Как известно, в обоих картинах отраженное в зеркале расширяет пространство картины, вводя новые точки зрения и дополнительные персонажи, а во второй – вводится и автопортрет. В связи с картиной Веласкеса Ю. М. Лотман отмечал, что «точка зрения выделяется как самостоятельный структурный элемент» [Лотман 2000б: 196].
Однако в истории живописи мотив зеркала не только расширяет пространство картины или обыгрывает автопортрет. И у Тициана, и у Веласкеса, и у Строцци, а также у многих других мастеров великой европейской традиции можно заметить третьего, кто дополняет бинарность персонажа и его отражения в зеркале: в некоторых случаях этим третьим становится мифологический или бытовой персонаж (херувим, Эрот, служанка и т. п.), держащий зеркало перед обнаженной красавицей, в других случаях наблюдатель стоит за спиной отражаемого или рядом с ним. Тем самым для визуального повествования присутствие третьего в связи с мотивом зеркала становится почти необходимостью.
В аспекте зеркала как визуализации посредника слухов, между тем, особенно интересна композиция, на которую историки искусства мало обращали внимание – это полотно русско-украинского мастера круга Венецианова Г. Сороки «Отражение в зеркале» (1840-е годы) [илл. 12]. Изображенное целиком соответствует названию и лежит в зоне отражения в зеркале, чья рама ясно обозначена, и благодаря раме выявлен метауровень повествования. Шитье на переднем плане можно воспринять как метафору сплетен-пересудов (ср. мифологическое значение шитья как плетения словес/интриги), сцена двух беседующих женщин в глубине пространства поддерживает эту риторику. Здесь зеркало функционирует в роли неявного рассказчика, скрытого наблюдателя. Последний реализует затрудненное зрение, и оно соответствует типу литературного повествования в режиме «мерцающей» мифологии, где возникает не отсылка к тому или иному целостному сюжету, а лишь заметны его улики. Уместно вспомнить в этой связи наблюдение Апостола Павла о том, что мы видим идеальное и совершенное «гадательно», будто во тьме тусклого стекла («Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» [I Кор. 13: 12]). Не случайно Г. Сороку называют одним из чистейших лириков русского искусства [Сорока]. В анекдотическом сюжете этого произведения в силу его метафорической емкости в свернутом виде выявились те потенции семантики зеркала в аспекте переносных значений и косвенной наррации, которые в полной мере получат выражение уже только в ХХ веке.

12. Г. Сорока. Отражение в зеркале. 1840-е гг.
Приведем ряд примеров функционирования зеркала как косвенного рассказчика в искусстве ХХ века:
1. Пример зеркала как трансфера-границы между мирами представлен в символизме. Мифологема водоема выступает как обозначение зеркальной границы, разъединяющей и соединяющей верхний и нижний миры, в частности, в живописи Борисова-Мусатова. Зеркало маркирует также совмещение идеального и реального в автокоммуникации – примером служит картина Серебряковой «За утренним туалетом. Автопортрет» (1909) [илл. 13].

13. З. Серебрякова. За утренним туалетом. Автопортрет. 1909
2. В авангарде зеркало как трансфер вещного соприсутствия возникает в форме раздробленного зеркала (раздробленность как знак его вещной природы). Примером может служить весь кубизм, а особенно картина И. Клюна «Автопортрет с пилой» (1914), где аналитически разложенные плоскости выступают как иконическая репрезентация авторефлексии создающего свое изображение мастера (как правило, автопортрет пишется посредством зеркала). Само же представление зеркала появилось еще в преддверии авангарда в 1910-е годы – например, в натюрморте И. Машкова «Зеркало и череп» (1919), где оно маркирует иконографический тип vanitas и тем самым реализует интертекст традиции [илл. 14].

14. И. Машков. Зеркало и череп. 1919
3. В позднем авангарде, в частности, в ряде направлений конца 1920-х годов, осуществивших своеобразный возврат к символизму, встречаем отражение-фикцию объекта рассказа наподобие обманок барокко. Зеркало как некий медиатор реализует одновременно и семантику традиционного натюрморта vanitas, и семантику возможных миров в составе коммунистической утопии. Особенно показательна в этом отношении картина К. Петрова-Водкина «Новоселье» [илл. 9].
Композиция, как уже указывалось в предыдущей главе, представляет собой бытовую сцену, повествующую о празднике семьи петроградских пролетариев, поселившихся в квартире «бывших». Однако формально-семантический анализ полотна приоткрывает другие, не лежащие на поверхности бытописательского сюжета значения. Композиция построена на принципе бинарности – персонажи и детали интерьера образуют четко фиксированные пары-оппозиции: юноша/ старик, жених/невеста, мать/ребенок, венский стул / табуретка и т. п., отсылающие к главному противопоставлению: старый («ветхий») vs новый мир. В левой части композиции представлено застолье пирующих, опрокинутым бокалом и развернутым спиной к зрителю персонажем, воспроизводящим иконографическую схему евангельского сюжета – Последней Вечери. Вместе с названием (новоселье как эвфемизм переселения на тот свет в традиционных народных верованиях) эта сцена вводит мотив трагического преддверия катастрофы и/ или вступления в пространство демонического иномирья. Подобное символическое раздвоение пространства особенно акцентировано изображением зеркала, которое расположено по центральной оси и тем самым составляет ведущий визуальный мотив. То, что отражено в зеркале, образует самостоятельную картину, никак не связанную с интерьером. Репрезентирован некий повседневный, однако при этом параллельный мир: ведущую роль в нем играет будильник и ряд других сопутствующих предметов, отсылающих к теме бренности существования. Этот имагинарный натюрморт не только расширяет границы полотна, но и выступает как свидетельство виртуального третьего глаза, наблюдающего за происходящим, но не принадлежащего ему. Таким образом, полотно Петрова-Водкина, созданное в то время, когда ожившая память о символизме неизбежно накладывалась на еще недавно актуальный опыт авангарда, совместило рациональность аналитической композиции и метафизическую программу. Оно дало пример зеркала как трансфера в виде косвенного повествования о бытовом событии, возведя его в метафору эпохи и задав общей семантике глубинное измерение.
4. Наконец, в постмодернизме возникает проблематизация отношения природа/культура в рамках несобственно-прямой речи визуального нарратива. Приведем два полярных примера, выходя за пределы собственно живописи.
Первый пример репрезентирует присвоение природного: зеркало как трансфер естественной среды обитания выступает ведущим мотивом в романтическом концептуализме советского художника Франциско Инфантэ-Арана, который в 1980-е годы создает серию огромных зеркал, располагая их прямо на лоне природы – в лесу, на берегу водоемов и т. п. [илл. 15]. Отражения природного окружения зеркал ломают границу между природой и культурой, создают вторую натуру, которую нельзя присвоить, и потому она двойственна. По справедливому замечанию Джона Болта, Инфантэ решает эту проблему парадоксом, определяя художнику роль посредника между «естественным» и «не-естественным» [Болт 1989]. С семиотической точки зрения изображение в зеркале здесь выступает в индексальном значении. С точки зрения нарратива, зеркало – персонаж повествовательной структуры. Есть и третий, но он в этом нарративе как агент культуры подвержен маркированной редукции. Природа поглощает культуру посредством уничтожения подразумеваемого третьего, но это его рассказ о собственной гибели.
Второй пример показывает присвоение культурного. Речь идет о знаменитом советском фотохудожнике Борисе Михайлове (ныне проживающем в Германии)[9]. Правда, мастер обошелся без зеркала, зеркало подразумевается камерой его фотоаппарата. В серии «Case history», созданной Б. Михайловы в 1980-е годы, представлены маргиналы: обезображенные бродяжничеством и пороками бомжи, обнажающие перед зрителем свои ужасающе уродливые телеса [илл. 16]. Они обозначают границу, предел культуры как сообщества, культурой и социумом отринутые и ей противостоящие. Фотографирующиеся бомжи эпатируют зрителя, находящегося по ту сторону этой границы, посредством намеренного позирования, в котором иронически пародируется «высокое». Адресат этого позирования – камера фотоаппарата и/или зеркало, в котором в искаженном виде отражается стереотип культурной нормы. Зеркало здесь – иконический знак и метафора (камера как протез глаза/тела), является рамочным нарратором. Культура выступает как посредник самого зеркала (= природного отражения): третий в повествовании гипертрофирован до масштаба культуры в целом. В фотографиях Б. Михайлова культура поглощает природу посредством гипертрофии третьего. Получается, что третий – это имплицированное, подразумеваемое зеркало как косвенный рассказчик, который является анонимным адресантом, генерирующим и искажающим информацию. Или точнее – информация искажается глазом зрителя как носителя подвергшейся деструкции нормы.

15. Ф. Инфантэ-Арана. Серия «Зеркала». 1980-е гг.

16. Б. Михайлов. Из серии «Case history». 1980-е гг.
Два из последних приведенных нами примеров парадоксальны: осуществление перенесения смыслов происходит в ситуации, когда в первом случае (с Ф. Инфантэ-Арана) отсутствует значимый третий (косвенный нарратор), а во втором (с Б. Михайловым) – само зеркало (хотя его отчасти и заменяет зеркальная аналоговая фотокамера). Тем не менее, оба они показательны, потому что даже в ситуации редукции одного из «участников» коммуникации благодаря наличию зеркальности на семиотическом уровне сохраняется принцип трехчленности косвенной повествовательной структуры – визуального аналога людских пересудов.
Глава 3. «Письмо» и «речь» в живописном цикле Михаила Ларионова
Широко известный и часто цитируемый призыв Велимира Хлебникова «Хочу, чтобы слово смело пошло за живописью», применительно к раннему авангарду следовало бы дополнить – если исходить из реальных условий, которые в 1910-е годы сложились в художественной жизни – и встречным призывом: «Хочу, чтобы и живопись смело пошла за словом». Хотя пространственные формы искусства тогда лидировали, приходя в резонанс с синтагматической поэтикой исторического авангарда в литературе, вербальный компонент, в свою очередь, определил многое в живописи, что не раз отмечалось исследователями [Бобринская 2003; Бобринская 2006; Григорьева 2005; Злыднева 2008а; Флакер 2008 и другие]. Став частью изобразительной композиции, знаки письменности (алфавитного письма – слова и буквы) пришли в резонанс с тенденцией к созданию дискретности формы, общей и для неопримитивистов, и для кубофутуристов, и для беспредметности. Между тем, поэтика раннего авангарда в изобразительном искусстве тяготела не только к письменному слову (слову-вещи), но и к вербальной речи. Это характерно для неопримитивизма, особенно Михаила Ларионова, творчество которого в 1910-е годы было во многом ориентировано на устную народную традицию. Кроме того, речь может идти о внедрении не просто слова, а поэтического слова в структуру живописного текста. С известным допущением к закономерностям построения формы в изображении можно применить понятие тесноты стихового ряда, выдвинутое Ю. Н. Тыняновым еще в 1924 году [Тынянов 1924]: аналогично словам в поэтическом тексте фрагменты изображения под воздействием соседних «рядов» меняют свою семантику. В изобразительной композиции формы складываются в своего рода «рифмы», и образуются сдвиги значений, расширение семантического поля под воздействием соседних полей и общего контекста (включая и контекст внешний, а именно – собственно литературной/художественной традиции).
Проблема специфики вербального компонента в изображении должна быть рассмотрена и в свете соображений Ю. М. Лотмана о лубке [Лотман 1976]: двойное означивание лубка в западнославянской и литовской традиции можно отнести и к неопримитивизму раннего авангарда. Изображение как поведение, жест, активная роль зрителя, заложенные в поэтике лубка (в трактовке Ю. М. Лотмана), становятся инструментом превращения текста в метаописание, а затем и метаповествование. В настоящей главе мы на примере живописи Ларионова проследим, как дискурсивный тип текста переводится в нарративный, а нарратив – в манифест как действие. Эти трансформации совершаются под воздействием глубинного мифологического пласта смыслов, «фермента», запускающего механизм порождения архаической образности. Объектом анализа избран наиболее репрезентативный с точки зрения затрагиваемых проблем живописный цикл раннего М. Ларионова «Времена года» (1912).

17. М. Ларионов. Зима. Из цикла «Времена года». 1912

18. М. Ларионов. Весна. Из цикла «Времена года». 1912

19. М. Ларионов. Лето. Из цикла «Времена года». 1912

20. М. Ларионов. Осень. Из цикла «Времена года». 1912
Этот цикл состоит из четырех полотен: «Зима», «Весна», «Лето» и «Осень», в настоящее время хранящихся в разных собраниях – в ГТГ («Зима» и «Весна»), в Центре Жоржа Помпиду в Париже («Осень») и в частной коллекции («Лето») [илл. 17–20]. Произведение традиционно относят к примитивистской стадии творчества художника, справедливо указывая на стилистическую связь этой живописи с лубком, вывеской, с искусством Гогена, восточным примитивом и детским рисунком [Поспелов, Илюхина 2005]. Отмечается и эпатирующий характер изображений, соответствующий типу поведения ранних авангардистов и особенно Малевича, для которых шокировать буржуазную публику в эти годы составляло часть художественной программы. Так, в рамках эпатирующей стратегии вводилась стилистика «заборных» рисунков и надписей. Дурашливо-смешная, раёшная живопись выполняла роль художественного жеста. Между тем, от внимания исследователей практически ушел вопрос о том, почему Ларионов, этот живописец от Бога, прекрасный колорист, обратился к жесткой структурной схеме, которой проникнуты композиция и семантика этих произведений. Ведь это единственное произведение со столь определенно выраженной дискретностью у мастера, и потому может быть расценено как своего рода изобразительный манифест. Конечно, Ларионов создавал и письменные тексты. В 1913 году он публикует брошюру «Лучизм», а также манифест «Лучисты и будущники». Однако в целом к словесным автокомментариям этот художник, в отличие от Кандинского, Филонова или Малевича был не склонен. Следует напомнить, что во время, когда создавался рассматриваемый цикл, происходил отход Ларионова от объединения «Бубновый валет», нацеленного на разрушение основы миметической традиции, но не порывающей с нею полностью, и создание им другого объединения – «Ослиный хвост», постулирующего существенно более радикальные художественные принципы.

21. Календарь сапотеков времени доколумбовой Мексики.
Объединенный общей тематикой отдельных картин, построенных к тому же по единой композиционной модели, тетраптих складывается в нечто вроде пиктограммы и может быть рассмотрен как единый текст, требующий дешифровки. Каждая картина цикла расчленена на геометрические части наподобие старинного народного календаря (см., например, календарь Брюса), на четыре неравные части (смещающиеся от полотна к полотну), и каждая из этих частей представляет отдельный тип изобразительной записи наподобие древних календарей латиноамериканцев [илл. 21].
Изображения времен года, описывающие природно-сельскохозяйственные и жизненные циклы, записаны четырьмя разными кодами, повторяющимися на каждом из полотен с небольшими вариациями. Так, наиболее крупное изображение – примитивистски огрубленная обнаженная женская фигура в рост, вместе с комментирующими деталями аллегорически представляющая соответствующие времена года: Зима с синим велумом, Весна с летающими вокруг нее амурами, Лето с серпом и Осень с птицами, несущими в клювах виноградные ветви и атрибутами виноделия (ковш, чаша, лоза). Остальные три четверти представляют: 1) картинки-рассказы, 2) мотивы дерева – вариации мирового дерева в соответствующем времени года вегетативном состоянии (голое зимой, расцветающее весной, снопообразное летом, плодоносящее осенью), а также 3) рукописные вербальные тексты. Художник отходит от миметической референции: раннему периоду его творчества было свойственно обращение к пейзажам, описывающим разные времена года в соответствии с традицией «природной» референции, однако данное произведение оспаривает не только пейзажи самого Ларионова, но и картины на темы времен года его ближайшей коллеги и спутницы жизни, художницы Н. Гончаровой, равно как и предшествующую традицию символизма/импрессионизма в целом. Отход от натурно-описательной модели проявляется, в частности, в нетрадиционной цветовой символике: так, весна показана желтой, т. е. ведущим признаком выбран цветовой эквивалент света (византийский принцип, концептуальный – в этом есть совпадение с символизмом, в частности, с «Временами года» в живописи Чюрлиониса), в то время, как желтый в «реалистической» живописи стереотипически характеризует осень. Аналогичное «нарушение» свойственно и другим цветовым атрибутам: зима – красно-коричневая (словно обыгрывается народная рифмовка мороз = красный нос), а осень – синяя.
Автор использует ограниченный набор традиционных изобразительных символов: дерево, дева, птица, собака, лоза и др. Наряду с характером четырехчастного деления полотен комбинаторика элементов следует принципу дополнительного распределения, на основе которого выстраиваются пары аналогий зима = лето и весна = осень. Это опять же напоминает древний календарь с его ориентацией на предсказания и знаками зодиака. Такого рода аналогии можно обнаружить в каждом из изобразительных комплексов отдельно.
Обнаженные женские фигуры в каждой из композиций – аллегории времен года – представляют собирательный тип Великой Богини. В этом художник следует традиционным моделям: аллегории времен года обычно имеют вид женских персонажей, нагота соответствует принципу телесных проекций мифологического календаря [Брагинская 1980]. Типы изображений и их атрибутика в других женских персонажах недвусмысленно отсылают к более широкому набору архаической иконографии: так, профильное изображение женщины на картине «Весна» напоминает так называемую Парижанку из росписей Кносского дворца на Крите [илл. 22], а серп в руке Венеры на картине «Лето» ассоциируется с символическим рогом изобилия в первобытной скульптуре. Символика плодородия, мотивы дионисийства отождествляют Венеру-Весну и Венеру-Осень посредством соответствующих классификаторов: весна охарактеризована амурами (символизирующими эротическую любовь), осень – виноградом. По типу позы – телесному статусу – образуются иные пары: танцующие аллегории весны и лета (вакхический, дионисийский мотив) противопоставлены статичным, подчиненным застылой вертикально-осевой симметрии аллегориям зимы и осени. Стилистически Девы Ларионова восходят к разным источникам: тут и Гоген (произведения которого Ларионов видел в Париже и которым был увлечен), и скифские бабы Гончаровой, и собственные произведения – многочисленные «Венеры» этого времени, в частности, «Солдатская Венера» (1912), написанная одновременно с рассматриваемым циклом [илл. 23]. Близок к Венерам цикла «Времена года» и заборный рисунок на картине «Отдыхающий солдат» (1911) [илл. 24]. Автоцитаты в живописи Ларионова возникают и позже, в 1920-е годы: обнаженная женщина – персонаж его наброска «Маня-курва» (1928) [илл. 25] – идентична предыдущему примеру, а птица с веткой в клюве повторяется в иллюстрациях к поэме А. Блока «Двенадцать» [илл. 26]. Эта миграция отдельных изобразительных мотивов заставляет каждый из них трактовать как своего рода знак-лексему, что еще раз указывает на лежащий в основе композиций пиктографический принцип.


22. а) «Парижанка». Фрагмент росписи Кноссного дворца, Крит, 15 в. до н. э.;
б) М. Ларионов. Весна. Из цикла «Времена года». Фрагмент
Автоцитирование показывает, что примитив Ларионовым стилизуется и показан двойственно: сам по себе и в игровом, раёшном ключе – как взгляд со стороны; на это обращали внимание искусствоведы [Поспелов, Илюхина 2005]. Хотелось бы добавить, что двойственность модуса изображения в данном случае передается в нарративной структуре: остранение стиля можно трактовать как «речь» персонажа, выраженную – если сравнить с литературным приемом – в форме несобственно-прямого повествования. Рассказ ведется как бы от лица субъекта, а «речь», акцентирующая протяженность во времени, вводит линейное время. Таким образом, циклическое время мифологической картины мира, заданное традиционными для календаря символами, нарушается.

23. М. Ларионов. Солдатская Венера. 1912

24. М. Ларионов. Отдыхающий солдат. 1911
Однако нарушенное равновесие тут же восстанавливается в мотиве дерева, которое присутствует во всех четырех картинах. Своим вегетативным статусом дерево каждый раз маркирует тот или иной сезон (голое дерево – зимой, зеленеющее – летом, усыпанное плодами – осенью, расцветающее – весной). На двух композициях, между тем, есть и добавочные мотивы – древо искушения весной и свадебное деревце, по сторонам от которого друг напротив друга расположены жених и невеста, – осенью. Мотив отсылает к Мировому дереву – центральному символу архаической картины мира. Вокруг деревьев кружатся птички, по форме напоминающие рождественские пряники: пернатые выступают мифологическим классификатором, отмечающим верх. Посредством эквивалентных связей птицы = дерево (мировое дерево), птицы = дева, мотивы дерева/ птиц и Девы связываются между собой. Все это усиливает мифологическое звучание ларионовской Венеры, ее архаическую символику, в которой демоническое, идущее из низовых глубин женское начало сплетается воедино с сакральным верхом, отсылая к мотиву брака неба и земли. Возникает ассоциация с демонической Лилит из стихотворения Н. Гумилева «Ева или Лилит» 1911 года: У Лилит – недоступных созвездий венец, / В ее странах алмазные солнца цветут[10]. Создавая лубочно-игровой парафраз архаических символов, художник посмеивается и над символистскими клише, стремясь, одновременно «называя» и осмеивая их, опрокинуть недавнее прошлое культуры Серебряного века.

25. М. Ларионов. Маня-курва. 1920-е

26. М. Ларионов. Череп и птица. Иллюстрация к поэме А. Блока «Двенадцать». 1920
Принцип нарушения равновесия и его восстановления последовательно проведен и в композиции полотен: так, регулярно повторяющаяся центрально-осевая симметрия (геральдических предстояний) уравновешивается асимметричными сдвигами членений полотен, произвольностью поз Девы, нерегулярностью изобразительных «рифм». Последнее особенно интересно: свойственное любому примитиву ковровое заполнение плоскости изображения Ларионов структурирует, вводя пары соответствий на уровне формы. Так решены картинки-рассказы цикла: зимняя деревня, где вдоль домов бегут голодные собаки своим мерным ленточным ритмом, «рифмуется» с летним сбором урожая (процессия мужчина/женщина с корзинами, 4 ноги). На картине «Весна» Адам и Ева, по сторонам от уже упоминавшегося Древа познания в сочетании со сценой изгнания из рая, соответствуют брачной паре по сторонам от свадебного деревца на картине «Осень». Тем самым Весна и Осень объединяются по признаку центрально-осевой симметрии геральдических пар, а Зима и Лето – по признаку симметрии сдвига. Однако возникают и перекрестные соответствия: так, дерево на картине Лето, геральдически окруженное птицами, отмечено центрально-осевой симметрией, а Весна – симметрией сдвига в изображении сцены изгнания из рая. В чередовании парности и непарности реализован числовой код 3 + 4, согласно архаическим представлениям, описывающий полноту мира [Топоров 1982д]. Интересно, что это же числовое сочетание, в раннем авангарде обозначенное Ларионовым, подобно рамочной конструкции встретится и в «авангарде на излете», а именно на картинах К. Малевича «Красная конница» [илл. 132], а также «Бегущий человек» (см. об этом в следующем разделе книги). Можно обнаружить это символическое сочетание и на уровне семантики: постоянно присутствующий в полотнах цикла «Времена года» мотив дерева, имплицирующий троичность (деление символического пространства по вертикали на три зоны), противопоставлен мотиву четверичности времен года, которой соответствует четверичность живописного цикла: членение четырех полотен на четыре части.
Четвертый тип изображений в каждом полотне представлен рукописными текстами [илл. 27]. Это «народно-поэтические» описания смены времен года. Балаганно-ярмарочные полустихи, полуречевки – тексты основаны на принципе произвольного членения слов при переносе в новую строку и декоративного (относительно равномерного – принцип народного орнамента) чередования цвета букв. Частичные внутренние рифмы соответствуют и частичности изобразительных «рифм». Лубку художник следует и в параллелизме изображения/слова, хотя этот параллелизм и неполный: так, словесная осень – «блестящая как золото» – не соответствует изображению, в котором доминируют синие тона. В весело приплясывающих буквах, орфографических ошибках очевидно влияние футуристических книг, которыми Ларионов и Гончарова в эти годы занимались. Принцип произвольного членения слов при переносе на новую строку предвосхищает идею А. Крученых о расчленении слова с целью расподобления смысла, которую он сформулировал в статье «Слово как таковое» годом позже (1913). В этом манифесте Ларионов в числе художников не упоминался, но выдвинутые принципы схожи: «1. Чтоб писалось и смотрелось во мгновение ока! (пение, плеск, пляска, разметывание неуклюжих построек, забвение, разучивание <…> 2. Чтоб писалось туго и читалось туго неудобнее смазных сапог или грузовика в гостиной (множество узлов, связок и петель и заплат, занозистая поверхность, сильно шероховатая)» [Крученых, Хлебников 2008].

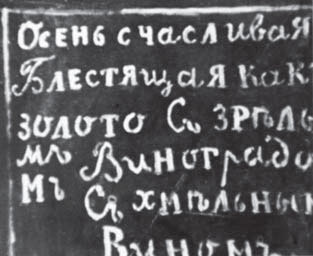
27. М. Ларионов. Фрагмент надписей на полотнах из цикла «Времена года»
«Смотрелось во мгновение ока» – это по сути изображение письменного текста, письменности как таковой, ее остранение наподобие иронической двойственности лубка в цикле. Выписанные от руки и раскрашенные буквы равнозначны мазку, процессу его нанесения на полотно, наконец, самой живописи как таковой. Рукописность текстов словно описывает медлительный ход возникновения картины, линейное время как таковое. Благодаря руко-письму возникает и другой эффект: уподобление фрагментов, а с ними и всего живописного полотна/цикла живой речи. Возникает сплошной изоморфизм изображения и слова: уподобленные танцующим Девам, буквы перекликаются и с дионисийским буйством природы, изображаемым на полотнах, мотивами виночерпия, эротики. Описательно-назывные предложения, в которых главное слово – первое. Это своего рода живописные именования – как бы вербальные портреты. Перенесение изобразительных законов на сферу вербального (поменялись ролями) – это доминанта пространственного искусства (изобразительного) над временным словесным. Получилась инверсия: дискретность изображения здесь противопоставлена «изобразительности» слова, своего рода экфрасис наоборот.
Дискретность полотен «Времена года» Ларионова символически противостоит времени, исторической традиции. На первый план выдвигается динамический принцип: смена времен года как членение изображения-текста par excellence, в котором главная роль принадлежит пространству. Круговорот сезонов оказывается «пришпиленным» к плоскости наподобие гербария. Отмечая сходство современной живописи и лубка в предисловии к своей выставке 1913 года, Ларионов сам пишет о том, что «выдвигаемое лубками и нашими теперешними художниками, является наилучшим доказательством уничтожения времени» [Поспелов, Илюхина 2005]. Провозглашенное уничтожение времени – это утверждение времени циклического, однако в соответствии с авангардной мифологемой начала Ларионов вводит и линейный вектор, прогностический. Последний обусловлен сходством изображений с картами.
Действительно, проецирование времени (времен года) на пространство, плоскостные изображения, многообразные симметрические композиции и ряд других особенностей поэтического устройства этой серии заставляют провести аналогию этих картин с игральными картами. Известно, что Ларионов коллекционировал карты, которые очевидно, явились еще одним источником его неопримитивизма. Карточной темы вообще много в живописи раннего авангарда. Теме карт и карточной игры отдали дань и О. Розанова, и К. Малевич, и А. Крученых [илл. 28]. Не стоит забывать, что название выставки/объединения «Бубновый валет» придумано самим М. Ларионовым за два года до создания этого цикла. Карты и карточная игра реализуют мотивы случайности, рока, т. е. неуправляемого линейного вектора – с одной стороны, и закономерность фиксированных значений, сетки координат – с другой. Эта дихотомия правил и их реализации, подобная дихотомии языка и речи, последовательно реализована и в множественности кодов изображений рассматриваемых картин: в обращенности вербальных фрагментов к просторечию, в смеси архаической символики и ярмарочной игры в нарративных фрагментах, в вариативности мотивов, словно карточных партий, разыгранных по сезонам. С игральными картами сближает и членение изобразительного поля на четыре части, а также зеркально-поворотная симметрия композиций. Тема карточной игры соответствует и дионисийской семантике полотен, духу витализма: экстатические позы танцующей/страдающей Девы, эротические символы, атрибуты виноградарства и т. п. Все это и парафразы символистских клише, их оспаривание и утверждение новой поэтики. Это утверждение циклического времени (и его пространственных проекций) как преемственности культуры, переданной в коде времен года, и вместе с тем – линейного выхода за пределы этой преемственности.
Между тем, некоторые мотивы являются в цикле «Времена года» для художника более важными, чем другие: доминируют весна и осень. Так, весна и осень акцентированы повторением в разных частях композиций мотива дерева – наиболее «сильного» универсального архаического символа в ряду прочих, а также влюбленной/брачующейся пары по его сторонам. Для объяснения приходит на помощь опять же аналогия с игральными картами. Масти карт в народной картине мира соответствовали временам года, что не могло не учитываться Ларионовым и его кругом. Так, происхождение названия объединения «Бубновый валет» связывают с традиционно закрепленной за этой мастью символикой весны, ее свойственен желтый цвет. Картина «Весна» также решена в желтой гамме. «Осень» – заключительное звено годового цикла природы, проекция будущего, а в рамках циклического мышления – и прогностического видения (семантика, которую несут в себе карты в функции гадания). Неслучайно именно весна и осень явились темами двух других полотен Ларионова этого времени и позднее [илл. 29, 30]. Если принять тезис, что художник намеренно выделяет переходные, пограничные состояния природы, весь цикл выстраивается как автометаописание раннего авангарда как сдвига историко-художественной парадигмы и новой стадии в развитии искусства. Здесь речь доминирует над языком, и отсюда – акцент на весне как метафоре новой художественной парадигмы, а также осени как времени «сбора плодов» нового направления.

28. О. Розанова. Дама пик. Из цикла «Игральные карты». Б.д.
Весна и осень, как время переходности, полутонов, недосказанности, превалирования неясности над ясностью, вчувствования над рациональностью, а тем самым, усиленной семиотичности, освоены символизмом (в противоположность реализму натуральной школы, делающей акцент на зиме и лете). И то, и другое – агенты пограничных состояний в коде времен года, соответствующих брачной символике. Брачная семантика, реализованная в цикле, высвечивает символику перехода. У М. Ларионова весна как настоящее и осень как плодоносное будущее переосмысляются в кодах изобразительности в качестве агентов перемен, совмещающих циклическое и линейное время, что соответствует катахрестической авангардной поэтике. Время осмысляется в пространственных категориях, акцентируя принцип дискретности как таковой. Вряд ли будет большим преувеличением сказать, что своим акцентированием дискретности эта серия предвосхищает «Черный квадрат» Малевича, который появится на три года позже. Дискретность проявляется и в выборе в пользу граничных состояний и маргинальных тем-мотивов, совпадая с символизмом (и многое наследуя от него), смещая акценты. Цикл «Времена года» М. Ларионова фиксирует и описывает все эти приметы становления новой поэтики в категориях народно-мифологического сознания, реализуя их на всех уровнях организации художественного текста.
В истории европейской живописи тема времен года решается в широком диапазоне символического осмысления – от высокого космологического обобщения (от Брейгеля до Чюрлиониса) до низового тривиального. На пересечении этих уровней – используя наследие мифопоэтики символизма и при этом оспаривая символизм в рамках освоения низового поля культуры – реализовывал свою поэтику авангард, в частности, русский авангард.

29. М. Ларионов. Весна. 1912

30. М. Ларионов. Осень счастливая. 1912
В мифологической модели мира времена года выступают как универсальная метафора, расширяющая базовые бинарные отношения по аналогии с развернутыми суточными делениями (ночь/день, а также ночь/утро/день/вечер) на жизненные циклы человека (жизнь-смерть как детство-молодость-зрелость-старость). Аналогичные проекции можно сделать и в отношении циклических смен художественных формаций (и крупных идеологем), каждая из которых претерпевает период зарождения в недрах другой формации (который можно сравнить с весной), процесс созревания поэтики (лето), кульминацию своего развития (осень) и стагнацию (зиму). В литературе Серебряного века и в последующую эпоху такие метафорические переносы времени года на состояние художественного или более широкого духовного процесса встречаются особенно часто. В книге воспоминаний С. Н. Дурылина «В своем углу» находим: «Не только снег тает. Все тает. Так, истаяла русская поэзия. Истаяла русская культура. Истаяла Россия». И далее в «Тетради IV» («Афоризм 8», «Афоризм 9») о В. Розанове: «Христианство не догорело и чадит, – как думал Василий Васильевич. – Оно не коптит. Оно тает. От лучей какого же солнца? О, как страшно! Какого-то. Но тает, тает, – и не оттого, что “дворники делают весну” в городе… Тает и в городе, и в деревне, на холмочках, на ложбинках, даже в глубоких ложках… Всюду тает… И как задержать это таянье? Тает. Вот и все» [Дурылин 2006]. Обратим внимание, что ведущей метафорой, описывающей угасание, становится весна, функционально сближенная с осенью, и потому новое здесь отрицательно маркировано. Дурылин (1886–1954) принадлежит традиции Серебряного века, и хотя Ларионов (1881–1964) близок ему по дате рождения, он – вестник уже совсем другой эпохи. Он тоже сближает весну и осень, но совсем по другому основанию: переходное состояние природы осмысляется в его цикле как ритуал rite-de passage, проецируемый на зарождающуюся художественную формацию.
В исторические эпохи высокой рефлексии созревание новой художественной парадигмы осознается носителями новой поэтики. Очевидно, так произошло и с авангардом, примером чего может служить цикл произведений Михаила Ларионова «Времена года», созданным в переходную эпоху начальной стадии – весны – авангарда. Интересно, что при этом – в соответствии с закономерностями пограничных пространственно-временных зон – в полной мере проявляется мифологический тип мышления, который, однако, имеет свои особенности, соответствующие задачам выработки нового художественного языка.
Глава 4. Натюрморт Георгия Рублева «Письмо из Киева» как анаграмма
Поиски зашифрованного в изображении сообщения неизбежно выводят исследователя на проблему границ произведения, которые определены типом той или иной поэтики, в русле которой оно создано. Однако в качестве «текста» произведение живописи может иногда быть «прочитано» за пределами своих собственных рамок (как физической рамы-обрамления, так и рамки семантической). В настоящей главе речь пойдет об одном случае скрытых изображений в живописном нарративе, которые можно уподобить анаграмме в литературе и которые реализуют определенную коммуникативную модель, предполагающую привлечение к анализу широкого контекста – всего творчества автора. Этот контекст выстраивается как текст нового, более высокого уровня, и смыслы отдельных произведений, которые служат раскрытию тайных механизмов «дешифровки», не сводятся к простой их сумме: они требуют учета дополнительных коннотаций.
В своей статье «Вещь в антропологической перспективе: апология Плюшкину», а также в ряде других замечательных работ, Владимир Николаевич Топоров рассматривал мир вещей, создающих космос человека, в аспекте времени (Топоров 1995). Вещь – это и память, и материализованное время индивидуального существования. Опираясь на эти соображения, можно сказать, что в представлении вещей в изобразительном искусстве создается многоуровневая повествовательность: вещи рассказывают нечто, образуя сложную нарративную конструкцию, где каждая из них – и персонаж, имеющий свой «голос» в составе повествования, и скрепа в парадигматических рядах, и скрытая семантизация временного потока как такового [Николаева 2012]. Тем самым изображение, пространственное по своей природе, получает расширение, присваивая и время, т. е. приспосабливая коммуникативный механизм искусства слова как основанного преимущественно на темпоральности (см. главу 1 настоящего раздела). Такова повествовательность вещей в картине Георгия Рублева «Письмо из Киева» (1930), хранящейся в Третьяковской галерее [илл. 31]. Композицию можно уподобить тайнописи – она изобилует скрытыми смыслами.

31. Г. Рублев. Письмо из Киева. 1930
Несколько предварительных замечаний. Существует целый ряд эпох и художников, реализующие многообразные скрытые смыслы в формах разнообразных оптических обманок и визуальных тайнописей. К ним в первую очередь относятся европейский маньеризм и картины-перевертыши Д. Арчимбальдо (в одной из них, например, при переворачивании картины портрет мужчины превращается в вазу с фруктами), а также уже упоминавшееся произведение Х. Гольбейна Младшего (имеем в виду картину 1533 года «Послы», где неясный предмет на первом плане в развернутой проекции оказывается изображением черепа). К скрытым изображениям следует причислить и разнообразные зеркальные и анаморфические трансформации формы в барокко (о чем много писал Ю. Балтрушайтис [Baltrusaitis 1984], а в недавнее время – М. Ямпольский [Ямпольский 1996]. Зашифрованные картинки вошли в моду и в наполеоновской Франции, где в букетах цветов зрителю надлежало найти портрет императора [Ситникова 2008]. В ХХ веке оптические трюки со скрытыми изображениями ожили в сюрреализме – например, у С. Дали в картине «Невольничий рынок с незримым бюстом Вольтера» (1940, холст/масло, Музей Сальвадора Дали, Сент-Питерсберг), где в группе людей на дальнем плане видится портрет французского мыслителя, а затем в многочисленных играх с пространством Р. Магритта и М. Эшера. Примечательно, что такого рода мастера обычно практикуют тип поэтики, отмеченной доминантой словесного начала в искусстве, и властью слова отмечены целые эпохи, к которым они принадлежат. Изображения людей и вещей в этих зашифрованных визуальных «сообщениях» обладают повышенным коммуникативным потенциалом. Однако и в другие эпохи возникают неожиданные виды визуальных игр. К таким эпохам относится, например, конец 1920-х годов в советской России.
Живопись этого времени – в соответствии с «горячим» типом самой эпохи – отмечена резким повышением коммуникативного статуса. Художники поставангарда, учившиеся у мастеров первого и второго поколения творцов нового искусства, представили в своем творчестве своеобразную противофазу исторического авангарда, при этом оставаясь в рамках той же самой парадигмы. В отношении взаимодействия слово/вещь это выразилось в том, что на смену футуристическому принципу «слово как вещь» пришел зеркальный принцип «вещь как слово». Изображенные на картинах предметы быта буквально «заговорили», рассказывая свои истории. Если, по убеждению В. Кандинского, линия становится вещью, «обладающей таким же практически-целесообразным смыслом, как и стул, колодец, нож, книга» [Кандинский 1919: 2] (цит. по: [Ханзен-Лёве 2001: 72]), то десятилетием позже прошедшие через опыт футуристического бунта 1910-х вещи мирно сложились в натюрморты Д. Штеренберга, М. Ларионова. Они формируют вещный нарратив, своеобразно хранящий память об авангардном сокрушении всех и всяческих пределов. Прошедшая через опыт беспредметности, обнажения своего истинного, не-вещного лица, живопись представила предметы быта в поставангардном натюрморте, разрушая ожидания. Зритель настраивается на двойное сальто-мортале: за вновь обретенной натурой ему видится преображенная абстракция, не вернувшаяся к природе, а трансформированная ею и породившая квазиприродную форму, еще более удалившуюся от «реалистического» восприятия мира в XIX веке, чем беспредметность. Такого рода двойным пересечением границ, и прежде всего семиотических границ картинного пространства, отмечено творчество Георгия Рублева. Полотна этого мастера 1920–1930-х годов представляют интерес с точки зрения рассказов вещей, которые принимают форму скрытого изображения.
Как известно, натюрморт – это жанр, лежащий на пересечении различных семиотических процессов, и он активизируется в определенные эпохи [Лотман 2002а; Bobryk 2011]. Такой эпохой для данного жанра стал рубеж 1920–1930-х годов в России. Это время испытания изображения на истинное/неистинное, что соответствует тектоническим сдвигам в социально-политической сфере страны, поставившим под вопрос основы бытия, это и особый статус вещи в ситуации исторической катастрофы. Известно, что именно в грозовые годы возникает изоляция вещей из своего утилитарного окружения и о ней сигнализирует. Повышается семиотический статус как самих предметов, так и отношений между ними. Примером могут служить домашние вещи людей, отбывавших в 1930-е годы свой срок в сталинских лагерях и описанных в произведениях Варлама Шаламова [Злыднева 2011в], или бытовые предметы, например, молочные бидоны, которые десятилетием позже брали с собой в изгнание экстрадированные народы и в которых утилитарная функция полностью вытеснялась символической [Курсите 2009]. В натюрморте переломного и изобилующего потрясениями времени конца 1920-х годов семиозис вещи особенно активен, значение бытового предмета возводится в квадрат и при этом встраивается в противофазу поэтики исторического авангарда. Это означает, что повышение коммуникативного статуса изображения следует рассматривать в перспективе памяти о тех сдвигах в поэтике, которые нарушили привычные границы не только жанра, но и вида искусства, а также онтологической природы изображения, и радикально расширили рамки повествования отдельного полотна как «текста».
Драматизм вещных нарративов картин Г. Рублева под стать драматической судьбе их автора. Георгий Рублев (1902–1975) родился в Липецке, учился во ВХУТЕМАС’е, в 1920-е годы участвовал в разнообразных художественных объединениях, разрабатывающих проблемы новой фигурации, критиковался за формализм, однако в 1930-е годы резко изменил свои позиции и начал выполнять государственные заказы на оформление парадов, праздников, монументальных росписей в общественных постройках (в частности, по его проектам оформлена станция метро «Серпуховская»). Цикл работ конца 1920-х – начала 1930-х годов до поры до времени хранился у художника дома и был обнародован только с приходом новых времен, сразу став сенсацией: поразили гротескная манера мастера, двусмысленная трактовка злободневных сюжетов и загадочность общего смысла. Такого рода необычностью отмечена прежде всего картина «Письмо из Киева». В восприятии современного зрителя, улавливающего в изображении нечто зловещее, картина ассоциируется с атмосферой надвигающегося сталинского террора. Тема страшного становится в эти годы одной из доминирующих в советской живописи [Злыднева 2007]. Однако полотно, о котором идет речь, едва ли прочитывалась в этом ключе современниками, для которых трагические события, последовавшие после года ее создания, были закрыты неясными очертаниями грядущего.
Произведение не допускает однозначного толкования, и его можно причислить к жанру натюрморта лишь условно – композиция составлена из отдельных предметов различного назначения, равномерно разложенных каждый по отдельности на круглом столе подобно экспонатам в музейной витрине, напоминает скорее ребус или криптограмму, нежели картинку быта. Набор вещей невелик: ножницы, катушка красных ниток, чашка, три лимона, печатная брошюра под заголовком «Политдоклад Сталина 27 июня 1930» и письмо с адресом «Москва Егору Рублеву из Киева». Все слова изображены написанными от руки.
В композиции доминирует принцип дискретности, что соответствует примитивистской манере, в которой решено полотно: поверхность стола дана в проекции сверху, а трактовка предметов нарочито огрублена, и вещи словно подвешены на ниточках. Дискретность отсылает к алфавитному письму, так что каждый предмет выполняет функцию отдельного письменного знака (это тот самый принцип, который был описан на примере живописи раннего М. Ларионова в предыдущей главе). Однако граница округлой столешницы, объединяющая и изолирующая вещи от прямоугольной рамки полотна, служит указанием на их связанность в пределах единого целого, ведь круг – это маркированное отграничение, снимающее оппозицию правое/левое, а тем самым, ликвидирующее и координаты внешнего пространства, которое простирается за пределы полотна. Благодаря этому отграничению создается нечто вроде иероглифа. Таким образом, непрерывное (уподобленность изображения иероглифу) сочетается здесь с дискретным началом (в отделенных друг от друга вещах, знаках алфавитного письма и словах). Письменный текст (как дискретный) тем самым становится значимым звеном изображения (континуального по своей природе). Эта двойственность референции (денотатов) определяет и двойственность смыслов (коннотаций) представленного на картине.
Дискретность соответствует природе изображенных на полотне вещей, две из которых принадлежат к письменной культуре: брошюра и письмо. Они не только вводят мотив печатно-рукописной продукции, но и иконически его представляют посредством написанных от руки словосочетаний. Таким образом, синтагматика изображения находит соответствие в ее семантике, и возникает рамочно-кольцевая конструкция семиотических рядов: набор/каталог предметов уподоблен иероглифическому тексту, внутри которого находятся еще два уже в прямом смысле письменных текста, из которых один – печатный доклад, а второй принадлежит к эпистолярному (рукописному) жанру. Если первый, от лица Сталина, адресован массе однопартийцев (и всему народу) и реализует коммуникацию «Я» – «Мы», то второй основан на отношении «Я» – «Ты». Перед нами – рассказ-обращение. Ответ на вопрос, о чем именно этот рассказ, требует послойного анализа.
Набор разнородных вещей образует несколько парадигм. Общий ассоциативный ряд – антропологический: это предметное окружение человека, включенного в актуальную политическую действительность и обладающего активным кругом общения. Парадигма антропоморфизма объединяет все вещи посредством телесного кода: рука метонимически обозначена инструментами (ножницы и моток ниток), рот – посредством чашки, глаза – письмом, голос – докладом, пищеварение – фруктами на первом плане. Рукописность текстов, включенных в изображение, акцентирует руку дополнительно и служит метонимией профессии автора (художник «рукотворит»). Сочетание телесного (рука, рот/голова) и ментального (доклад как речь, письмо как коммуникация) создает энантиосемию изображения[11], в которой знаки материи одновременно отмечают и противоположный им символический план.
Наряду с общей парадигмой имеет место и ряд субпарадигм, объединяющих отдельные предметы по парам или в более длинные цепочки. Парадигматические ряды выстраиваются прежде всего на уровне визуальной формы. Колорит базируется на полноте мифологической триады – красное, черное, белое. Набор форм предметов тоже наделен полнотой: представлены основные геометрические фигуры – круг, квадрат и треугольник. Треугольник ножниц противопоставлен квадратам брошюры и письма, а также круга чашки, столешницы, фруктов. Ритм сочетания черного и красного описывается схемой АВВА и задает драматизм семантической ауры. Желтый фон столешницы нейтрализует этот накал и вносит значимое нарушение в ритмический рисунок: желтая полоска на чашке перекликается с фруктами на первом плане. Чашка и ножницы объединены черным цветом и маркированной крайней (левое и правое) позициями в композиции, они также образуют своего рода антонимы формы, являя собой в первом случае (ножницы) форму с открытым контуром, а во втором (чашка, близкая к кругу) – с закрытым. Таким образом, формальное решение композиции, обнаруживающее хорошую авангардную школу художника, подчинено ритмическому чередованию противопоставлений и уподоблений.
Таковы и субпарадигмы вещей с точки зрения их семантики. В изображениях доминирует то утилитарный уровень (обозначим его как уровень 1), то символический (уровень 2), а иногда они накладываются друг на друга. Так, ножницы + нитки образуют 1 уровень: портняжные инструменты. Впрочем, нить, как символический знак пути, может быть перерезана ножницами, так что 2 – символический – уровень тоже обозначен. На 2 уровне располагается также и парадигма красные нитки + доклад, которые можно объединить фразеологизмом «красной нитью» для характеристики развития мысли или «плетение словес». Чаша + нить можно прочесть символически: они репрезентируют путь, судьбу человека. Интересно, что те же предметы – ножницы и моток ниток – можно обнаружить и в натюрморте Г. Рублева «Шитье» (1929, ГТГ), написанном на год раньше, где эти предметы целиком мотивированы сюжетом. В картине «Письмо из Киева» эти вещи осмыслены уже на уровне не визуальной формы, а речи, т. е. выступают как визуальные идиомы.
Парадигма ножницы + письмо, казалось бы, реализует лишь утилитарное значение: письмо разрезают ножницами, чтобы осуществилась его коммуникативная функция. Между тем, ряд литературных примеров этого времени указывает на символическую семантику и данной связки. Так, у такого во всем далекого от Г. Рублева писателя, как М. Осоргин, в его написанном в эмиграции рассказе «Вещи человека», соединение ножниц и письма отсылает к мотивам ущерба, утраты, смерти: «Ножницами она перерезала тонкую бечевку, и пачка писем рассыпалась… вся пачка продолжала жить только как вещь, которую пожалели» (о вдове, разбирающей вещи покойного мужа) [Осоргин 1990: 455]. В другом его рассказе – «Пенсне» – о смерти речи нет, однако реализована та же связка в аспекте очеловеченных предикатов: «Что вещи живут своей особой жизнью – кто же сомневается? Часы шагают, хворают, кашляют, печка мыслит, запечатанное письмо подмигивает и рисуется, ножницы кричат (курсив мой. – Н. З.), кресло сидит, с точностью копируя старого толстого дядю, книги, дыша, ораторствуют, перекликаются на полках» [Осоргин 1990: 531]. Можно предположить на картине Г. Рублева связка ножницы + письмо реализует символический уровень значений этих вещей в роли самостоятельно действующих персонажей, наделенных негативной коннотацией. Однако у Осоргина утрата вещами хозяина в рассказе «Вещи человека» выстраивает рассказ в рамках минус-пространства и минус-времени. У Рублева, напротив, время предельно актуализировано: дата лежащего на столе политдоклада совпадает с реальными историческими событиями – XVI съездом ВКП(б), одновременными с созданием картины, чем все повествование помещается в режим реального времени и акцентировано как сугубо актуальное, настроенное на позитив будней.
Отдельную парадигму образуют вербальные тексты – название брошюры и надпись на конверте. Вслед за полнотой круглящейся формы, содержащиеся в них сведения описывают полноту пространственно-временных координат и именных адресов: имеет место два топонима (Киев, Москва), точечное время (27 июня 1930 года) и два имени собственных, из которых одно (Егор Рублев) – просторечный вариант имени автора (Егор вместо Георгий), а второе – наоборот, возвышенное (политический псевдоним) имя вождя, так что это уже не совсем имя, а скорее символический знак власти, что поддержано и соединением имени Сталина с Москвой (= Кремль). Не вполне понятно, почему в качестве местонахождения адресанта указан именно Киев. В контексте обозначенной в картине речевой практики (рукописность как подобие речи в визуальном коде) Киев можно трактовать как знак просторечия, учитывая, что этот топоним часто встречается во фразеологизмах и речевых клише типа «Язык до Киева доведет», «В огороде бузина, а в Киеве дядька», «тетя из Киева» и т. п. В этом случае Киев, наряду со сниженным именем Егор, является еще одним указанием на речевую природу этой картины как изобразительного «высказывания».
Изображение можно уподобить устной речи и по признаку стилизации примитива в стиле композиции. Известно, что в эти годы Г. Рублев был увлечен творчеством «наивного» грузинского художника Нико Пиросмани. В духе примитива решены и многие другие произведения мастера, среди них – «На даче» (1929), «Парикмахерская» (1928), «Ликбез» (1930) [илл. 32]. Кроме того, в конце 1920-х годов примитивизм в его профессиональном изводе, т. е. в творчестве образованных художников, нашел широкое распространение в русском искусстве. Отчасти причиной тому стало сворачивание формальных поисков авангарда и обращение к «народному» стилю непрофессионалов оправдывало условности художественного языка. В подобном русле развивалось, например, творчество Д. Штеренберга, С. Адливанкина, С. Никритина и мн. др. Г. Рублев активно вводил в свои примитивистские полотна вербальные фрагменты: например, в картине «Ликбез» учащаяся крестьянка выводит на доске мелом оборванную фразу: «Горячий привет 16 парт» (это именно тот партсъезд, доклад на котором лежит на столе в рассматриваемой картине!) [илл. 33]. Совмещение стиля примитива и словесных врезок характерно и для других мастеров. Так, композиция картины С. Адливанкина «Трамвай Б» (1922, ГТГ) не только включает в себя название, которое фигурирует на изображении вагончика, наряду с вывесками стоящих поодаль магазинов, но здесь же красуется и подпись художника, что впрямую перекликается со способом введения имени автора в картине Г. Рублева [илл. 34].

32. Г. Рублев. На даче. 1929

33. Г. Рублев. Ликбез. 1930

34. С. Адливанкин. Трамвай Б. 1922
Стиль примитива в сочетании с рукописными надписями заимствован из площадного искусства вывесок, к которым обращался ранний футуризм, а также из лубка, дань которому отдали в годы первой мировой войны ведущие мастера исторического авангарда – например, К. Малевич и М. Ларионов (подробнее об этом см. предыдущую главу). 1920-е годы пронизаны своего рода отблеском предавангардной поэтики, однако появляется новое качество: память об опыте исторического авангарда переводит этот виток повторений на мета-уровень. Возникает рамочная конструкция рассказа о рассказе, в которой «речь» примитивного стиля приведена в прямое соответствие с интермедиальной игрой знаков. Примитивная поэтика в живописи характеризуется качеством дискретности, которое проявляется в орнаментальной композиции с равномерным распределением деталей изображения в центре и периферии, и эта дискретность выступает как параллелизм по отношению к дискретности письменных знаков. Связь примитива и рукописного текста имплицирует модус речевого акта: отклонение примитива от школьной традиции можно рассматривать как иконическое обозначение живой речи, отклоняющейся от формальных норм языка. Речевая природа изображения указывает на коммуникативную активность этой тайнописи/криптограммы, но не слишком приближает нас к ее дешифровке.
В фокусе внимания – письмо, если основываться на том, что название картины принадлежит самому автору. Оно располагается в центре не геометрическом, а смысловом. Имя автора в дательном падеже введено в композицию по образцу мастеров старой живописи – эмблематически. Письмо, адресованное автору – это знак реализуемого в сообщении акта автокоммуникации, осуществляемого в сфере личной жизни, повседневности. Тогда все изображение целиком представляет собой записанную авторскую речь, рассказ от первого лица (Ich-Erzählung), нечто вроде сказа в литературе, выраженного средствами фигуративной живописи и развивающегося в двух регистрах – общем (общественно значимом) и частном. Автоадресованность письма – наряду с актуальностью доклада – знак присутствия рассказчика, дополнительное указание на автокоммуникацию, замыкающую нарратив на имени. Причем, письмо здесь отсылает к речи рассказчика.

35. М. Ларионов. Натюрморт с письмом. 1920-е
В истории искусства мотив письма встречается весьма часто. Однако, как правило, оно выступает знаком рассказа об «объекта», т. е. повествования от третьего лица: его читают, причем, как правило, женщины и реже – маргинальные личности и дети, в культуре занимающие нишу объекта, и еще реже письмо пишут, причем чаще всего мужчины (согласно маскулинным стереотипам – субъекты истории). В картине Г. Рублева мы имеем дело с редким случаем иконографии, когда письмо выступает одновременно и объектом (как вещь), и субъектом (как носитель имени и речи) повествования. Такое же изображение письма с адресацией автора произведения самому себе находим и у М. Ларионова в его «Натюрморте с письмом» 1920-х гг. [илл. 35]. Можно предположить, что принцип автокоммуникации, мотивированный изображением вещи, в 1920-е годы явился знаком воспоминания о поэтике авангарда. В любом случае, письмо на картине Рублева – это центральный «персонаж», от лица которого ведется повествование.
Выстроенность композиции как речи, сказовая интонация повествования и акцентированная субъектность рассказчика позволяют применить к картине категории теории речевых актов, т. е. рассмотреть данный визуальный нарратив как иллокутивный акт, где осуществлено приобщение зрителя/читателя ко времени актуального события, одновременного рассказу, и вещи выступают как знак настоящего. Откуда же это ощущение, что натюрморт несет в себе нечто зловещее? Можно утверждать, что, хотя в рассказе вещей акцентировано настоящее, коммуникативный жест направлен в прошлое и будущее. Прошлое – это воспоминание об автокоммуникативности авангарда, а будущее отмечено модальностью призыва. Содержание этого призыва становится более ясным, если учесть, что произведение не кончается рамками полотна, и очевидно, что сама ситуация речевой коммуникации призывает ввести в интерпретацию фактор контекста.

36. Г. Рублев. Сталин, читающий газету Правда. 1933


37. Г. Рублев. Письмо из Киева. Фрагмент.

38. Н. Бухарин. Портрет Сталина. Шарж.
Среди отмеченных ассоциативных рядов выделяется связка ножницы + доклад. Напрашивается метафорическое осмысление колюще-режущего инструмента: XVI съезд вошел в историю как съезд коллективизации и означил обострение классовой борьбы. Язык политического доклада Сталина построен на системе жестких противопоставлений: мы – они как рост и прогресс vs упадок и стагнация. Жесткость формулировок соответствует суровому развороту истории: 1930 год – это точное время прихода Сталина к неограниченной власти. Тем самым ножницы – это не только вещь-инструмент, но и содержат скрытый вербальный компонент, переносное значение: они представляют и инструмент генеральной линии партии, направленной на «перекройку» страны и мира.
Однако ключ к контексту открывает семантика формы. Обратимся к созданному художником тремя годами позже полотну «Сталин, читающий газету Правда» (1933, ГТГ) [илл. 36]. Гротескная фигура вождя решена все в том же раешном, ироническом ключе стилизации под примитив: неканонический генералиссимус представлен в кресле-качалке за чтением газеты «Правда», а у его ног расположилась такса, скобообразным разворотом своего тела вторящая круглящейся фигуре в кресле. На красном фоне полотна выделяются черные брови, глаза и усы главного персонажа. Той же чернотой отмечены и ножницы в «Письме из Киева»: экспрессивный способ их обозначения активно приковывает внимание зрителя. Инструмент изображен в «стоячем» положении, обретая подобие человеческой фигуры – и/или мужского лица с усами и бровями (!). Сравнение с одновременными полотнами не оставляет сомнений. Это – схематическое обозначение лица Сталина. Если совместить обе значимые детали, окажется, что портрет почти в точности совпадает с очертанием вещи [илл. 37, 38]. Таким образом, перед нами – изобразительная анаграмма. Дополнительная игра разворачивается в сфере уже словесного, благо активная роль письменности в составе композиции подталкивает к такого рода ассоциации: материал ножниц (сталь) и способ организации их механики (ось) представляют вербальную параллель визуальной анаграммы имени вождя: Иосиф Сталин[12]. Соединение колюще-режущего инструмента с именем-лицом Сталина трансформирует послание: иллокутивный акт эго-текста повествователя становится одновременно и актом перлокутивным – актом-предостережением. Тем самым, настоящее оказывается черной дырой – знаком катастрофы, сам рассказ – инверсированным автопортретом времени, а анаграмма – шифрованным эго-документом, обращенным автором к самому себе.
Такого рода авторские предостережения возникают независимо от намерений художника и часто бывают скрыты от внимания современников – например, полотно К. Редько «Восстание» (1926), трагический пафос которого не помешал ему быть экспонированным на выставке того же года в Москве[13] [илл. 39]. Однако в случае с Г. Рублевым можно говорить и о некотором продолжении трагической темы, заставляющем усомниться в полной идеологической «невинности» мастера. Подтверждением служит его странная картина «Иволга» 1937 года (местонахождение неизвестно), где на стуле с плетеной (!) спинкой изображена лежащая лапками кверху желто-черная мертвая птица. Благодаря сгущенной символистичности этого изображения, догадки об анаграммах и метафорах загадочного «Письма из Киева» получают хотя бы частичное подтверждение.

39. К. Редько. Восстание. 1925
Глава 5. Нарратив городской окраины в фотографии Бориса Михайлова: к проблеме модальности изображения
Оборотной стороной визуализации литературы можно считать олитературенное изображение. В числе многообразных видов последнего – редкий вид изобразительного «текста», не восходящего к тексту литературному (имеются в виду все виды иллюстраций и «программная» сюжетная живопись от классической традиции до передвижников) и не содержащего письменные фрагменты в своей композиции (подобно житийной иконе, лубку, портрету эпохи барокко, комиксу, рекламе), однако опирающегося на мотив, оперирующий категориями времени и состояния. Примером может служить фотоальбом «Неоконченная диссертация» работы Бориса Михайлова [Mikhailov 1998]. Впрочем, в этом произведении присутствуют и два названных выше признака – здесь есть и литературно-философские аллюзии/цитаты, и короткие записи-комментарии или просто размышления на полях. Между тем, чреватость данных изображений словом определяют не они, а содержащаяся в фотографиях имплицированная вербальность: она не поддается описанию в дискретных понятиях, но обладает выраженным качеством нарративности и может быть рассмотрена в аспекте модальности. В попытке подобрать ключ к пониманию этого произведения как примера вербализованной визуальности и состоит задача настоящей главы.
Борис Михайлов – один из самых знаменитых ныне живущих фотохудожников на постсоветском пространстве. Он родился в 1938 году на Украине и работал в Харькове, а с 1900-х живет в Германии. Творчество Б. Михайлова имеет огромный успех на Западе: он стал обладателем премии «Хассельблад» – наиболее престижной в области фотографии. Б. Михайлов создает серии фотографий: среди наиболее известных – «Красная серия», «У земли», «Вчерашний бутерброд», «Неоконченная диссертация», «История болезни», «Сюзи и другие». Изображения выступают как парафраз жанра репортажной, документальной фотографии: парафраз, потому что нет событий, и документом как антисобытием выступает обезличенный поток будней. Темой творчества является в основном советская/постсоветская (но также и западная) повседневность, окраины большого города, унылые будни жителя спальных районов, а иногда брутальная телесность с компонентом горькой иронии и социальной критики. Стилистика фотографий основана на принципе редуцированной эстетичности: характерны подражание отбраковке, «некачественной» любительской съемке, «случайная» кадрировка, непостановочность – или, наоборот, превращающаяся в свою противоположность нарочитая постановочность (в сюжетах, где ее меньше всего ожидают), размытый фокус, децентрированность композиции, смещение осей, кривой угол или оптическое искажение поверхности. Изображение и слово часто выступают в единстве: рукописный текст наложен на фотографические изображения как рассказ-комментарий, интимный дневник автора.
О творчестве этого фотомастера много писали. Наиболее продуктивная интерпретация поэтики Михайлова основана на феноменологическом подходе и предложена Е. Петровской [Петровская 2003]. По мнению исследовательницы, художник показал невидимое, которое состоит в передаче времени, а именно советского времени, воспринятого поколением 1960-х годов, и это коллективное бессознательное (т. е. аффект времени, опыт поколения) показано, но не переводится в репрезентацию, поэтому «семиотика ничем не может нам помочь» [Петровская 2010: 30]. Хотя общий подход Е. Петровской представляется внутренне непротиворечивым и продуктивным, а анализ художественной фактуры убедительным, трудно согласиться с тем, что возможности семиотического подхода в данном случае исчерпаны. В данной главе мы попытаемся прочесть творчество Михайлова именно с точки зрения семиотики и знаковой репрезентации, правда, основанной не на статичных бинарных оппозициях, а на признаках состояния в его динамике. Это позволяет и поставить проблему модальности изображения в целом.
Проблема модальности изображения в современной семиотике чаще всего решается в плане отношения изображения к плану действительности, т. е. в аспекте оппозиции истинное/неистинное (см., например, [Chandler]). Примером художественной рефлексии на этот счет могут служить произведения Р. Магритта, в частности, его знаменитая картина «Это не трубка». Между тем, в визуальном нарративе мы сталкиваемся с более сложным уровнем модальности, а именно, с нарративом состояний, с тимическим (т. е. эмоциональным) измерением на нарративном уровне. В отличие от иконического (миметического) описания эмоций (посредством передачи мимики персонажа, экспрессии позы, колорита, ракурсов композиции и пр.), тимическое визуального повествования опирается на градуированную шкалу всех типов противопоставлений/отождествлений в рамках логической семантики. Динамика смены знака и логического модуса и описывает состояние. Схему семиотического описания модальности в нарративе в свое время предложил А. Греймас в своем знаменитом квадрате и созданная им Парижская школа [СС]. Согласно этой школе, «…эмоция связана с микротрансформацией, пусть и на уровне бытия (être), предшествующего макронарративу» [СС: 201]. Теория нарратива Греймаса, разумеется, никогда не прилагалась к материалу изобразительного искусства: ее объектом всегда был вербальный дискурс. Между тем, нам представляется, что применительно к визуальному нарративу эти актантные схемы порождения значения особенно действенны: они позволяют выйти на тот уровень организации художественного изображения как текста, где тимическое состояние представлено как процесс порождения значения. Причем, нарративность опять же понимается как структурный принцип, как синтаксис текста, в котором прослеживаются акты семантических преобразований, а не внешним образом – посредством иконической семантики – передаваемого сюжета. Все эти проблемы важны для понимания творчества Б. Михайлова.
В искусстве Б. Михайлова многое проясняют его истоки. Они вполне очевидны и – по его собственному признанию – восходят к творчеству знаменитого французского фотохудожника А. Картье-Брессона и близки литовской школе фотографии 1960–1970-х годов, в частности, творчеству А. Суткуса и В. Луцкуса, выдвинувших тему непарадной стороны быта, человека в городском окружении [Ридный, Кривенцова 2008]. Но за пределами этих конкретных адресов все не так ясно. Очевидно, что Михайлов оспаривает патетику наследия 1920-х годов, но это оспаривание не отрицает и заимствований. Также и с 1950–1960-ми годами. Оперирующий сугубо фотографическими приемами (например, приемом срезанного кадра, создающим эффект непреднамеренной фиксации событий, т. е. жизни «как она есть»), Михайлов в своем искусстве обнаруживает связь с живописью позднего авангарда (С. Адливанкин, А. Лабас, А. Штеренберг, Г. Рублев) с ее бытовыми темами, неопримитивистской стилистикой, маркированной синтагматикой (любовью к неожиданным ракурсам, смазанным контурам) – и создает ее парафраз. След исторического авангарда (как во всем советском концептуализме) обнаруживается в параллели в живописи и фотографии конца 1920-х годов, однако очевидно и противостояние героической образности эпохи, а также ее подчеркнутой риторичности, акцентировке формы – сшибке масштабов у Б. Игнатовича, остранениям у А. Родченко, палимпсестам Эль Лисицкого. Борис Михайлов – и за, и против первопроходцев XX века: наподобие художника авангарда, он создает открытый «мир на юру», но при этом ему чужд ницшеанский пафос и утопия последнего, свойственна пассивность взгляда. Он создает своего рода антипроект авангарда, и потому «оптимальной проекции» в будущее (выражение А. Флакера [Флакер 2008]) он противопоставляет обращенность внутрь, интимизацию мира, впрочем, наделенного все той же абсурдностью. Такого рода отношение к истокам обнаруживают двойственность позиции художника: налицо одновременно и отрицание, и приятие того, от чего мастер отталкивался. Аналогичная двойственность проявляется на всех уровнях творчества мастера. Она особенно свойственна его «тексту» города.

40. Б. Михайлов. Из альбома «Неоконченная диссертация»

41. Б. Михайлов. Из альбома «Неоконченная диссертация»
Изображения города как такового (имеем в виду в традиционном жанре видовой фотографии) у Бориса Михайлова нет. Город часто выступает фоном – он описывается мотивами повседневности по умолчанию: выступая как маргиналия, в форме мотива окраины, сам являет собой маргиналию кадра. Так, устанавливает прямой изоморфизм плана выражения («документалистская» позиция объектива «у бедра», нарочитая «ошибочность» экспозиции и т. п.) и плана содержания («случайность» кадрирования, «дневниковый» отбор сюжетов, отсутствие/нарочитость постановочности) фотоизображений.
«Неоконченная диссертация» является центральной работой Бориса Михайлова в плане темы городской окраины. Фотоальбом представляет собой книгу, каждый лист которой заполнен одиночными или сдвоенными фотографиями [илл. 40–42]. Фотографии созданы аналоговой камерой и имитируют любительские снимки, проявленные в домашних условиях. Им сопутствуют написанные от руки короткие замечания – текст-комментарий – на полях страниц. Последние весьма разнообразны по широте поднимаемых тем и жанрам: здесь и философские, отмеченные иронией размышления о жизни, цитаты из трудов философов (например, Канта и Беньямина), и саркастические замечания по поводу собственной персоны, и бытовые зарисовки, и еще мн. др. По признанию самого художника, «то была игра в диссертацию, а в диссертации, как известно, можно использовать цитаты из чужих текстов. Некий автор что-то сказал, и вот рядом с цитатой есть изображение, которое можно воспринимать определенным образом, связать цитату с изображением. Все вместе, конечно, – игровое пространство» [Михайлов 2007]. Записи на полях альбома Михайлова, действительно, иногда напоминают полные игровой стихии тексты Хармса, особенно из его «Записок». Это и неслучайно: интерес к маргиналиям быта, элементы «мусорной» поэтики, ирония в письменном слове сближают фотомастера с кругом художников московского концептуализма 1970-х, в частности, с творчеством Ильи Кабакова, а последние часто близки обэриутам, обнаруживая отчасти типологическое схождение с ними, отчасти отражая общественный интерес к этому неофициальному, с большим опозданием вошедшему в советский культурный оборот явлению авангардного наследия.
Важно и то, что тексты написаны от руки, неровными строчками, благодаря чему актуализируется начало телесности как означаемого, отсылающего к частному, речевому, субъектному. Можно было бы, как и в случае с разобранными в предыдущих главах примерами из творчества М. Ларионова и Г. Рублева, сказать, что сочетание записей и фотографий апеллирует к традиции футуристических рукописных книг, к авангардному лубку, к дадаистскому коллажу, если бы не одна особенность этого параллелизма: здесь между изображением и словом образуется особое натяжение смысла, иногда трудно уловимое и во всяком случае не сводимое к простому комментарию. Вербальное и визуальное образуют непересекающиеся пространства, имеющие при этом между собой много общего, в основном по признаку их принадлежности пограничному ментальному состоянию (и/или семиотическому локусу), располагающемуся между сном и явью, между мыслью и делом, между жизнью и бытием. Нарративы Михайлова посвящены унылому безвременью поздней советской эпохи. Остановленное мгновение «случайных» кадров передает состояние не-бытия.

42. Б. Михайлов. Из альбома «Неоконченная диссертация»
Таким образом, в альбоме мы имеем дело с двойным кодом: изображение как знаковая система континуального типа и письменное слово как система дискретная соединены/противопоставлены в едином семантическом поле. Принцип двоичности кода, свойственный организации любого художественного текста, здесь акцентирован.
В вербальных текстах альбома городские реалии почти не упоминаются. Город косвенно представлен преимущественно в фотоизображениях. Он описывается прежде всего в пространственных категориях периферии: окраина, пустырь, свалка, панельный микрорайон; неосвоенное пространство, отграниченное пространство – забор, заросшие бурьяном площади; неуютные дворы с сараями, глухими стенами, отдельно (как гнилые зубы) стоящие дома; пространственным характеристикам соответствуют и атрибуты жилых районов – троллейбус (трамвай), грузовик/экскаватор, тротуар (в лужах); обитатели также наделены качеством периферийности: «случайный» прохожий, немолодые женщины в платках и с сумками, бомжи, толкучка у троллейбуса [илл. 43–45]. Часто городские виды безлюдны: отсутствие жителей обнажает позицию случайного прохожего, обитателя этих мест, скользящего взглядом автоматически. Той же цели служат и фигуры, снятые намеренно нерепрезентативно: со спины фигуры вдалеке и/ или фрагментированно, – например, одни ноги, а также «неумело» в плане экспозиции и т. п. Персонажи в кадре ad hoc демонстрируют не себя, а обезличенную «объективность» фотокамеры, механического регистратора, в поле зрения которого «попадают», но который не наделен человеческой волей отбирать факты. Тем не менее, то, что на первый взгляд выглядит как «неизбирательность», оборачивается сверхтщательным отбором при ближайшем рассмотрении.

43. Б. Михайлов. Из альбома «Неоконченная диссертация»

44. Б. Михайлов. Из альбома «Неоконченная диссертация»
Семантика и синтактика пространства в фотографиях Михайлова образуют сплошной изоморфизм: усеченное пространство фрагментированного кадра соответствует семантике пространства частного, маргинального. Но при этом фрагмент метонимически отсылает к центру как целому – семиосфере советской среды обитания, коллективному бессознательному жителей новостроек. Однако центр артикулирован по принципу отрицания: частное метонимически отсылает к партиципированной целостности. Эффект нарочитой «случайности» кадрировки создает колебательное движение с постоянным смещением фокуса – это и не центр, и не периферия, а градация переходов одного в другое. Время в репрезентации города также обозначено как постоянный сдвиг: чуть раньше и чуть позже настоящего (только что прошедший прохожий или садящиеся в троллейбус будущие пассажиры). Е. Петровская проницательно указывает на эффект запаздывания в фотографиях мастера [Петровская 2010]. К этому можно добавить, что, наряду с запаздыванием, имеет место и момент опережения. Главное – это колебательные движения вдоль оси настоящего, подобные колеблющимся пространственным локусам. Очертания настоящего лишаются фокуса, и контуры предметов в динамике становятся размытыми, как на картинах А. Лабаса, представляющих движение в поезде. Размытое настоящее выступает метафорой безвременья.

45. Б. Михайлов. Из альбома «Неоконченная диссертация»

46. Б. Михайлов. Из альбома «Неоконченная диссертация»
Мерцания пространства/ времени в изображении получают развитие и в параллельном вербальном коде. Маркировано уже само название серии – «Неоконченная диссертация»: традиционной определенности границ письменного текста, обычно отмеченной началом и концом, противостоит неопределенность: это и не начало, и не конец. Акцент сделан на не-конце – разомкнутость текста в будущее приглашает к открытости интерпретаций. Неоконченность вводит мотив длящегося бытия, что соответствует жанру дневника, которому подражают альбомные записи. Похоже, неоконченное стало излюбленным словом Михайлова – на Венецианской биеннале 2007 года он демонстрировал одну из своих новых работ, в заглавии которой фигурирует та же семантика в синонимическом ряду: «Неоконченная книга о незавершенном времени».
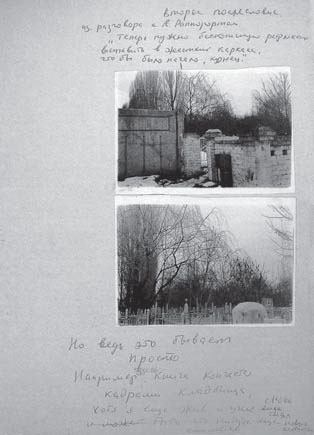
47. Б. Михайлов. Из альбома «Неоконченная диссертация»
Предполагаемая множественность прочтений определяется и введением в текст комментариев предиката серое. Слово серое можно считать ключевым для понимания общего смысла «Диссертации». Первая фотография альбома (с изображением фрагмента гаража и двух голых деревьев на фоне обезличенного панельного дома) содержит подпись: «все стало серым» [илл. 46]. Эти слова, отнесенные к изображению, предваряются цитатой из книги В. Беньямина у верхней кромки листа: «Мечта уже больше не открывает голубой дали. Все стало серым. Мечты стали дорогой по направлению к банальности». Метафорическое серое, обращенное к состоянию общества, буквально определяет и визуальный ряд – технику и мотивы. Начавшись со словесной темы серого и пройдя через множество решенных в сером видов городской окраины, альбом заканчивается видами кладбища [илл. 47]. Между начальным серым и конечным кладбищем, словом и изображением – неуютные дворы, заборы, заросшие сорняком городские пустыри, тупики, т. е. все признаки промежуточного пространства/бытия. В той же неконтрастной серой гамме решены и черно-белые фотографии альбома с их размытыми контурами.
Налицо отрицание бинарности. Мастер описывает уход от оппозиции черное/белое как определение этого контраста по признаку его отсутствия, и здесь возникает серое как альтернатива оппозиции. Обосновывая свою непричастность к традиции, Михайлов уравнивает серое с отсутствием света. В беседе с художественными критиками он признался: «Мне было важно, например, серое (здесь и далее выделено мною. – Н. З.), а в классической фотографии важно черно-белое, глубокий тон, в классической фотографии важен свет, который то же самое, что Бог, как у Караваджо, а в моей фотографии нету света, нету солнечного мощного освещения. Это стало эстетическим моментом. <…> “Все стало серым”… потому что не было чего-то особенного. Это было важно… Серое и скучное стало важным элементом, являлось частью той действительности, это было необходимо передать. Эстетика здесь концептуальна» [Ридный, Кривенцова 2008]. Как известно, то, что лишено света, невозможно увидеть, оно лишено и видимости. Настаивая на доминанте серого, мастер акцентирует метафизику невидимого, которое возникает как колебательное движение между полюсами черного и белого, но не сводимо ни к одному из них, равно как и к их смешению. В этом смысле серое эквивалентно не-бытию.
Таким образом, в семантике изображения и слова «Неоконченной диссертации» доминирует градуированность – серое, прозрачное, случайное, отчужденное, окраинное как незавершенное состояние, процесс. В этой сумеречной атмосфере и рождается незаметное, обиходно-автоматизированное, т. е. тривиальное города. В оппозициях видимое/невидимое, центр/периферия, целое/партиципированное, открытое/закрытое, организованное/случайное, динамика/статика, завершенное/незавершенное – акцент сделан на невидимом (прозрачном), открытом, случайном, периферийном, незавершенном, динамичном, случайном, фрагментированном. Все построено на постепенных переходах и описании состояний как более/менее. Т. е. доминирует не черное и не белое, и даже не срединное, а обозначенное по принципу отсутствия явного (относящегося к бинарному противопоставлению) признака. Здесь центр не противопоставлен периферии, равно как и прошедшее – будущему: актуализировано отрицание и логическое противопоставление по градуированной шкале. Речь идет о маркированном состоянии, которое передается как непрерывно длящийся процесс.
Представляется, что систему противопоставлений Михайлова, связанных с репрезентацией городских мотивов, можно описать в понятиях квадрата А. Греймаса, где бинарные основы, из которых складывается главное противопоставление бытие/не-бытие, организованы не только как оппозиции, но и как система противоречий и импликаций. На глубинном уровне между ними образуется зона постепенных переходов. Серое в этих фотографиях не тернарно, а тетрарно, т. е. оно образует не промежуточное звено между черным и белым, как это мыслится в означивании срединности, а вбирает в себя признаки, дополняющие противопоставленность черного и белого – импликацию и отождествление. Вследствие этого рассказ о сером (городе, быте, сознании горожан) можно трактовать как фиксацию динамических процессов-состояний, как визуализованную модальность. Посредством градуированной шкалы описывается рассказ о призрачной действительности, которая располагается в срединной зоне на шкале мерцающих переходов-признаков от бытия к не-бытию.
Еще одна тетрарность возникает во взаимодействии текста и изображения «Диссертации» Михайлова. Текст противопоставлен изображению как дискретное континуированному. Однако область вербального здесь – суждения о бытии сквозь будни, область изображения – скольжение взгляда по поверхности банального повседневности. Возникают противопоставления глубинное/поверхностное, мыслимое/ зримое, погружение/скольжение. Дискретное выступает как принадлежность телесного и событийного (взрыва), а изобразительное распадается на телесное (человеческая фигура в интерьере, часто акцентировано телесное – беременная женщина, ню, вульгарная поза) и внетелесное как городское (пустырь, панельный микрорайон и т. п.). Тем самым, за мотивом города закреплено континуальное, т. е. собственно визуальное. Но при этом он выступает как кажимость, т. е. невидим по существу или активно незрелищен (внесобытийное изображение, за него не зацепляется глаз), и в этом состоит парадокс его визуализации. В нарративе городской окраины акцентированы знаки постепенного угасания во времени; событием является распад пространства, его растворение в неявных, семантически не отмеченных формах, также в отсутствии какого-либо активного действия персонажей.
Несмотря на внешнюю несобытийность представленного, взгляд прикован к изображению, а зритель становится проводником между картинкой и той действительностью, о которой картинка повествует. Михайлов обнажает родовое свойство фотографии, которая, согласно Р. Барту, является «сообщением без кода» [Барт 1997]. Однако в данном случае художник усложняет задачу: лишенное кода визуальное сообщение, вместе с тем, заимствует код у письменного слова, словно меняясь с последним «ролями». Налицо снова четырехчленная модель: рукописное слово осуществляет переход от дискретности письменного знака к нарастанию телесности по признаку следа руки, а изображение городской окраины основано на убывании телесности, на размытом нарративном фокусе. Но при этом изображение реализует и противоположное движение – постепенное смещение от континуального к дискретному, фрагментированному. Слово/тело/город попадают в одну парадигму. Реализуются архетипические смыслы города: город-тело, город-поток (= речь), город как внутреннее. Мотив хаоса, неорганизованности и децентричности восходит к диаволическому городу символистов [Ханзен-Лёве 1999б]. Таким образом, двойной код – вербальный и визуальный – альбома образует взаимные перекрещивания: рукописное/телесное (как дискретное/континуальное) и тело/город (как дискретное/континуальное – в силу его фрагментированности). Рукописное выступает эквивалентом жанра – исповеди-дневника в картинках. Частное и интимно-телесное, в свою очередь, «рифмуются» с мотивом городской окраины как сюжетным стержнем повествования.
Маргинальны персонажи городской маргиналии, маргинальна и точка зрения рассказчика. В фотоальбоме Михайлова повествуется своего рода история ничтожного. Она создана речью персонажа, т. е. субъектом. Субъектная интериоризация города отвечает коммуникативной структуре эго-текста, из которого, однако, подобно тому, как в пространстве описываемого города, извлечено ядро, центр, потому что все повествование дано с точки зрения анонимного рассказчика (адресанта, субъекта), и такая точка зрения совпадает с анонимностью персонажа (адресата, объекта). Некоторые исследователи справедливо говорят о «слипании» художника и объекта фотосъемки [Tupitsyn 1998: 218–220]. Создается эффект «прозрачности» повествования, неопосредованности точкой зрения рассказчика и неконвенциональности системы означающих. Позиция внешнего наблюдателя спроецирована на самого себя, что и создает эффект призрачности. В этой среде прозрачности рассказчик сам обладает сверхпрозрачностью.
Такого рода нарратив наделяет изображение города текучестью: город и присутствует, потому что узнаваем быт, но и ускользает от пристального взгляда, потому что в изображении нет ничего статичного, фронтального, тектоничного. Это эксцентрический город на краю обитания, нарратив отсутствующего места как пространственный эквивалент безвременья. Вспоминаются «ветхие» города Андрея Платонова: «Над домами, над Москвой-рекой и всею окраинной ветхостью города сейчас светила луна» [Платонов 1990: 329]. У Бориса Михайлова возникает оксюморонная отсылка к платоновской поэтике: в категориях ветхости описываются районы новостроек. Его городская окраина предстает как рассказ о внутреннем состоянии субъекта, наделенного ущербностью, неполнотой сознания, психологической недостаточностью, отсутствием телесности или ее гипертрофией. Городской текст Бориса Михайлова выступает двойным отрицанием: противопоставляя себя как утопическому проекту Башни Третьего Интернационала Татлина, так и дистопическому повествованию в романе А. Платонова «Чевенгур», он прокладывает третий путь: не-жизнь и не-смерть Харькова эпохи советского застоя, где жизнь выступает как маркированный член оппозиции.
В «Неоконченной диссертации» Бориса Михайлова город становится пространственной моделью культуры, в которой континуальное и дискретное находятся в непрерывном и напряженном диалоге. Фотоальбом Б. Михайлова «Неоконченная диссертация» представляет, кроме того, интерес как случай построения модели, эксплицирующей семиотический парадокс фотоизображения: фиксируется то, чего больше нет, что оставило свой след. Эго-нарратив городской окраины создает антропоморфный образ призрачного города как метафоры повседневности, поэтому можно говорить o воссоздании в изображениях Михайлова мифологического образа последнего (город как тело), но также и о динамической системе означиваний частного, бренного, в которой непрозрачно только состояние, т. е. модальность.
Глава 6. «Речь» имитационных строительных материалов и «текст» эпохи
На первый взгляд, заявленная в данном очерке тема имеет мало общего с проблемой мифопоэтики визуального. Однако следует учитывать, что визуально-вербальный синтез в современной культуре простирается за пределы, традиционно обозначенные термином «эстетическое». Имитационные декоративные строительные материалы являются одним из кодов культуры, важным индикатором состояния общества. Поэтому их «речь» выступает в форме ментальных схем и приоритетов социума, тем самым, имеет отношение к «тексту» эпохи, ее риторическому портрету.
Поводом для темы настоящего очерка послужила книга известного американского искусствоведа Пэмелы Симпсон, посвященная имитационным архитектурным материалам, применявшимся в Америке с 1870 по 1930 годы [Simpson 1999]. Эта книга – стихийно-семиотическая по своему способу рассуждения – описывает освоение культурой новых материалов (с подробным описанием технологий и истории их создания и производства) как шага на пути к становлению ранней демократии. При внешнем сходстве процессов с современной Россией, поражает глубинное расхождение в принципах означивания материалов и социальной коннотации последних. Имитационные декоративные строительные материалы в современной России являются одним из знаков того, что в обществе нет установки на демократизацию. В этом ключе можно было бы рассмотреть и женскую моду, однако эта тема выходит за рамки настоящего исследования.
Современный человек окружен массой вещей, изготовленных из новых полимерных материалов, особенно в отделочно-строительной сфере. Большинство этих материалов являются имитацией натуральных материалов: дерева, мрамора, камня, кожи. Маскирующие имитационные свойства материалов требуют усилия, чтобы распознать подделку – кожезаменитель, линолеум и пластик под дерево, гипс с нарисованными мраморными прожилками, бетон, имитирующий каменный руст, металлическая черепица. К имитирующим практикам следует отнести и натуральные материалы, маскирующиеся под другие натуральные материалы более высокого статуса в культуре: сосна под дуб, хлопок под лен, песчаник под гранит и т. п., а также искусственные материалы, маскирующиеся под более дорогие искусственные материалы, – например, полиуретановые потолочные плинтуса под гипсовую лепнину.
Полем референций искусственных материалов являются природные материалы – в этом современный человек решительным образом отличается от так называемого архаического человека, имеющего дело с материалами, которые коннотированы первичными смыслами, связанными с преобразованием природы в ходе хозяйственно-ритуальной деятельности. Так, дерево отсылает к комплексу axis mundi, кожа хранит память об охоте на зверя, камень символизирует крепость, границу как защищенность своих от чужих. По сравнению с первичными архаическими значениями имитационные материалы являются продуктом вторичной символизации. Материал – это один из кодов культуры. Стратегия и характер символизации материала раскрывают важные свойства языка культуры.
Искусственные материалы существовали с древних веков – примером может служить стекло и до известной степени шелк. Столь же извечна и практика имитации в строительстве, имевшая целью повышение семиотического статуса элемента посредством возведения его к более древнему прототипу. Так, мраморные античные колонны имитировали предшествовавшие им деревянные столбы. В более широком охвате имитация как принцип лежит в основании классической эстетики (вспомним Аристотеля с его идеей подражания искусства природе – идея мимезиса). Наконец, расширяя контекст до рамок всего живого на Земле, имитацию следует рассматривать как вариант мимикрии, которая, в свою очередь, включена в бесконечный и универсальный ряд метаморфоз, характерный для всего органического мира. В своей книге «Протей. Очерки хаотической эволюции» Ю. С. Степанов пишет о мимикрии покорных и мимикрии сопротивляющихся, а также о мимикрии как концепте прегнантном, который расширяет и завоевывает умы (от камуфляжной формы до концепции гомеопатии – подобное подобным) [Степанов 2004]. Мимикрия – это, таким образом, одно из проявлений динамической системы мира аналогий и мира как аналогии.
В свете универсальности природы имитации ее отношение к проблеме истинной/ложной идентификации представляется весьма неоднозначным. Маскируясь, имитирующий материал сохраняет до известной степени свойства аутентичности: действительно, ведь никто не спутает винил с кожей на обивке салона автомобиля, ламинат с натуральным деревянным покрытием пола или пластик, раскрашенный под мрамор, с природным материалом. Таким образом, имитационный материал, говоря на языке ложной идентификации, оставляет зазор идентификации истинной. Этот зазор является репрезентирующей функцией материала, создающей нечто вроде авто-метаописания. То, как имитация оценивается в отношении идентификации, является индикатором установок той или иной культуры, ее автопортретом. Проблема, как правило, состоит в том, зачем новым материалам имитация, кто и как повышает свой статус в процессе мимикрии. Обратимся к недавней истории.
Не углубляясь в более ранние времена (например, барокко), скажем, что XIX век был буквально захлестнут имитацией всех видов. В это время в сфере искусства активно распространяются копии, репродукции, подделки. Возникает фотография, имитирующая реальность, а затем и кинематограф. Уже в начале века московский ампирный особняк оперирует ложными колоннами портика (сделанными из дерева) и покрытиями штукатуркой в подражание камню. К концу века, по мере распространения индустриальных технологий и успехов химии, европейский мир получает мощный толчок к развитию имитационных материалов. В это время возникают такие материалы, как линолеум с нанесенным на него рисунком в подражание ковру ручной работы; бетонные блоки, имитирующие камень; гипсовые панели, раскрашенные под мрамор; металлические потолки, прессованные под дерево и мн. др. В обществе наиболее продвинутых в индустриальном плане стран возникают жаркие споры сторонников и противников имитационных материалов и принципа имитации как такового.
В середине XIX века с критикой в отношении экспансии машинного производства и замещающих технологий выступили англичане Пьюджин и Рескин, а вслед за ними Скотт и Истлейк, которые отвергали имитационные материалы, считая имитацию аморальной и дурно влияющей на вкус нации. Пьюджин осуждал современный ему готицизирующий стиль за попытку использовать чугун в качестве заместителя камня. Рескин в контексте социальных реформ выступал с утопической программой борьбы с машинным производством, которое, по его мнению, лишает производителя счастья рукотворного труда (того, что было в Средние века). В основе протеста была элитарная эстетическая идея необходимости противостоять нарождающемуся среднему классу, который неизбежно снизит художественный стандарт элиты.
Но основной удар по адептам имитации обрушился со стороны знаменитого английского архитектора, дизайнера, поэта и публициста Уильяма Морриса. Стоящий на позициях раннего социализма, Моррис признавал за машиной фактор, улучшающий условия труда на производстве, но решительно отвергал коммерческое жульничество, которое замещало ручной ремесленный труд индустриальной подделкой. Осуждение имитации сопровождалось у него критикой капитализма как главного источника социального зла, но при этом продукция, которую он сам производил (и его дизайнерская компания), была по карману немногим. Моррис ратовал за искусство для народа и созданное народом.
Сближение между машинной индустрией и ремеслом произошло в Америке. Франк Ллойд Райт попытался приспособить ремесленные идеалы Рескина к машине, являющейся, по его мнению, главным двигателем демократии. По Райту машину нужно использовать не для производства искусства старого образца, а для here and now. Роль художника состоит в соединении Науки и Искусства, а новые материалы обладают собственной идентичностью и не нуждаются в том, чтобы выступать в качестве имитации чего-либо (листовое железо).
Однако массовый вкус нарождающегося среднего класса противился модернизации, хотя не возражал против новых материалов. В их пользу выдвигались соображения дешевизны, прочности и гигиеничности. Впрочем, каждый из этих аргументов носил характер вторичный: ведь дешевы они были только относительно тех материалов, которые имитировались ими, а соображения гигиеничности в поздневикторианскую эпоху являлись скорее выражением классового стандарта буржуазии. Принцип имитации являлся знаком демократизма, потому что противостоял желанию зажиточного класса утвердить свой социальный статус посредством обладания и демонстрации дорогих вещей, сделанных из природных материалов ручным способом. Кроме того, действовал семиотический механизм передачи значения по ассоциации: новое усваивалось лучше в старых формах. Имитационные материалы в Америке начала XX века были выражением устремленности общества к идеалам демократии, модернизации и прогресса.
Бинарность архаика/индустриализм, проявившаяся в материале, свойственна и русскому модерну, сотканному из антиномий. Бетон, стекло и новые облицовочные материалы (фактурная штукатурка) широко применялись в архитектуре доходных домов Москвы и Петербурга (арх. Г. А. Гельрих) [Борисова, Каждан 1971]. Возникла эстетизация металлических конструкций. Несравненно более существенным, между тем, стало мифотворческое отношение к материалу, проявившееся в неорусском стиле (Абрамцево) и закрепившее использование по преимуществу дерева с традиционными коннотациями. Использование имитационных материалов больше было свойственно неоклассическому направлению (арх. М. М. Перетяткович) [Борисова, Каждан 1971].
Следующий решительный шаг в деле освобождения «речи» материала был сделан в авангарде с его понятиями фактуры и материи. Авангарду принадлежит роль раскрытия атектонических свойств бетона в архитектуре. Однако ни в русском модерне, ни в русском авангарде проблема имитационных материалов не стояла так остро, как на Западе – что объясняется и причинами слабой индустриализованности страны, и типом культуры (в авангарде, например, имитация не могла возникнуть по определению), и отсутствием социальной базы в лице потребителей среднего класса.
В ситуацию, аналогичную началу XX века, Россия вступила лишь в последние десятилетия. Частный сектор столицы охвачен лихорадкой ремонта, строятся частные особняки; в общественном строительстве – гостиницы, банки, торговые центры. Все это вовлекает огромные массы декоративных материалов. Как правило, имитационных – излюбленных средним классом, активно овладевающим культурным пространством. Рекламы пестрят иностранными терминами – сайдинг и пр. Между тем, общий культурный контекст ситуации в России решительно отличается от начала века в Англии или Америке, и это накладывает отпечаток на смыслы и формы имитации. Имеем в виду глобальный кризис идентификации, в который вовлечена ацентричная западная цивилизация и в котором превалирует перемешивание в конкретных культурных контекстах как глобальных универсалий постиндустирального общества, так и национальных традиций. Известный французский философ постмодернизма Лиотар писал: «эклектизм является нулевой степенью общей культуры: в кино смотрят вестерн, на ланч идут в McDonald’s, на обед в ресторан с местной кухней, употребляют парижские духи в Токио и одеваются в стиле ретро в Гонконге» [Можейко 2001: 296]. Таким образом, национальные традиции и традиции идеологические перемешиваются. Подобная ситуация порождает симулякр – установку на уход от онтологической проекции знака – как отказ от идеи референции. В рамках кризиса идентификации происходит отступление от оппозиции натуральные/искусственные материалы. Жан Бодрийяр пишет в этой связи об освобождении вещей и материалов от природной символики и переходе их к высокой степени абстракции, где актуализируется игра и чистая комбинаторика. В своей книге «Система вещей» он указывает на то, что в этой функционалистской комбинаторике осуществляется жизненный проект технического общества, который ставит под вопрос саму идею генезиса вещей, и мыслит мир как нечто объектное, манипулируемое и контролируемое, т. е. приобретенное [Бодрийяр 1995: 54–56].
В условиях России симуляция накладывается на реликты традиционных представлений о распределении социально-классовых ролей, и при этом актуализируется импринтинг массовой культуры. Отсюда такое обилие арок из гипсокартона, имитирующих интерьеры бразильских сериалов или китчевое сочетание деревянных балок на потолке с пластиковыми вставками – импринтинг студийных кинодекораций. Употребление имитационных материалов имеет значение повышения социального статуса потребителя, который отождествляется не с идеей демократии и прогресса, как в старой доброй Америке, а с глобализмом и нивелированием референционных связей.
Приведу три примера. Русский нувориш покупает старинный французский замок; ему не нравится обшарпанный пол из керамики с росписью ручной работы, и он решает заменить его на полимерную испанскую плитку по $ 60 кв. метр («чтоб как у людей») – к ужасу дилера, осознающего, в какой мере это снизит первоначальную стоимость дома. Второй пример. Значительно менее состоятельное, но принадлежащее к среднему классу семейство, делая ремонт в своей московской квартире, покрывает дубовый паркет ламинатом, ссылаясь на то, что это «гигиеничней». Третий пример. В квартире устанавливаются деревянные стеклопакеты, и дерево окрашивается краской – «так, чтобы выглядело как пластиковое окно». Во всех трех случаях налицо функционализм, порывающий всякую связь с культурными коннотациями природного материала. Имитация становится первичной природой, отсылающей потребителя к нормам техницизированного общества. Во главу угла ставится симулякр.
Если в индустриальной Европе и Америке начала XX века искусственные материалы служили знаком демократизации и открытости общества, а имитация была формой приспособления к продуктам новых технологий по аналогии, в современной России обстоятельства кризиса идентификации западного социума в целом наложились на восторжествовавший в общественном устройстве принцип симуляции. В результате имитационные материалы в современной России стали одним из знаков репрессивной, объективирующей вещи идеологии. На вопрос, зачем новым материалам маска, отвечаем: маска – это условие обеспечения ложной идентификации в ситуации, когда симуляция подменила собой аутентичность.
Раздел 2. Искусство versus литература
Глава 1. Два «Художника» К. Малевича: стихотворение и картина
Творчество позднего Малевича отражает важнейшее свойство авангарда «на излете» – присваивать слово, делая его внутренним компонентом изобразительного «текста». Задачей настоящего очерка является описание механизма имплицитной вербальности в живописи позднего авангарда.
Среди различных версий причины заката эпохи авангарда более значимой, нежели часто обсуждаемые социально-политические обстоятельства, представляется версия внутренней исчерпанности феномена. Знаком перехода является новый тип отношения изображения со словом: вербальное покидает область комментария и/или манифеста, проникая в ткань самой изобразительности, т. е. интериоризируясь, в результате чего формируется специфический поставангардный визуальный нарратив. Один из наиболее ярких примеров – творчество позднего К. Малевича, отмеченное переходом от беспредметности супрематизма к экспрессивной фигуративности периода «белых лиц», к автоповторам произведений более раннего периода, крестьянской серии, а также к портретному жанру. В ряду последнего особый интерес представляет проблема имплицированного слова в картине «Художник. Автопортрет» (1933, ГРМ). В поэтическом наследии К. Малевича имеется созданное почти на десятилетие ранее стихотворение «Художник»: авторская датировка (1913) является обычной для позднего Малевича хронологической мистификацией, более вероятную дату предлагает А. С. Шатских: 1920–1922 годы [Малевич 2000: 167]. Сравнительный анализ глубинного «мэсседжа» автопортрета и семантической структуры названного стихотворения представляется продуктивным для выявления внутренней вербальности как данного изображения, так и визуального повествования рубежной эпохи в целом.
Картина «Художник. Автопортрет» 1933 года написана в тот период, когда Малевич отошел от собственно живописи супрематизма, а затем и пространственных архитектонов, и перешел к предметной фигурации [илл. 48]. Художник представил себя на полотне с сохранением портретного сходства, однако в «маскарадном» обличии – в типологически обобщенном костюме живописца итальянского Возрождения. Погрудное изображение с головой, развернутой в трехчетвертном развороте, и исполненный патетики жест правой руки обладают выраженной семантико-стилистической гетерогенностью. Зоны традиционного для истории европейского искусства, начиная с эпохи Высокого Возрождения, миметического живописного стиля – «натурных» лица, рук и одежды, смешанного колорита и трехмерной глубины «кадра» – противостоят зонам, хранящим память о недавнем супрематическом эксперименте. О последнем сигнализирует открытый цвет (красный берет, красная с белым рубашка, черный верх камзола, красные полоски на рукавах) и акцентированная двухмерность, условность изображения. Композиция построена по законам классической архитектоники и пронизана строгим ритмом: зрительно утяжеленная и отмеченная вертикалью-колонной нижняя часть противопоставлена облегченной горизонтали верхней части (классический принцип дорического ордера), что в сочетании с точкой зрения снизу вверх придает изображению подчеркнутую монументальность. Хотя фон отсутствует, композиция принадлежит к типу построений с низким горизонтом, повышающих статус представленного персонажа/события и тем самым задающих героическую интонацию. Можно согласиться с американской исследовательницей А. Кацнельсон, которая в своем рассмотрении «Автопортрета» Малевича указывает на иносказательный пласт смысла – тему вождя, которую автор намеревался скрыть от цензуры [Katsnelson 2006]. Аналогичный тип композиции мы встречаем в поздней крестьянской серии художника – в полных трагической экспрессии бородатых персонажах на фоне удаленного пейзажа.

48. К. Малевич. Художник. Автопортрет. 1933
По жанру «Автопортрет» Малевича принадлежит к типу визуальных эго-текстов наподобие эго-текстов литературных, где автор и рассказчик совпадают [Михеев 2007]. В известной мере эго-проекция характеризует жанр автопортрета как таковой, а с другой стороны, соответствует автореферентности авангардной поэтики. О приверженности мастеров живописи авангарда автопортрету свидетельствует его широкое распространение в 1910–1920-е годы и разнообразие форм, которые он принимал. Среди видных мастеров первой трети XX века, которые отдали дань автопортрету, – Кандинский, Татлин, Филонов, Шевченко, Гончарова, Петров-Водкин, Шагал, Лентулов, Матюшин, Розанова, и это еще далеко не весь список. Известны и шаржированные автопортреты мастеров пера – рисунки Хлебникова, Ремизова, Маяковского, Хармса; среди них и Ю. М. Лотман [илл. 49]. Можно рассматривать автопортрет и в контексте принципа персонального повествования в русской литературе [Ковач 1994]: он распространяется на изображение вещей, выступающих явными или скрытыми метафорами лица художника: так, «Автопортрет» В. Милиоти (1920–1922) имеет вид элегантной вазы с цветами, а свой этюд «Сарайчик» М. Ларионов (начало 1900-х) сам называл своим портретом [илл. 50].

49. Ю. М. Лотман Автопортрет-шарж. Архив.

50. М. Ларионов. Сарайчик. Начало 1900-х

51. И. Клюн. Автопортрет с пилой. 1914
К этому же типу «безлицых» автопортретов можно добавить и беспредметную композицию И. Клюна «Автопортрет с пилой» (1914). [илл. 51] В ряду названной галереи «Автопортрет» Малевича 1933 года выделяется своей игровой природой, игрой кодов и интертекстов, в которых подобие и маска соединены друг с другом отношением двойной референции (изображение отсылает к действительности и в то же время репрезентирует само себя, являясь аналогом автонимической речи), а визуальное содержит в себе элемент вербализации. Зрителю предложено считывать значения наподобие того, как разгадывается эмблема.
Рассматриваемому произведению в творчестве мастера предшествует целый ряд автопортретов, каждый из которых являлся квинтэссенцией того или иного этапа развития творческого «Я» художника. Наиболее ранний – автопортретное изображение в эскизе фресковой живописи 1907 года, затем «Автопортреты» 1908 и 1910–1911 годов подытоживают период, в который мастер разрабатывал стилистику модерна и импрессионизма [илл. 52]. Своим портретом Малевич называл «Черный квадрат» 1915 года, который иногда служил и подписью художника на полотнах 1920-х годов [илл. 53]. К этому же жанру отнесен в названии и супрематический «Автопортрет в двух измерениях» 1915 года. Картина 1933 года появляется как часть обширной портретной галереи в позднем творчестве мастера (1928–1933): «Мужского портрета (Н. Н. Пунина)», «Портрета дочери художника Уны», «Женского портрета», «Тройного портрета», а также «Портрета В. А. Павлова». За исключением последнего, решенного в духе раннего соцреализма, все остальные портреты отмечены единством плана выражения, которое состоит в сочетании стилизованного историзма с элементами супрематизма. «Автопортрет» выделяется из всех остальных суггестивностью коммуникативного акта: он апеллирует сразу ко всем предыдущим автопортретам мастера, автопортрету как жанру истории новоевропейского искусств, наконец, к типу эго-текста культуры с акцентированной фатической функцией.

52. К. Малевич. Автопортрет. 1908

53. К. Малевич. Работница. 1933
Программная поэтика изображения указывает на метанарративность: рассказ художника о себе строится как вложенные друг в друга повествования с каскадной негативной идентификацией (наложением нескольких точек зрения рассказчика/зрителя). Имеет место переплетение цитат и различных уровней идентификаций: лицо автопортретно, но исторически стилизованный костюм художника, поза, характерная для портретов итальянского кватроченто, и акцентированный жест руки переводят идентификацию по портретному сходству в план игры, маскарада. Карнавализация образа и ироническое остранение композиции подчеркнуто и метаинверсией: опущенная вниз левая рука в соответствии с традицией автопортретов в классическом искусстве указывает на то, что зритель видит в действительности правую руку, в которой автор держит кисть, в зеркальном отображении.
Супрематический компонент изображения – это знак-индекс творческого пути мастера. Знак истории искусства в форме цитаты ренессансной стилистики [илл. 54] и знак истории жизни индивида (тоже цитата), в большое время вписанной, зеркально противопоставлены, но идентифицированы по признаку «Личность в истории». Рассказ о творческом «Я» автора в контексте большого времени истории зрителю предложено осознать как эфемерность видимого. Возникает эффект так называемой «лицовости» (Делез – Подорога), когда изобразительная метанаррация описывает себя как риторическое послание. Исполненный патетики жест правой руки переводит ироническую цитатность в ряд прямой коммуникации: «Я говорю». Напрашивается аналогия с «самообоживанием» в автопортрете Хлебникова [Лощилов 1998]. Значимость жеста руки в портретах позднего Малевича – важная риторическая составляющая изображения. На фоне метатекстуальной игры он означает и «артефактную» природу произведения, и его возведение в ранг дела как ритуала. Неслучайно этот жест иногда относят к иконографии Спасителя. В свете значимости руки как метонимии человека творческого следует также принять во внимание и лютеранскую составляющую «Автопортрета» Малевича: портрет сравнивался с «Автопортретом» Дюрера [илл. 55], а также близкого к кругу розенкрейцеров английского алхимика начала XVII века Роберта Фладда [Мельников 2007] [илл. 56].

54. С. Ботичелли. Портрет мужчины с медалью Козимо Медичи Старшего (Автопортрет?). 1474
«Лицовость» автопортрета как отрицание значимости видимого соответствует понятиям безликости и безо́бразности, которые занимают в теории Малевича важнейшее место. В живописи позднего периода концепт безликости нашел выражение в серии портретов с пустыми лицами 1928–1932 годов. «Автопортрет», очевидно, следует считать следующей ступенью развития этого концепта, когда лик автора возникает как ложная идентификация, видимость, как своего рода визуальная ризома, в то время как существенно то невидимое, что стоит за ликом. Тем самым, произведение несет в себе главные признаки семиотики жанра в целом (об идеальном через индивидуальное в портрете см.: [Лотман 2002: 349–375]).
Условность зримого акцентирована и подписью художника в виде иконического знака – черного квадрата в левом нижнем углу полотна. Как известно, в поздний период своего творчества Малевич имел обыкновение удостоверять свое авторство таким своего рода индивидуальным символом копирайта: существует около шести полотен, «подписанных» так. Идущий из времени Возрождения и барокко принцип сигнатуры в составе изображения в данном случае столь же полисемантичен, как и сам изобразительный рассказ: конечная идентификация в форме автоцитаты запускает механизм трансформаций смыслов и высвобождения беспредметности сообщения из предметной формы. Перед нами, таким образом, автопортрет с анафорически усиленной двойной идентификацией.

55. А. Дюрер. Автопортрет. 1500.

56. Портрет Роберта Фладда. Гравюра 17 века.
Зрителю предложено моделировать рассказ от лица автора о месте выдающейся личности в истории искусства, однако этот рассказ подвергается постоянному ироническому остранению, в результате которого позиция зрителя вытесняет позицию нарратора. На месте зримого – эго-текст автора как риторический поступок и имплицированное слово в форме взаимосоотнесенностей лица – руки – подписи. Выстраивается следующая последовательность идентификаций: портретное сходство с автором индексирует я-тело, затем исторический костюм приводит в движение идентификацию на аксиологической оси по признаку «ренессансная личность»; карнавальность (ярмарочная фотография в отверстии картонной декорации-манекена) оспаривает первичную идентификацию; жест руки приводит в движение механизм фатической функции, отсылая зрителя к статьям и манифестам автора (имплицированный вербальный комментарий) и направляет его взгляд к супрематическому компоненту костюма; последний, в свою очередь, оспаривает идентификацию исторической традиции, образуя значимый зазор между традицией и авангардным прорывом, чем акцентируется его значимость; заключительный этап – сигнатура в виде черного квадрата переводит все изображение в целом в метанарративную конструкцию. Наконец, двойное название – «Художник. Автопортрет» – читается в русле колебательного движения нарратива от рассказчика к читателю/зрителю и обратно (как палиндром), чему вторит каскадно-ступенчатый процесс идентификаций с последовательной отменой каждого предыдущего этапа.
Теперь перейдем к стихотворению. Известно, что к слову Малевич относился как к своего рода изображению. «Мы, – пишет Казимир Малевич в письме к М. Матюшину в 1916 году, – вырываем букву из строки, из одного направления, и даем ей возможность свободного движения. (Строки нужны миру чиновников и домашней переписки.) Следовательно, мы приходим к 3-му положению, т. е. распределению буквенных звуковых масс в пространстве подобно живописному супрематизму».
Известны и собственно художественные литературные произведения мастера. Тексты Малевича опубликованы и изучены, однако его поэзия до последнего времени редко становилась предметом научного обсуждения. Между тем, поэтическое творчество художника представляет большой интерес для судеб искусства. Например, созданные Малевичем в 1914 году стихотворения в виде рамок со словами – «мусорные бумажки» – являются прямым предвосхищением альбомов Ильи Кабакова и московского концептуализма 70-х годов. Поэзия Малевича, кроме того, может прочитываться как параллельный текст, служащий дешифровке проекта Малевича в живописи (в отличие от его сравнительно хорошо изученных теоретических статей – на имплицитном уровне, т. е. на уровне принципов поэтики), в частности, применительно к позднему, фигуративному периоду в творчестве мастера, который все еще остается открытым для интерпретаций. В период «авангарда на излете» рассказ о живописи (= опыте авангарда) в поэзии перекидывает объяснительный мост к вербальному внутреннему компоненту самого изображения.
В сравнении с картиной в стихотворении «Художник», нарративная панорама разворачивается в направлении обратного развертывания. Стихотворение написано свободным стихом с выделением строк графикой и с трехчастной (сонетной) кольцевой структурой (тема «художник и мир» прерывается темой «художник в истории», а затем снова возвращается), и общей ритмической организацией мотивного ряда. Частотно выделены слова мир (вещей, бесконечный, скрытый, меняющийся, на грани) – 11 раз, художник (в синонимическом ряду – открыватель, индивидуальность, протестантский, счастливцы) – 12 раз, и относящиеся к семантике зрения лексемы (созерцать, смотреть, глазами, видеть / не видеть и др.) – 18 раз. Среди других лексем-концептов значимы тайна, завеса, грань, а также семантическое поле речи (говорить, рассказывать, слово). В организации риторической структуры выделяются параллелизмы и амплификации при почти полном отсутствии тропов. Последнее сближает стихотворение со статьями Малевича на темы теории прибавочного элемента (стихотворение написано в тот период, когда художник работал над данной теорией).
Формально частотный лексический анализ стихотворения приводит к выводу, что квинтэссенция смысла текста может быть выражена палиндромной конструкцией «художник видит мир» как «мир видит художника». При этом акцентировка пограничья, эксплицированного словами завеса, грань, открытие, тайна, запускает механизм инверсирования. Т. е. речь идет о зеркале, в которое смотрится художник, рассказывающий о мире, в то время как последний, в свою очередь, является отражением вглядывающегося в него художника. Авторский поэтический контекст такого рода указанный акцент поддерживает: с одной стороны, вспомним стихотворение Малевича «Мы разграничили, Мы грань Новой Культуры Искусства» (1918), а с другой – последний манифест Малевича – «Супрематическое зеркало» 1923 года (т. е. времени написания рассматриваемого произведения), сводящий мир к нулю. Зеркало выступает знаком центрально-осевой симметрии, а грань – агентом безграничности. Такая инверсивно-центричная схема позволяет рассматривать данное стихотворение как вербальную проекцию живописного эго-текста мастера. Следует, однако, обратить внимание на то, что в противоположность изображению, построенному на основе рассказа о себе и истории с постоянной меной точек зрения и игрой истинных/ложных идентификаций, что вовлекает зрителя в активное конструирование собственной версии повествования, вербальный текст, напротив, ориентирован на зрительный код. Изображение и стихотворение зеркально отражают друг друга, медиально трансформируясь в свою противоположность (изображение риторически репрезентирует слово, в то время как в стихотворении доминирует зрительное начало).
Есть между ними и зона взаимного наложения. Так, авангардный художник, как открыватель нового, назван в стихотворении протестантом, а картина, как уже говорилось, изобилует цитатами из лютеранских визуальных «текстов», отсылая к «Автопортрету» А. Дюрера и портрету Р. Фладда. Неслучайно риторической патетике картины Малевича вторит его стихотворение «Идите по стопам моим / говорит каждый вождь» (1924). Множественности точек зрения нарративного «мэсседжа» картины соответствует открытая риторически-вопросная концовка стихотворения. Наконец, общий пафос текста с его идеей исключительности индивидуального подвига художника соответствует теме картины, которая обращена к идее значимости личности мастера в искусстве Возрождения и кульминировала в подвиге супрематизма как одного из самых радикальных событий в истории искусства.
Смесь пафоса с иронией в «Автопортрете» с его карнавальной идентификацией и внутренней, как бы вывернутой наизнанку позицией рассказчика заставляет вспомнить многочисленные этимологии имени Казимир. В некоторых из них акцентируется акт речи: кажи миру (этимология А. С. Шатских, возводящая польское имя художника к общеславянскому корню каз-, «казать» и «мир» [Малевич 2000а: 21], хотя точнее было бы возводить к польскому kazać ‘проповедовать’). В других во главу угла ставится негативная топика «Черного квадрата» (имею в виду этимологию В. Хлебникова «казни мир», кстати, находящаяся в некотором соответствии с польским kazić ‘портить, повреждать’. Эта хлебниковская этимология в значительной мере легла в основу глубинной семантики стихотворения Д. Хармса «На смерть Казимира Малевича» [Злыднева 2008а: 252–262]). Наша интерпретация нарративной природы картины Малевича позволяет выдвинуть и третью этимологию: «кажи мир» как мир напоказ, «мир кажимостей», т. е. утверждение фикции зримого в противовес достоверности Логоса. Учитывая, что Малевич вслед за высоко ценимым им А. Крученых выдвигает звуковой образ слова на первый план – «слуховой план», а по-польски имя звучит с выделением корня «кажи» – Kazimierz, не исключено, что именно такого рода народная этимология могла лечь в основу имплицитной вербальности «Автопортрета».
Малевичу принадлежит заслуга выведения живописи и изобразительности вообще за грань логоцентризма европейской культуры. Этим он велик. Однако парадоксальным образом именно к Логосу он и апеллирует в своем живописном завещании. Каскадная идентификация, где каждый последующий член отменяет предыдущий, акцент на метанарративе, введение позиции зрителя-читателя – это основы новой, поставангардной фигурации в живописи и знак конца исторического авангарда.