Подопечные Обазин 1897–1900
Много лет спустя я не раз вспоминала тот холодный мартовский день 1897 года в монастырском приюте в Обазине.
Мы, сиротки, сидя кружком, занимались шитьем; тишину мастерской порой нарушала только моя бессмысленная болтовня с соседками. Почувствовав на себе пристальный взгляд сестры Ксавье, я умолкла и, изображая глубокую сосредоточенность, уставилась на свою работу, ожидая от наставницы обычного: «Следите за языком, мадемуазель Шанель». Но вместо этого она двинулась к моему стулу, стоявшему рядом с печью. Складывалось впечатление, что сестра Ксавье плывет; впрочем, так двигались все монахини. Складки ее черной шерстяной юбки источали запах ладана и веков, а накрахмаленный головной убор неестественно вздымался к небу, будто сестру могли вознести в любой момент. Я молилась, чтобы это произошло, представляя, как поток света, пробивающийся сквозь скат крыши, поднимает ее к облакам в сияющем луче святого спасения.
Но такие чудеса случались только на картинах с изображением ангелов и святых. Монахиня остановилась за моей спиной, темная, нависшая, будто грозовая туча над пологими лесами Центрального массива. Она откашлялась и тоном императора Священной Римской империи мрачно произнесла:
– Антуанетта Шанель, ты слишком много болтаешь. Твое шитье выглядит неаккуратно. Ты постоянно грезишь наяву. Если ты не образумишься, то, боюсь, повторишь судьбу своей матери.
Мне показалось, что мой желудок скрутило в узел. Мне пришлось прикусить губу, чтобы удержаться от возражений. Я бросила взгляд на свою сестру Габриэль, сидевшую в другом конце комнаты со старшими девочками, и закатила глаза.
– Не слушай монахинь, Нинетт, – сказала она, как только нас отпустили во двор на перемену.
Мы сидели на скамейке, такие же замерзшие, как окружающие нас голые деревья. И почему листья опадают в то время, когда они нужны больше всего? Рядом наша старшая сестра Джулия-Берта, выуживая хлебные крошки из карманов, кормила стаю ворон. Птицы сражались за добычу и пронзительно кричали.
Пытаясь согреть ладони, я сунула их в рукава.
– И вовсе я не собираюсь быть такой, как наша мать. Я не собираюсь быть такой, какой должна стать по утверждению монашек. Я даже не собираюсь быть такой, какой, по их мнению, я никогда не буду.
Мы грустно рассмеялись. Как временные хранители наших душ, наставницы постоянно думали о том дне, когда нам придется покинуть приют и жить самостоятельно. Что нас ждет? Сможем ли мы приспособиться в большом сложном мире?
Два года пребывания в монастыре научили нас не обращать внимания на их реплики, звучащие постоянно: во время репетиций хора, уроков чистописания или пока мы декламировали французских королей.
«Ундина, с твоим почерком тебе никогда не стать женой торговца».
«Пьеретта, с такими неуклюжими руками ты никогда не сможешь заниматься хозяйством».
«Элен, с таким слабым желудком тебе никогда не стать женой мясника».
«Габриэль, ты должна надеяться, что заработаешь на приличную жизнь, став швеей».
«Джулия-Берта, ты должна молиться о призвании. Девушкам с такой фигурой, как у тебя, лучше оставаться в монастыре».
Мне же было предсказано, что станет большим везением, если я смогу убедить какого-нибудь пахаря жениться на мне.
Я вынула ладони из рукавов, подышала на них и заявила:
– И уж точно я не собираюсь выходить замуж за пахаря!
– А я не собираюсь быть швеей, – заверила Габриэль. – Ненавижу шить!
– Кем же ты тогда будешь? – Джулия-Берта вопросительно смотрела на нас широко раскрытыми глазами.
Люди считали ее недалекой, называли тронутой. Для нее мир был прост, как черное и белое, как туники и вуали послушниц, и раз уж наставницы что-то говорят, значит, так тому и быть.
– Кем-то лучше… меня точно ждет нечто лучшее! – ответила я.
– Что значит лучше? – не поняла она.
– Это… – начала Габриель, но не смогла объяснить.
Она не больше моего сознавала, что такое Кем-то Лучше, но я была уверена, что она чувствует тот же самый внутренний зуд. Беспокойный характер был у нас в крови.
От нас требовали довольствоваться своим положением, поскольку это богоугодно. Но нам не хотелось с этим соглашаться. Мы вышли из длинной вереницы лоточников и мечтателей, путешествующих по извилистым дорогам, уверенных, что впереди их ждет Нечто Лучшее.
До того, как нас пристроили в приют, мы практически голодали, ходили в грязных лохмотьях, не говорили по-французски, только на патуа[3]. Мы едва умели читать и писать, потому что долго не посещали школу. Монахини утверждали, что мы были почти дикарками.
Наша мать Жанна работала очень много, чтобы прокормить нас и обеспечить крышей над головой. Она вроде бы была рядом и вместе с тем отсутствовала. Ее взгляд с каждым годом становился все отстраненнее, и порой возникало ощущение, что она смотрит сквозь нас, а ее глаза постоянно ищут Альбера и только Альбера – нашего отца. А он обычно был в разъездах, продавая старые корсеты, ремни или носки. Он не мог долго оставаться на одном месте и, вопреки обещаниям, подолгу не возвращался домой. Тогда наша мать, как влюбленная дурочка, мчалась за ним, волоча нас за собой по проселочным дорогам, невзирая на время года.
Они оставались вместе ровно до тех пор, пока наша мать не беременела снова. Потом Альбер исчезал на несколько месяцев, не оставив денег, предоставив нам самим о себе заботиться. Мама была прачкой, горничной, бралась за любую работу, пока не умерла в тридцать один год от чахотки и переутомления, с разбитым сердцем.
Когда это случилось, никто из родственников не пожелал нас видеть, особенно наш отец. Это не стало сюрпризом. Как он мог путешествовать с места на место – и из постели в постель – с такой обузой? Но разве отцы не должны заботиться о своих детях?
Нас было пятеро: три девочки и два мальчика. Старшая – Джулия-Берта, потом Габриэль, Альфонс, я и, наконец, Люсьен. Альфонсу было всего десять, а Люсьену шесть, от горшка два вершка, когда отец объявил их «детьми богадельни». Он, не раздумывая, отдал мальчиков в крестьянскую семью, как бесплатную рабочую силу, а нас – в монастырский приют. За три года, проведенных там, мы ничего не слышали о наших братьях.
А отец продолжал жить свободно, думая только о себе.
– Я вернусь, – пообещал он с блестящей улыбкой коммивояжера, поглаживая гордую головку Габриэль, простился с нами на пороге монастыря и исчез за горизонтом в своей двуколке.
Джулия-Берта, не любившая перемен, не понимавшая, куда подевалась наша мать, была безутешна.
Габриэль, напротив, была в ярости и не могла плакать.
– Как он мог бросить меня?! – твердила она без умолку снова и снова. – Я же его любимица! – Потом: – Мы могли бы сами о себе позаботиться. Мы делали это много лет. Мы не нуждаемся в том, чтобы эти старухи указывали нам, как поступать! – Потом: – Мы не сироты. Он сказал, что вернется. Значит, так и будет.
А я, тогда восьмилетняя, рыдала, совершенно сбитая с толку, не привыкшая к странным манерам монахинь, шуршанию юбок, стуку четок, облакам ладана, проплывающим мимо, словно призраки, резкому запаху щелока.
Монастырь был полной противоположностью всего, к чему мы привыкли. Нам говорили, когда просыпаться, когда есть, когда молиться. День был разбит на определенные части: учеба, катехизисы, шитье, домашнее хозяйство. В назначенное время раздавался колокольный звон, призывающий к молитвам и божественному служению.
– Праздные руки, – без конца повторяли монахини, – это мастерская дьявола.
Даже дни недели, недели месяца, месяцы года были разделены на то, что они называли сезонами литургии. Вместо 15 января, 21 марта или 19 декабря – двенадцатое воскресенье обыкновенного времени, или понедельник первой недели Великого поста, или среда третьей недели Адвента. Загробная жизнь делилась на Ад, Чистилище и Рай. Еще были двенадцать Плодов Святого Духа, Десять Заповедей, Семь Смертных Грехов, Шесть Святых Дней Долга, Четыре Главные Добродетели.
Мы узнали о Сент-Этьене, горбатом монахе, саркофаг которого, с его изваянием на крышке, находился в храме; силуэты других священнослужителей были высечены на каменном балдахине. Во время мессы я разглядывала узлы и петли на витражах, скрещивающиеся круги, которые выглядели так, словно мы – Шанель – я и мои сестры навсегда переплелись. Мне совсем не хотелось думать об этой могиле, о старых костях, о пустой холщовой робе.
– Здесь водятся привидения! – шептала мне Джулия-Берта, широко распахнув глаза от ужаса.
Казалось, они повсюду: святые духи, нечестивые духи, призраки всех видов, заставляющие плясать пламя поминальных свечей. Они прятались в темных углах и узких проходах, отбрасывали причудливые тени на стены. Призраки нашей матери, нашего отца, нашего прошлого.
Иногда по утрам, когда мы мылись, или по вечерам, когда должны были беззвучно молиться, Джулия-Берта хватала мою ладонь и крепко сжимала.
– По ночам мне снятся страшные вещи, – лепетала она и замолкала.
Мне было интересно, видит ли она то же, что и я: нашу мать в постели без покрывала, с окровавленным носовым платком в руке. Сквозь тонкие стены в комнату просачивается пронизывающий холод. Ее глаза закрыты, худое тело неподвижно.
Я научилась просыпаться посреди этого сна, стряхивала с себя видение и забиралась в постель к Габриэль. Она позволяла мне свернуться рядом калачиком, как в раннем детстве: до Обазина у нас никогда не было отдельных кроватей. Тепло ее тела, ритм ее дыхания действовали успокаивающе, и я снова засыпала.
А потом, ранним-ранним утром, еще до восхода солнца, звонили колокола. Сестра Ксавье врывалась в спальню, хлопала в ладоши и объявляла своим слишком громким голосом:
– Проснись, слава моя! Проснитесь, лира и арфа!
Сразу после этого начинались упреки и нравоучения.
– Быстрее, Ундина, быстрее. Судный день успеет начаться и закончиться прежде, чем ты наденешь свои ботинки!
– Элен, тебе есть о чем помолиться. Поторопись!
– Антуанетта, перестань болтать с Пьереттой и перестели свою постель. Ты сделала это неаккуратно!
Монахини Обазина приютили нас. Кормили. Пытались спасти наши души. Воспитывали. Упорядочили наши дни, наполнили их рутиной. Но они не смогли заполнить пустоту в наших сердцах.
Дни, недели, месяцы, привычный ход событий, непривычный ход событий. Рутина, поначалу успокаивающая, стала утомлять. И вот однажды, после трех лет нашего пребывания в монастыре Конгрегации Сен-Кер-де-Мари, безветренным июльским утром 1898 года все изменилось.
Мы с сестрами мыли посуду на кухне.
– Мадмуазель, – обратилась к нам вошедшая мать-настоятельница. – Вас ждут в комнате для свиданий.
Нас?! Нас никогда туда не приглашали! Если только…
Мое сердце едва не выскочило из груди.
Неужели наш отец наконец пришел за нами?!
Мы последовали за матушкой по коридору. Я пыталась расправить юбку, провела руками по волосам, надеясь, что мои косы выглядят аккуратно. Заметила, что Габриэль тоже пригладила свою прическу. Она единственная твердила все эти годы, что отец вернется, убеждала себя и нас, что он отправился в Америку сколотить состояние, и приедет, как только сделает это.
Когда мы наконец добрались до нужной двери и монахиня открыла ее, я затаила дыхание, ожидая увидеть мужчину с очаровательной улыбкой и грубыми руками – нашего отца. Однако в комнате стояла пожилая женщина с добрым лицом, в резных деревянных башмаках, называемых сабо, грубой серой юбке, пеньковых чулках и выцветшей ситцевой блузке.
Бабушка?!
– Бабуля! – воскликнула Джулия-Берта, бросаясь обнимать старушку, словно та могла исчезнуть так же неожиданно, как появилась.
Я уставилась на нее, удивленная гораздо больше, чем если бы это был Альбер, которого мы так ждали.
– Вы не представляете себе, как спокойны мы были все эти годы, – сказала бабушка настоятельнице, – путешествуя с места на место и зная, что наши дорогие внучки находятся на вашем попечении. Эта нелегкая кочевая жизнь не для детей. Однако теперь мы слишком стары для путешествий. – Она прищелкнула языком, как многие взрослые, и предложила нам лимонные пастилки.
Они с дедушкой приобрели небольшой домик в Клермон-Ферране, деревне, расположенной в нескольких минутах езды на поезде, и нас пригласили туда на пару дней, чтобы отпраздновать le quatorze juillet[4], День взятия Бастилии. Наконец-то мы выбрались из монастыря, пусть и ненадолго.
Я не сказала вслух, о чем думаю, но уверена: у Габриэль были те же мысли. Может быть, наш отец сейчас в Клермон-Ферране. Может быть, он ждет нас там.
Где-то глубоко внутри меня, в пустоте, где должна была жить любовь, я не могла подавить эту слабую, возможно, глупую надежду, что Альбер вернется. Не прежний Альбер, а новый – тот, которому мы нужны.
Мы последовали за бабушкой к вокзалу. В Клермон-Ферране она привела нас к покосившемуся домику с единственной комнатой, загроможденной множеством предметов, предназначенных для продажи на местном рынке: спущенными велосипедными шинами, заплесневелыми коробками, покрытыми толстым слоем копоти кастрюлями. Вдоль стен возле плиты выстроились ряды щербатых разномастных тарелок. Коллекция старых, сломанных зубных протезов, пожелтевших и выглядевших просто ужасно, вызывала омерзение. Похоже, здесь ничего и никогда не выбрасывали.
Очутившись посреди столь чудовищного беспорядка, мы не сразу заметили девушку, стоявшую возле кровати. На вид ей было лет пятнадцать, как Габриэль, или, может быть, шестнадцать, как Джулии-Берте; она направилась к нам, явно волнуясь и улыбаясь с такой теплотой, от которой мы давно отвыкли.
– Габриэль? – неуверенно спросила она. – Джулия-Берта? Вы меня помните? Маленькая Нинетт! Как же это было давно! Кажется, мы познакомились на одной из ярмарок. До чего же вы трое хорошенькие!
У девушки была такая же длинная шея, как у Габриэль, такие же тонкие черты лица и худощавая, немного нескладная фигура. На ней тоже была монастырская одежда, но в отличие от нас она носила ее непринужденно и с достоинством, так что это совсем не походило на обычную форму. Краем глаза я заметила, как Габриэль заправляет распущенные волосы за уши. Должно быть, мы смотрели на девушку слишком уж тупо, потому что наконец заговорила бабушка:
– Вот глупые девчонки! Это Эдриенн – моя младшая дочь. Сестра вашего отца. Одним словом – ваша тетя.
– Тетя? – удивилась Джулия-Берта. – Она слишком молода, чтобы быть нашей тетей.
– Тем не менее она ваша тетя, уж я-то точно знаю, – ответила бабуля. – Я произвела на свет девятнадцать душ. Ваш отец был первым, когда мне было шестнадцать, Эдриенн – последней.
– Грандиозный финал, – прокомментировала девушка, делая очаровательный маленький книксен.
Тетя, одетая, как девочка из монастыря? Тетя почти одного с нами возраста? Мы с Габриэль словно проглотили языки.
– Ах, девочки, не смотрите так растерянно, – снова заговорила бабушка. – Эдриенн ничем от вас не отличается. Она учится в монастырской школе в Мулене. Прежде чем le quatorze juillet закончится, вы станете друг другу как сестры.
Может быть, сказалось смущение от пребывания в новом месте, но на какой-то удивительный момент мне почудилось, что у Эдриенн есть аура, облако золотого света, исходящего от нее, как у святой на молитвенной карточке. Я взглянула на Габриэль. Обычно она насторожено относилась к новым знакомым, но сейчас расслабленно улыбалась. Эдриенн выглядела как девушка, которая многому могла нас научить, и я поймала себя на том, что тоже сияю.
Благословенная Эдриенн. Ее первым святым поступком было вытащить нас из этого темного, тесного дома.
– Потому что, маман, я их тетя, – авторитетно заявила она, убеждая бабушку, что может отвезти нас в город на прогулку. – А это значит, что я могу сопровождать девочек.
Прежде чем бабуля успела возразить, мы последовали за Эдриенн к двери. Джулия-Берта решила остаться и помочь рассортировать пуговицы.
На мощеных улицах города царило оживление. На зданиях и фонарных столбах радостно развевались трехцветные флаги. Повсюду экипажи, цокот копыт, крики разносчиков, выгружающих мешки с мукой и банки с горчицей. Уличные кафе заполнили старики, желающие выпить чашечку кофе, на рынках суетились женщины, придирчиво осматривая яблоки и дыни. Ближе к центральной площади стучали молотками рабочие, собиравшие сцены и киоски для завтрашнего праздника.
Эдриенн уверенно шла впереди, а я пыталась подражать ей: мои плечи были расправлены, на губах сияла легкая улыбка. В отражении ее света тьма внутри меня исчезла. Я чувствовала, как ветер рассеивает мрак.
При виде движущегося по улице вагона я остолбенела. Спереди не было ни лошадей, ни паровоза. Однако пассажиры как ни в чем не бывало спокойно сидели внутри. Из крыши торчали провода, напоминавшие усики жука, они цеплялись за другие провода, которые шли параллельно улице. Сверху на гигантской табличке причудливыми буквами было написано La Bergère Liqueur[5].
Заметив мое удивление, Эдриенн сказала:
– Le tram électrique[6]. Разве в Обазине нет трамвая? У нас в Мулене – есть.
Габриэль фыркнула.
– Единственное, что есть в Обазине, это козы. Ах, да, еще коровы. Много-много коров. А также свиноводы и пахари, за одного из которых, по мнению монахинь, Нинетт следует выйти замуж. И ничего électrique.
– Обазин такой скучный. Что еще интересного у вас в Мулене? – спросила я.
Глаза Эдриенн загорелись.
– Кавалерия! Офицеры, живущие в казармах. Они просто красавцы! Носят высокие кожаные сапоги, куртки с медными пуговицами и ярко-алые бриджи. Вы бы их видели! Они расхаживают, как петухи в курятнике. Мы восхищаемся ими, но только издалека.
– Жаль, что нам нечем восхищаться, – вздохнула я.
– Но вы можете это сделать, – сказала Эдриенн с озорной улыбкой, – пойдемте, я вам покажу.
Дойдя до конца дороги, девушка обернулась и указала нам на высокую кирпичную арку, которая вела в парк.
– Вуаля! – сказала она.
Мы встали у входа и залюбовались. На изумрудно-зеленых лужайках извивались дорожки из гравия. Пруд мерцал и переливался, а два белых лебедя лениво скользили возле берега. Легкий ветерок шелестел в кронах деревьев. Городская суета исчезла. Мужчины и женщины в шикарных нарядах вальяжно прогуливались по тропинкам. Они выглядели совершенно беззаботными, в отличие от людей, находящихся за пределами парка. Казалось, что единственное их стремление – это оставаться красивыми.
– Они все такие… такие… – Я никак не могла подобрать правильное слово.
Грандиозные? Декоративные? Экзотические?
– Богатые, – подсказала Эдриенн благоговейным тоном. – Они все такие богатые! – Она сделала шаг вперед, но мы с Габриэль заколебались. – Да ладно, – рассмеялась она, – они не кусаются. На самом деле они нас вообще не заметят.
Девушка провела нас к скамейке возле пруда. Устроившись на ней, мы принялись наблюдать за людьми, казавшимися еще более удивительными, чем Le tram électrique. Джентльмены, несмотря на жару, были в изысканных костюмах, в прекрасных пиджаках, брюках со стрелками и в довершение – в соломенных канотье. Держа в руках трости, хотя и не хромали, они с благородной уверенностью шагали рядом с изящными женщинами, закутанными в бесчисленные слои замысловатых белых кружев. Кружевные оборки. Кружевные воротнички. Юбки с кружевной отделкой. Кружевные зонтики. Они носили широкополые шляпы, такие же большие, как головные уборы монахинь, но украшенные огромными цветами, длинными перьями и порой разноцветными фигурками птиц. Несмотря на вес одеяния, они каким-то образом умудрялись ходить грациозно, двигаясь по дорожкам осторожно и плавно.
– Кто они? – спросила я.
– Èlégantes![7] – Голос Эдриенн звучал торжественно. – И их gentilhommes![8]
Я не могла оторваться и просто таращилась на них, но это не стало проблемой. Они даже не взглянули в нашу сторону. Тетя была права. В наших монастырских одеждах мы были заметны им не более, чем трава на лужайке.
Только Габриэль не выказывала ни удивления, ни восхищения. У нее было такое выражение лица, что у меня свело живот.
– Гигантские сливочные слойки, – проговорила Габриэль, качая головой. – Огромные комки пыли.
– Что? – Эдриенн завертела головой. – Где?
Габриэль кивнула в сторону дам на дорожке.
– Вулканическое извержения кружев. Пюи-де-Дом ничто по сравнению с ними, – сказала она, имея в виду потухший вулкан, самый большой из окружавших Обазин.
– Габриэль! – воскликнула Эдриенн, широко раскрыв глаза, одновременно поднося руку ко рту. Я замерла, испугавшись, что сестра обидела ее и тетя больше не захочет иметь с нами ничего общего. Но оказалось, что она с трудом пытается сдержать смех. – Когда-нибудь археологи откопают их для потомков, как тела в Помпеях, – произнесла она притворно серьезным тоном. – Только они будут похоронены не под пеплом, а под кружевом.
И мы рассмеялись. Было приятно подшучивать над теми, кто высокомерно не замечал нашего существования.
– У них, должно быть, болит голова, когда они нагромождают на себя эти конструкции, – сказала Габриэль.
– Наверное, это замечательно, когда тебе нечего делать, кроме как разряженной, словно леденец, гулять по парку без всяких забот, – мечтательно пробормотала я.
– Но, Нинетт, – лицо Эдриенн стало серьезным, – это больше, чем просто прогулки по парку. Неужели ты не понимаешь? Посмотрите, как они двигаются и как смотрят друг на друга. Видите, как мужчины выпячивают грудь, а дамы хлопают ресницами, глядя на них, но при этом не упускают из виду других женщин? Это наука, настоящая наука любви и ухаживания. – Она вздохнула и приложила руку к груди. – Разве это не чудесно?
Я присмотрелась, пытаясь разглядеть трепещущие ресницы и сверкающие взоры. Но мне это не удалось, потому что Эдриенн встала со скамейки и разгладила юбку.
– А теперь, chéries[9], нам пора возвращаться, пока маман не прислала за нами жандармов.
Она взяла нас под руки, но вместо того чтобы проводить прямо к кирпичной арке и обратно в город, направилась к дорожке из гравия, затянув нас в променад, где мы, подавляя смех, картинно покачивались, словно когда-нибудь тоже будем заниматься наукой любви и ухаживания.
На следующий день, четырнадцатого июля, мы бродили по ярмарке, мимо киосков с колесами фортуны и другими азартными играми, мимо сцены, на которой играл оркестр; вокруг нас, насколько хватало глаз, двигались люди: молодые и старые. Здесь были все, кроме элегантных дам.
– Где же они? – спросила я Эдриенн. После вчерашней прогулки по парку мне больше всего хотелось увидеть именно elégantes. Не кукольные спектакли и не мужчин, карабкающихся по смазанным жиром шестам за окороком, который был закреплен наверху.
– В своих замках, – ответила она. – Такие не ходят на деревенские ярмарки. Ярмарки – для простых людей.
Конечно! Именно поэтому мы были здесь.
Но, оказалось, ненадолго. У Эдриенн, как обычно, появилась идея:
– Есть и другие места, где можно увидеть élégantes…
Мы зашли в табачную лавку и на деньги, полученные от деда, чтобы мы могли побаловать себя на ярмарке, купили журналы с красивыми дамами на обложках, по пятьдесят сантимов за каждый: Femina, La Vie Heureuse, L’Illustration. Дома мы поднялись на чердак, где с потолка свисали сухие травы, и устроились среди мешков с зерном. В открытое окно доносились приглушенные звуки оркестров.
– Смотрите, – сказала Эдриенн, протягивая журналы. – Вот наши élégantes. И это все, что нам нужно.
– Нужно? – переспросила Габриэль. – Для чего?
Эдриенн улыбнулась.
– Чтобы стать такими же, конечно.
Мы с Габриэль переглянулись. Мы могли стать élégantes?
Эдриенн полистала страницы – и вот они, мужчины и женщины из высшего общества, того, что она называла la haute[10]. Шестая страница – élégantes прогуливаются под руку по Булонскому лесу, красавцы gentilhommes с щегольскими усами не отрывают от них взгляда. Восьмая страница – élégantes в эксклюзивных салонах Парижа на благотворительных мероприятиях покупают цветы у маленьких девочек в пышных платьях. Страницы одиннадцать, четырнадцать и пятнадцать – élégantes позируют в самых последних модных нарядах знаменитых кутюрье.
– Посмотрите на эту прическу! – Эдриенн ткнула пальцем в глянцевую фотографию. – Разве это не изысканно? Чуть позже мы достанем мои булавки и попробуем ее скопировать. О, и эта шляпа совершенно очаровательна! Моя сестра Джулия покупает простые соломенные канотье и сама их переделывает. Думаю, что она смогла бы сделать и такую.
У нас была пара ножниц. Мы с Эдриенн вырезали свадебные фото, на которых невесты сжимали в руках букеты. Рядом с ними стояли женихи, высокие и гордые, в военной форме, украшенной лентами, кушаками, орденами в виде звезды или солнца. Интересно, каково это – быть столь благословенным и носить на груди эту золотую россыпь.
Джулия-Берта выбрала изображение королевы Румынии с детьми – ухоженными маленькими девочками с мягкими волосами и пресыщенным взглядом избалованных созданий. Чистые, пушистые маленькие собачки сидели у их ног и на коленях, совсем не те дикие и грязные животные, к которым мы привыкли.
В журналах печатали статьи о пьесах, фото актрис в картинных позах, с большими, полными эмоций глазами. Габриэль стала их собирать.
Словно пелена упала с наших глаз. Благодаря журналам élégantes стали не просто мимолетным видением в парке, смутным пятном белых кружев и зонтиков, которые нам больше никогда не встретить. Теперь мы могли выреза́ть, изучать и хранить их изображения, складывая эти сокровища в пустые банки из-под пастилок «Виши», которые Эдриен стащила из бабушкиных запасов и припрятала для нас, потому что «так легче пронести картинки в монастырь». Вместо того чтобы подражать жизни святых, как того требовали монахини, теперь мы могли копировать жизнь élégantes, их стиль, их поведение, их экспрессию – словом, все, что нам было о них известно.
Когда наступил вечер, я попыталась выбросить из головы мысль о том, что уже на следующий день мы уедем. Но неотвратимость этого медленно давила, нависая надо мной, как туча мошек. Только Джулия-Берта, которая беспокоилась, что никто не кормит птиц в монастырском дворе, была рада возвращению.
Эдриенн пообещала, что мы еще увидимся. «На каждый праздник, – заверила она, – вы будете приезжать в Клермон-Ферран!» – и вручила нам сувенир на память. В тот вечер она впервые рассказала о месье Декурселе.
– А кто это? – прошептала я, поскольку Джулия-Берта уже крепко спала.
– Он писатель, – ответила наша тетя. – Вы наверняка слышали о нем.
– Мы слышали только о святых и апостолах, – посетовала Габриэль. – Монахини об этом позаботились.
– Но вы должны знать о месье Декурселе, – сказала Эдриенн. – Жизнь без него была бы слишком печальна. Он написал «Комнату любви», и «Женщину, которая глотает слезы», и «Брюнетку и блондинку», и много всего другого. Он пишет о монастырских девушках, которые выходят замуж за графов, о крестьянках, которые становятся королевами парижского общества. Бедные становятся богатыми, богатые становятся бедными. И вуаля! Невозможно оторваться!
Мы вздрогнули от грохнувшего вдалеке салюта. Начался feu d’artifice[11]. Из крошечного окошка мансарды мы видели, как в небе сверкают разноцветные брызги, напоминающие электрический снегопад.
– Монастырские девушки, которые выходят замуж за графов? – прошептала я, завороженно глядя на вспышки света.
– Это всего-навсего сказка, Нинетт, – усмехнулась Габриэль.
Я ничего не ответила сестре, повернулась к Эдриенн и взяла ее за руку.
– Где мы можем найти эти истории?
Она полезла в сумку и вытащила маленькую книжечку.
– В журналах их печатают частями. Они называются mélos. Мелодрамы. Моя сестра Джулия каждую неделю покупает очередной номер, потом сшивает все вместе и отдает мне. Это «Танцовщица из монастыря». Богатая, красивая балерина Парижской оперы бросает все, чтобы уйти в монастырь и стать монахиней…
Габриэль фыркнула:
– Никто и никогда не сделает подобной глупости…
– Тс-ссс! – зашептала я, досадуя, что рассказ прерван.
– …она завещает все свое состояние красивой крестьянке. Эта простая девушка переезжает в Париж и начинает жить жизнью балерины, полной богатства и великолепных кавалеров, драгоценностей и шелковых платьев. Она становится знаменитой и спасает свою семью от нищеты. Там есть страсть и романтика, там носят изысканные наряды и живут в роскошных виллах.
Я затаила дыхание. За окном снова появились серебряные и золотые сполохи.
– Неужели монахини в Мулене разрешают тебе читать это? – удивилась я.
Эдриенн покачала головой:
– У меня есть тайники. Где-нибудь обязательно отыщется незакрепленная половица. И теперь тебе тоже придется найти такую. Вот. Забирай с собой в Обазин, Нинетт. Эту я уже прочитала. И, может быть, втроем – ты, я и месье Декурсель – мы сумеем убедить Габриэль, что девушка из монастыря действительно может выйти замуж за графа.
В ту ночь мне не снились призраки, не снилась мать, холодная и серая, неподвижно лежащая на койке. Вместо этого я вернулась в парк, завернутая в слои тончайших кружев, словно была чем-то хрупким, о чем нужно заботиться, чем можно дорожить. Шляпа, украшенная миниатюрным садом, царственно сидела на моей голове, пока я, легко покачиваясь, плавно двигалась по тропинке, а рядом со мной красавец gentilhommes нес бесполезную трость. Я была élégante. Я была героиней мелодрамы Декурселя. Я была Кем-то Лучше.
Гораздо легче мечтать, когда точно знаешь, о чем.
– Что ты творишь? – взвизгнула я и уставилась на Габриэль, сидящую в тусклом свете монастырского чердака среди кружащихся в воздухе пылинок. Следуя совету Эдриенн, мы спрятали «Танцовщицу из монастыря» под половицей, а сейчас моя сестра распарывала швы и выдирала из книги страницы.
– Ш-ш-ш, – сказала она, оглядываясь на дверь. – Тебя слышит весь Центральный массив. Расслабься. Я делаю это для нас. Так мы сможем читать, когда захотим. – Она взяла несколько листочков, сложила и сунула в карман. – Мы возьмем их с собой в класс, во двор, да куда угодно. Мы спрячем их в наших тетрадях для сочинений и в учебниках истории. Наставницы ничего не заподозрят. Понимаешь, Нинетт? – Озорная улыбка заиграла на ее губах. – Мы будем читать целый день!
Мы. Потребовалось не так много времени, чтобы Габриэль поддалась чарам Декурселя.
Итак, мы переложили страницы повествований о преданности и преследованиях в Житии Святых более земными страстями от Декурселя. Он был нашим учителем, а не святые и не монахини. Мы читали на переменах. Мы читали во время отдыха. Мы читали при любом удобном случае, и нас даже ставили в пример другим девочкам.
– Маргарита, перестань пялиться в пространство! – говорила мать-настоятельница. – Посмотри на Габриэль, как сосредоточенно она читает.
Или:
– Пьеретта, проснись! Твоя книга упала тебе на колени! Почему бы тебе не поучиться у Антуанетты?
Мы не рассказали Джулии-Берте о нашей тайне. Она слишком рьяно следовала правилам и, мучимая чувством вины, могла не сдержаться и признаться во всем. Но по ночам, перед сном, я забиралась к ней в постель, и рассказывала истории из жизни монастырской танцовщицы, и молилась, чтобы ей, как и мне, вместо ужасов снились балерины, красивые графы и любовь с первого взгляда.
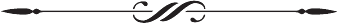
Как и обещала Эдриенн после quatorze juillet, в августе нас пригласили в Клермон-Ферран на День Успения, в ноябре – на День Всех Святых, в декабре – на Рождество и в феврале – на Сретение. Каждый раз мы покупали новые журналы, следя за последней модой. Мы вырезали еще несколько фотографий и привезли в Обазин три мелодрамы: «Комната любви», «Женщина, которая глотает слезы», «Брюнетка и блондинка». По мере того как росла наша тайная библиотека, расширялись наше воображение и наш мир.
Когда в апреле следующего года мы приехали на Пасху, лил дождь, les vaches qui passent[12], как выразился дедушка, не позволяя нам выйти наружу. Он вручил каждой по монетке и отправился в кафе. Бабушка тоже куда-то уехала, и мы остались в доме одни.
– Мы устроим чаепитие, – сообщила Эдриенн. – Все élégantes пьют чай после обеда. Нам нужно попрактиковаться.
Несмотря на ливень, мы выскочили из дома, чтобы купить чай. Оставшиеся деньги Эдриенн и Габриэль потратили на ленты и лимоны, сок которых, как утверждали, выравнивал цвет лица. Джулия-Берта приобрела консервы из сардин, чтобы покормить совершенно диких кошек, которые рыскали вокруг дома. Свою монетку я решила сохранить.
– Но в Обазине нечего купить, – удивилась Габриэль.
– Это не для Обазина, – возразила я. – Это на потом.
Сестра рассмеялась.
– Потом? Это слишком далеко. Я хочу сладенького сейчас, пока мы не вернулись в монастырь, где нам постоянно твердят, что поедание чего-то менее пресного, чем печенье для причастия, – это чревоугодие. К тому же что тебе дадут несколько сантимов?
Я не обратила внимания на ее слова, наслаждаясь солидной тяжестью монеты, словно держала в кармане кусочек своего будущего.
Каждое воскресенье после обеда нас заставляли в сопровождении сестры Ксавье бродить вверх и вниз по холмам Центрального массива «для укрепления здоровья», которое, по словам монахинь, было слабым оттого, что мы с детства жили в бедности. Во время одной из таких зимних прогулок я пыталась представить себе, что сейчас весна, что я нахожусь в Булонском лесу и, подобно élégantes из журналов, неторопливо прогуливаюсь под тенью шелкового зонтика с оборками, как вдруг услышала, что Габриэль говорит Элен:
– Наш отец сейчас в Америке. Он сумел разбогатеть и скоро вернется за нами.
Я чуть не споткнулась о выступающий кусок вулканической породы, но вовремя его заметила и удержалась на ногах. Элен фыркнула:
– Если он сколотил состояние, то почему ты с сестрами здесь?
Габриэль вздернула подбородок.
– Чтобы получить образование. Я написала ему письмо с просьбой привезти мне белое платье из шифона. Он обещал сделать это.
– Ты все врешь! – возмутилась Элен.
– Ты просто завидуешь! – парировала моя сестра.
Элен скрестила руки на груди.
– Ты от нас не отличаешься. Такая же никому не нужная сирота. Перестань воображать, что ты чем-то лучше.
– Да, я лучше! По крайне мере лучше тебя!
– На самом деле ты хуже. Мои родители умерли, но твой-то отец все еще жив. И он не хочет тебя видеть. Вероятно, он этого никогда не хотел.
Я едва сдержалась, чтобы изо всех сил не пнуть Элен. Мне ужасно хотелось толкнуть ее с обрыва и слушать, как она кричит, падая в пропасть.
Но вместо этого я протиснулась между ними и полезла в карман, в котором иногда носила сэкономленные монетки, полученные от дедушки.
– Он вернется за нами! – повторила я. – Между прочим, он посылает нам деньги. Вот, смотри! – Сантимы на моей ладони блеснули на солнце, и я быстро убрала руку обратно.
Лицо Элен сделалось пунцовым.
– Видишь, – усмехнулась Габриэль. – Что я говорила!
– Хм, – только и смогла промычать Элен. Она отошла от нас к Пьеретте, и они резко свернули в другую сторону.
Мы с сестрой шли в неловком молчании, ее слова эхом отдавались у меня в голове. Наш отец вернется? Она написала ему?
Это не могло быть правдой. Это не было правдой! У меня не оставалось никаких сомнений на сей счет. И я почувствовала болезненный укол в сердце. Казалось, что после наших поездок в Клермон-Ферран, долгого общения с Эдриенн и чтения мелодрам Габриэль не так часто думает об Альбере и уже перестала надеяться на его возвращение. Благо Джулия-Берта шла далеко впереди, рядом с сестрой Ксавье, и не могла слышать эту перепалку. Она ведь верит каждому слову!
Я одернула шарф на шее, пытаясь отогнать темные мысли, навязчиво кружащие в голове. Мне снились принцы. Габриэль снился Альбер. Он был ее принцем.
– Может быть, он действительно уехал в Америку, – тихо сказала она наконец. – И уже сколотил состояние. Возможно, он прямо сейчас едет за нами.
Я покачала головой. У меня пересохло во рту и в горле.
– Ты слышала разговоры у бабушки.
Порой, не обращая внимания на наше присутствие, соседи или другие члены семьи называли Альбера le grand séducteur.[13] Кто-то слышал, будто отец в Кемпере продает женскую обувь. Другой говорил, что он в Нанте торгует женским бельем.
– Он не так уж далеко, – пробормотала я, – и все же предпочитает не иметь с нами ничего общего.
Взгляд, который Габриэль бросила на меня тогда, был взглядом взрослого человека, намного старше, чем моя сестра. Взгляд был твердым и непроницаемым, словно панцирь, защищающий ее саднящую душу.
– Тем больше причин представить его тем, кем он не является, – отчеканила Габриэль.
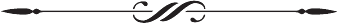
Деревья трещали и кренились, опавшие листья закручивались вверх в безумном вихре, словно пытались вернуться на свое законное место на ветвях. Проникнув в монастырь, сильный порыв выбил щеколду на старых железных воротах, заставив их раскачиваться взад и вперед с громким металлическим лязгом. Я терпеть не могла ветер, который всегда пробирался внутрь, и от его порывов все скрипело и дрожало.
В тот же день я оказалась в лазарете; воскресная прогулка на холоде только ухудшила мое здоровье. Сначала мне было жарко, внутри все горело, а потом так же внезапно стал бить озноб. Я явственно представила, как шепчутся монахини, по обыкновению крестясь, когда речь шла о мертвых: «Болезненная, совсем как ее мать».
Сестра Бернадетта, исполняющая обязанности сиделки, завернула меня в мокрую простыню, чтобы унять жар, растерла мне грудь бальзамом, дала глоток крепкого вина и в качестве дополнительной меры предосторожности окропила мне лоб святой водой. Она уверила, что я буду жить, но лучше перестраховаться, чем потом жалеть.
Габриэль вызвалась дежурить у моей кровати. Благодаря этому она могла избежать катехизисов, рукоделия и читать вволю. Она крепко прижимала к себе Жития Святых, понизив голос настолько, чтобы сестра Бернадетта не услышала вместо испытаний и невзгод святых испытания и невзгоды «Танцовщицы из монастыря» Декурселя.
Выпитое вино и ровный голос Габриэль подействовали успокоительно, и меня стало клонить ко сну. Я не сразу заметила, как мать-настоятельница и сестра Ксавье вошли в комнату. В этот момент Габриэль добралась до той части, где Иветта, крестьянская девушка, которая поменялась местами с балериной, прибывает в Париж.
Габриэль замолчала и быстро захлопнула книгу. Лица монахинь были серьезны. Неужели я все-таки умру? Поэтому они здесь? Аббатиса уставилась на меня, приподняв одну бровь так, что та почти касалась белой полоски, проходившей чуть ниже линии волос.
Моя сестра вскочила. Ее лицо стало таким бесцветным, что я различила полоски голубых вен на ее лбу, напоминавшие завитки плесени на поверхности сыра.
– Что вы делаете?! – воскликнула она. – Это не ваше!
Я приподнялась на локте и увидела в руках настоятельницы свою бело-голубую жестянку, в которую после прогулки положила монеты. Внутри меня все сжалось. А мне-то казалось, что я надежно спрятала ее в темном углу спальни, под кроватью.
Мать-настоятельница принялась цитировать Матфея:
– Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржавчина разъедают, где…
– …воры проникают и крадут! – продолжила Габриэль, перебивая ее. Она бросилась к монахиням, выставив вперед руки и выпятив челюсть. Она больше не была танцовщицей из монастыря, чьему облику мы обе стремились подражать. Она была крестьянкой, выросшей на улицах Оверни. – Это деньги Антуанетты, – сказала она. – Вы не имеете права их брать.
Я вздрогнула, испугавшись за свои монеты и за Габриэль.
– Что с тобой происходит, Габриэль? – спросила сестра Ксавье. – Ты хорошо знаешь этот стих. А значит, вы с Антуанеттой должны понимать, что сокровище если и есть, то только на небесах, а не здесь, среди мирского.
Мне хотелось кричать, но я была слишком одурманена, голова раскалывалась от лихорадки. Мои монеты! Мои драгоценные монеты! Они были для будущего. Чтобы случилось Нечто Лучшее.
Настоятельница открыла жестянку.
– А вот это что такое? – возмутилась она, вытаскивая мои вырезки с élégantes, невестами и женихами, принцами и принцессами. – Вы должны собирать молитвенные карточки с изображениями святых, а не ложных идолов.
Снаружи продолжал завывать ветер, в окнах дребезжали стекла. Сломанные ворота лязгали, как старый, изношенный церковный колокол. Я была словно в тумане: ветер, звуки, презрение на лице настоятельницы – все это эхом отдавалось во мне. Я была слишком слаба, чтобы сопротивляться.
Но Габриэль не сдавалась. Она снова обратилась к монахине и на этот раз заговорила более сдержанно:
– Пожалуйста, матушка. В каждый наш приезд дедушка выдает нам по монете, чтобы мы побаловали себя. Я эгоистично трачу все деньги. Но Антуанетта всегда немного откладывает. Она могла бы покупать конфеты, ленты и безделушки, как я, но она этого не делает. Она экономит, чтобы, когда настанет время покинуть монастырь, у нее были средства, которые помогут ей начать новую жизнь.
Я наблюдала за твердокаменным выражением лица настоятельницы, надеясь, что оно смягчится, но этого не случилось. Она вынула маленькую монетку, подержала ее на ладони, а потом сжала ее старыми скрюченными пальцами.
– Мы должны подавать милостыню бедным и нуждающимся, – сказала она, – следуя примеру нашего Спасителя. Священники собирают пожертвования для католической миссии в Китае, чтобы накормить голодающих детей Шанхая. Эти деньги отправятся туда, и тем самым вы проявите благочестие.
Они развернулись и вышли, нижние юбки под их священными одеяниями шуршали по полу, четки, прикрепленные к поясам, болтались по бокам. Они жестом пригласили Габриэль пойти с ними.
Я беззвучно плакала. Где-то в глубине моего воспаленного мозга мелькнула мысль: по крайней мере монахини не упомянули о том, что мы лгали о нашем отце. Слезы все текли по моим щекам, и скоро моя подушка намокла, а я громко хлюпала носом. Я не была «Женщиной, которая глотает слезы».
Я плакала из-за Габриэль, которая все еще тосковала по Альберу, но скрывала это под личиной гордости и лжи, из-за Джулии-Берты, которая видела призраков в каждом углу, из-за братьев, о которых ничего не знала. И я оплакивала потерю моей бело-голубой жестянки, которая была словно дополнительная камера моего сердца, самая священная из всех.
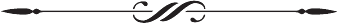
Я пробыла в лазарете неделю, озноб то проходил, то возвращался с новой силой. Джулия-Берта как-то принесла бульон, согревший меня изнутри, как мягкое одеяло. Спустя некоторое время мне стало лучше, но когда монахини входили в комнату, я надрывно кашляла и стонала. У меня не было желания вставать с постели. Я просто хотела спать.
Когда в конце недели вошла сестра Ксавье, я вздрогнула, попыталась зарыться в постель и исчезнуть. Я ждала, что она хлопнет в ладоши, закричит и вытолкнет меня из постели. Проснись, слава моя! Проснитесь, лира и арфа!
Но на этот раз она говорила не слишком громко. Она не называла меня слабой или неряшливой, не попрекала тем, что я закончу свои дни так же, как моя мать. Вместо этого она сообщила, что убедила настоятельницу не отдавать мои сбережения голодающим детям в Китае.
– Это было мудро с твоей стороны – сберечь деньги, – сказала она. – И не быть столь расточительной, как Габриэль. Я сохраню их, Антуанетта, пока для тебя не наступит время уехать отсюда, тогда они тебе действительно понадобятся. А что касается голодающих детей в Китае – бедных и нуждающихся у нас достаточно и во Франции. Когда четыре года назад ты и твои сестры попали к нам, вы были страшно худые и грязные. Говорили только на патуа. Вы даже не знали Апостольского Символа Веры. А теперь декламируете его наизусть.
Она погладила меня по голове, и я с трудом сглотнула слюну. Я так плохо думала о сестре Ксавье, а она оказалась доброй и постаралась мне помочь.
Мне всегда казалось, что монахиням нужно одно – замучить нас. Но передо мной вдруг предстала картина из прошлого, я увидела себя и своих сестер такими, как мы приехали в Обазин, и то, как мы изменились. Они слепили нас, словно реки, вырезавшие Центральный массив. Они дали нам крышу над головой – другого дома у нас не было. Они подготовили нас к миру за стенами монастыря, и это много значило для нас. Даже у Декурселя принцы не женятся на девушках, которые говорят только на патуа.
Мы были уверены, что пришло время покинуть Обазин и начать жить самостоятельно. Джулии-Берте было почти восемнадцать, Габриэль – почти семнадцать, а мне – тринадцать. Вылазки с Эдриенн во внешний мир только усиливали наше нетерпение.
Третий год подряд мы праздновали le quatorzejuillet в Клермон-Ферране. Я перестала копить деньги, которые давал нам дедушка. Несмотря на заверения сестры Ксавье, я боялась, что настоятельница передумает и отправит мои сбережения в Китай. Но то была не единственная причина, просто я нашла им другое применение. Пока Джулия-Берта помогала бабушке на рынке, Габриэль, Эдриенн и я посещали цыганку, которая шастала на окраине. Джулия-Берта, строго соблюдающая правила, считала все это богохульством и грехом. Но я руководствовалась стихом из Иеремии: «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас». Возможно, Бог выгравировал эти планы на наших ладонях. И это казалось мне хорошим способом для Него уследить за всем. Или, быть может, в расстановке карт цыганки проявлялось нечто божественное.
Суеверие досталось нам от отца, который всегда носил в кармане пшеницу. «Для благополучия», – говорил он. Возвращаясь домой после долгого отсутствия, он устраивал драматическую сцену, поочередно кладя руку на голову каждому из нас: Джулии-Берте, Габриэль, Альфонсу, мне и Люсьену, затем пересчитывал нас: «Один, два, три, четыре, пять. Пять. Мое счастливое число». Теперь я знала, что все это пустые разговоры. Он никогда не считал, что ему повезло с нами. Но когда мы были маленькими, Габриэль вслед за ним объявила цифру пять своим номером, начертив ее палкой на земле. В Обазине она вырезала пятиконечные звезды и полумесяцы, повторяя загадочные мозаики на полу коридора, которые мы всегда считали счастливыми и старались наступить на каждую, когда проходили там. Нам казалось, что они питают нас небесной силой.
На цыганке был пурпурно-золотой платок, из-под которого выбивались густые длинные и непослушные волосы, она ловко тасовала и раскладывала колоду Ленорман с загадочными картинками. В колоде были карты с изображением корабля, облаков, дерева, креста и гроба. Их всевозможные комбинации предполагали разные смыслы, которые могли интерпретировать только цыгане. Облака означали беду. Но облака, нависшие над холмами Центрального массива, как мешки с мукой, были обычным делом. Мы к ним привыкли. Деньги, любовь – вот что нас интересовало.
– Однажды ты будешь очень богата, – предсказала цыганка Габриэль.
– Она так говорит, чтобы я потратила на нее все свои деньги, – пробурчала моя сестра себе под нос.
– У тебя случится большая любовь, – сказала она Эдриенн, когда подошла ее очередь.
Эдриенн подалась вперед.
– Но за кого же я выйду замуж?
Чтобы получить больше ответов, обе девушки отправились к хироманту, тем временем цыганка читала мою судьбу.
Кольца на ее пальцах позвякивали, пока она перемешивала карты. Когда она разложила их, открылся гроб и уложенный поверх крест. Я ждала объяснений, но она молча смотрела на меня, словно пыталась изучить мое лицо; ее глаза, темные и бездонные, сверкали из-под низко надвинутого на лоб платка.
– Но ведь гроб может быть и хорошим знамением, – сказала я с надеждой. – Конец чего-то плохого, например. Или смерть чего-то нежелательного.
Она собрала карты, не проронив ни звука.
– Что это было? Что это значит?
– Иногда лучше не знать. – Я поймала ее предостерегающий взгляд.
Внутри меня словно заморозили. Мое сердце, легкие, даже кровь в венах. Неужели случится что-то ужасное?
– Пожалуйста, скажи мне!
Она внимательно посмотрела на меня.
– Ты уверена?
– Да!
Ее голос зазвучал приглушенно:
– Ранняя смерть.
Больше она ничего не сказала. Просто сняла с мизинца кольцо и протянула мне.
– Возьми это.
Широкое золотое кольцо с круглым желтым камнем, красивое, роскошное – что-то подобно в моем представлении могли носить elégante. Я никогда не держала в руках ничего столь великолепного.
– В камне заключена сила солнца, – сказала цыганка. – Он приносит тепло и свет в самые темные места.
Она произнесла что-то еще на незнакомом языке, потом ее глаза стали плоскими, как шторы на окне, и она отвернулась.
Ранняя смерть. Кто-то умрет молодым. Кто-то умрет раньше времени. Вдруг меня осенило, и я облегченно вздохнула. Наша мать. Карты были о Жанне.
Я показала кольцо Габриэль и Эдриенн. Сестра осмотрела его, будто была экспертом по драгоценным камням.
– Оно не настоящее, – заявила она.
– С чего ты взяла? – спросила я.
– С того, что его дала тебе цыганка.
Эдриенн подскочила.
– Наоборот! Это значит, что, вероятнее всего, оно настоящее. Цыгане умеют заполучить что хотят. О, Нинетт, только подумай, ведь когда-то оно могло принадлежать королеве!
Габриэль покачала головой.
– У королев толстые пальцы. Кольцо слишком мало. Оно никогда не подойдет королеве.
– Ну что ж, – возразила я, не позволяя ей все испортить, – зато это как раз подходящий размер для принцессы.
У нас с Габриэль был общий секрет: мелодрамы под половицами, страницы из Декурселя, спрятанные в учебниках и священных книгах. На моей шее на шнурке висело цыганское кольцо, скрытое под рубашкой.
Но когда лето сменилось осенью, Джулия-Берта удивила всех куда более серьезным секретом. Мы с Габриэль, так увлеченные миром Декурселя, упустили его. Никто ничего не замечал. До того дня, когда сестра Женевьева отправилась в садовый сарай за веревкой, чтобы привязать ворота, раздражающие своим лязгом.
Мы с девочками сидели у печи в швейной мастерской и в десятитысячный раз упражнялись в шитье. Элен все рассказывала и рассказывала о мальчике из города, который работал за продуктовым прилавком. Она ездила туда на каникулы со своей двоюродной бабушкой. Его пальцы коснулись ее ладони, когда он протянул ей сливу. И, по словам Элен, это означало, что он влюблен в нее. Она продолжала бубнить, как вдруг откуда-то из глубины монастыря раздался громкий вопль, заставивший всех нас подскочить.
Иголка с ниткой выскользнули у меня из рук и упали на пол. Похоже, то была Джулия-Берта. Однажды она долго оставалась безутешной, когда горный ястреб схватил крольчонка и улетел, зажав бедняжку в острых когтях. Она горько плакала, когда нашла на земле птичье гнездо, а в нем разбитые яйца, кусочки скорлупы, двух невылупившихся птенцов, розовых и сморщенных, у которых никогда не вырастут перья и которые никогда не полетят.
Но сейчас она кричала по-другому.
Я в панике бросилась на звук громких рыданий, Габриэль бежала следом. Мы неслись по коридорам, потом вниз по истертым каменным ступеням широкой лестницы, к комнате настоятельницы, и остановились только перед закрытой дверью. Было слышно тихое бормотание монахинь. Джулия-Берта плакала, повторяя снова и снова:
– Но он говорил, что любит меня.
Он?
Мы с Габриэль ошарашенно переглянулись. Через дверь доносились обрывки слов сестры Бернадетты:
– …это был сын старого кузнеца… тот самый, который должен был починить ворота… неудивительно, что они до сих пор сломаны… если бы я не вошла в садовый сарай в тот момент… на грани плотского познания…
Затем «Иисус, Мария, Иосиф», затем раздался стук четок.
На мгновение я затаила дыхание. Джулия-Берта, строго придерживающаяся правил! Джулия-Берта, которая делила мир на правильный и неправильный, добрый и злой! Джулия-Берта тайком встречалась с мужчиной?!
– Но он сказал, что любит меня, – снова всхлипнула она, обращаясь к монахиням. – Любит и хочет жениться.
Голос настоятельницы будто прорезал воздух.
– Жениться на тебе? Он уже женат! У него совсем недавно родился ребенок, его крестили прямо здесь, в храме.
За дверью стояла глубокая тишина, тяжелая, наполненная болью Джулии-Берты.
– Нет, – сказала она слабым голосом. – Нет. Это не может быть правдой. Он хочет жениться на мне. Зачем ему говорить, что он хочет жениться на мне, если он уже женат?
Я словно окаменела, ее слова эхом отдавались у меня в голове. Женатый мужчина. Мужчина, который лгал. Мужчина, у которого дома – жена и ребенок. А séducteur. Совсем как наш отец.
Здесь, в обители, прямо у нас под носом, Джулия-Берта была обманута мужчиной.
Дверь открылась, мы с Габриэль отпрянули. Джулия-Берта вышла, опустив глаза, лицо ее блестело от слез, с обеих сторон ее поддерживали монахини. Сестра Бернадетта, следующая за ними, твердила, что они должны найти священника, найти немедленно, не теряя времени.
Они исчезли в коридоре, когда еще несколько монахинь выпорхнули из кабинета настоятельницы, слишком потрясенные, чтобы обратить на нас внимание. Потом появилась сестра Ксавье.
– Что вы здесь делаете? – строго проговорила она. – Возвращайтесь в мастерскую.
– С Джулией-Бертой все будет в порядке? – спросила я.
– Что с ней будет? – в свою очередь спросила Габриэль.
Монахиня строго посмотрела на нас.
– Вечный покой ее души в опасности. Ваша сестра совершила тяжкий грех против скромности.
Она перекрестилась и бросилась прочь.
Я взглянула на озадаченное лицо Габриэль. Она только качала головой и что-то бормотала себе под нос.
– Если ты собираешься грешить против скромности, – услышала я, – стоит, по крайней мере, делать это с кем-нибудь богатым.
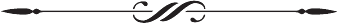
Мы с раннего детства знали об отношениях между мужчинами и женщинами. Мы жили в маленьких комнатах с тонкими стенами или вообще без стен. Мы видели кошек в переулках, коз в загонах, скот в полях. Мы знали, что дети появляются не из капусты.
Помнила ли Джулия-Берта, что делали отец с матерью, когда он возвращался из своих странствий? Помнила ли она возню по ночам, тени на стенах? Наша мать называла это faire l’amour. Заниматься любовью. Джулия-Берта, понимавшая только простой смысл слов, должно быть, думала, что «заниматься любовью» – это словно вязать свитер, что это нечто осязаемое, что можно будет сохранить.
Сиротки в монастыре говорили о свиданиях Джулии-Берты с сыном старого кузнеца как о большом скандале. Монахини часто повторяли предостережение святого Иеронима: «Ты носишь с собой большую сумму золота, позаботься о том, чтобы не встретить разбойников». Когда они говорили это в прошлом, мне хотелось смеяться. Все прекрасно знали, что у нас нет никакого золота. Но теперь фраза приобрела смысл. Джулия-Берта встретила разбойника с большой дороги, и он почти заполучил ее драгоценность.
Бедная Джулия-Берта! Она была подавлена. Не потому, что согрешила, не потому, что во время мессы ей было запрещено причащаться и она оставалась сидеть, пока другие выстраивались в очередь. Не потому, что во время трапезы и в течение дня ее заставляли поститься и проводить дополнительное время в молитве или богослужении Крестного пути[14].
А потому, что при любой возможности она смотрела в окно, на сломанные ворота, в надежде найти во дворе сына старого кузнеца, но его там не было. Его изгнали, и вход в монастырь отныне был ему заказан.
Джулия-Берта была старше меня, но при этом более мягкой и доверчивой, поэтому однажды утром, уходя с мессы, я прошептала Габриэль:
– Мы должны защитить ее. Ей уже исполнилось восемнадцать. Монахини не позволят ей долго оставаться здесь. Они отправят ее куда-нибудь горничной или прачкой, и некому будет за ней присматривать.
– Посмотри, что случилось, когда мы вроде как присматривали, – сказала Габриэль. – И как мы не догадались, что она ускользает?
Мы, знавшие Джулию-Берту лучше всех, понятия ни о чем не имели. Я предполагала, что она уходит, чтобы покормить птиц хлебными крошками или диких кошек объедками. Я должна была быть внимательнее!
– Не волнуйся, – успокоила меня Габриэль. – Монахини пока не собираются ее отсылать, только не сейчас, когда они могут использовать ее в качестве примера того, что нам не следует делать.
И она оказалась права. Теперь монахини проводили бесконечные часы, катехизируя против грехов плоти. Сестра Женевьева требовала стоя читать в унисон отрывки из Послания к Га-латам: «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство… поступающие так Царствия Божия не наследуют».
Монахини также использовали примеры о мучениках из Жития Святых, навсегда вколачивая мрачные деяния этих святых духов в темных уголки нашего разума.
«Столкнувшись с сильнейшими плотскими искушениями, Святой Бенедикт сбросил свою рясу и бросился в куст терновника и крапиву».
«Святой Бернар из Клерво погрузился в ледяную реку в разгар зимы».
«Святой Франциск Ассизский катался голым по снегу и едва не умер от обморожения».
– Как вы думаете, это сработало? – спросила Джулия-Берта меня и Габриэль однажды днем, во время отдыха через несколько недель после инцидента. Она протянула молитвенную карточку, которую всегда носила в кармане: на ней к святому Франциску слетались птицы. – Думаете, холодный снег очистил его от греховных мыслей?
– Не будь дурочкой, – сказала Габриэль. – Святые не настоящие. Все эти истории церковь придумала, чтобы запугать нас.
– Конечно же, святые существуют! – не согласилась Джулия-Берта. – Они есть в книгах.
Я не знала точно, настоящие они или нет, но беспокоилась о Джулии-Берте. Прошел целый месяц, а она продолжала при первой возможности выглядывать в окно. Ее взор всегда был устремлен в сторону ворот. Но вскоре пришел однорукий старик с длинной седой бородой и починил их. Они больше не лязгали.
Я должна была догадаться обо всем в тот момент, когда небо посерело, воздух словно застыл, тяжелые облака низко опустились над горными вершинами и на землю упали первые хлопья снега. Они становились все гуще и гуще, пока весь внешний мир не облачился в белое, как во время причастия.
В классе было тепло и сухо, и я, не обращая внимания на очередную метель, задумалась над математической задачей, написанной на доске. Пьеретту вызвали ее решать; идя между парт, она посмотрела в окно и вскрикнула. Мы все бросились к окнам, даже сестра Ксавье, которая ахнула и велела нам вернуться на свои места.
– Опустите головы и молитесь! – почти прокричала она, вылетая за дверь; ее головной убор трепетал, словно пара крыльев.
Но мы стояли как завороженные и смотрели на голую Джулию-Берту, катающуюся по сугробам, ее бледная кожа почти сливалась с белым снегом. Монахини выбежали из здания; когда они пытались поднять ее, от заполошного дыхания у их лиц клубился пар, ветер нещадно трепал их юбки.
Мое сердце колотилось в груди, будто в подушечку для булавок втыкали тысячу острых иголок.
– Что она делает? – перешептывались девушки.
Они не видели того, что было известно мне: святой Франциск катается голый по снегу. Она пыталась очиститься от греховного искушения, от своего плотского желания к сыну старого кузнеца.
Наконец сестра Ксавье, накинув на бедняжку черные шерстяные монашеские шали, подхватила ее на руки и понесла к двери. Как долго Джулия-Берта там пробыла?
Я ринулась вниз, в лазарет, но его двери были закрыты. Габриэль уже стояла там, и мы молча обнялись.
– С ней все будет в порядке, – сказала сестра Бернадетта, когда нас наконец впустили. Джулия-Берта спала; я опустилась на колени у кровати и взяла ее за руку, чтобы пощупать пульс; одеяло медленно вздымалось на ее груди.
О, Джулия-Берта! Если бы только раны и печали можно было излечить в свежевыпавшем снегу. Если бы только тоска по любви заглушалась холодом и льдом, я бы каталась там вместе с тобой.
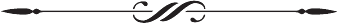
Я не удивилась, когда несколько недель спустя монахини сообщили нам, что наша бабушка едет в монастырь. После пребывания в лазарете Джулии-Берте трижды удалось улизнуть в город. Она бродила в поисках сына кузнеца, пока кто-нибудь не находил ее и не приводил обратно.
Ей нельзя было оставаться в Обазине.
Однажды днем, складывая наволочки, я услышала разговор настоятельницы и сестры Ксавье, стоявших у бельевого шкафа.
– Для Джулии-Берты лучше быть в кругу семьи, – тихо проговорила матушка. – Их бабушка с дедушкой переехали в Мулен, и Джулия-Берта вполне может пожить у них. Что касается Габриэль и Антуанетты, вы уже говорили с матерью аббатисой?
– Да, – быстро ответила сестра Ксавье, словно желая ее успокоить. – Они все время под строгим наблюдением. Она заверила меня, что их добродетель будет в безопасности.
– А двери? – В голосе настоятельницы слышалось сомнение.
– Все время запираются. Им будет разрешено покидать помещение только для мессы и других благочестивых целей.
– Но солдатские казармы… – начала мать-настоятельница.
– На другом конце города. Далеко от пансионата.
Я уронила наволочку.
Казармы.
Пансионат.
Мне не терпелось рассказать об этом Габриэль. Мы поедем в Мулен, в пансион Нотр-Дам! Мы будем рядом с Эдриенн.