Тоска Рассказ

– Глаз ее не видно. Верх лица скрыла огромная черная шляпа, украшенная куриными перьями да сорными цветами. Во дворе при свете дня Оля до смешного походила на ведьму. В этой своей шляпе, в грязном темном платье под горло.
Она и теперь похожа. Только мне уже не смешно.
Долго сижу на холодном полу. О мертвых и не думаю даже. Под крышей сарая висит крюк, на нем грязно-белая кроличья лапка.
– Теперь вспоминай кого-нибудь мертвого.
– Нету у меня никого.

– Вспоминай!
– Да нет у меня никого такого… – повторяю я, а самому становится даже немного стыдно.
– Что? Совсем?
– Собака была… Фрэд. Он уже ста…
– Собака! – Оля громко втягивает воздух, поднимается и начинает ходить туда-сюда. Одно перо со шляпы медленно падает на пол, на чучело, что мы смастерили. – Собака!
– Да что это за игра такая? – говорю я.

Мне холодно без рубашки и неловко быть с Олей наедине, полуголому, в темном сарае. В который уже раз кляну себя за то, что согласился на это.
Моя рубашка лежит на полу. К рукавам ее прилажены перчатки. Ниже – грязные спортивные штаны. Не хватает только головы.
– Я же говорила. Называется «Человечек». Ее бабка моя придумала…
Играть больше не хочется, но я молчу.
Оля копается в ржавых бочках у дальней стены. Достает что-то, хмыкает, бросает обратно. Потом вытягивает длинную светлую ленту.
Подходит ближе, и я вижу, что в руках у нее бинт. Грязный, в темных пятнах. Оля вкладывает его в рубашку так, что кусок торчит из воротника, вроде как позвоночник из обрубленной шеи.
– Это из Желтого дома, – говорит она.
Становится еще холоднее и гаже, будто слизняк ползет по спине.

Желтый дом – это заброшенная больница на въезде в деревню. Ее здесь почти отовсюду видно. Стены желтые, как старые кости, все в трещинах. Внутри все заросло травой и деревьями. Они шевелятся и выглядывают из разбитых окон.
– Ничего себе! – восклицаю я, а у самого во рту пересохло. Больница часто снится мне в кошмарах.
– Бабка там работала. Говорит, это в войну началось. Они сперва просто между собой сплетались, как змеи, а потом стали выбираться из подвала. По коридорам ходить.
– Кто? – не понимаю я.
– Да Человечки же! – она показывает на фигуру у наших ног. – Они и сейчас там бродят, ты разве не знаешь? Бабка говорила, что это все из-за тоски. Что это она зовет их. Дает им силы ходить, она… – Оля на миг замолкает. Разглядывает свои туфли, а потом машет рукой. – Эх, жаль, что у тебя никто не умер. Теперь все самой делать… Ладно, ты хоть голову найди…
Она опускается на колени и поправляет шляпу.
Я подхожу к приоткрытой двери, к полоске золотистого света, и думаю: «Сбежать бы отсюда». Вот только некуда. Дома Лиза с этим своим Пашей. Опять шепчутся, обнимаются, смеются. Лизе вообще-то нельзя много смеяться. Да и много двигаться тоже. У нее сердце больное.
– Ну? Чего стоишь?
Я вздрагиваю, начинаю осматриваться: ржавые, все в паутине бочки, белая лапка на крюке, кроличьи клетки у стены. В углу, на газете, гнилые кабачки и маленькая тыква. Чем не голова? Подхожу и вижу, что с одной стороны тыква проломлена и внутри, в ее мякоти, ворочаются толстые желтые черви.
Борясь с тошнотой, иду в другой угол и вижу целый ворох мешков. Беру один, белый. С него что-то сыплется. Чихаю, комкаю его так, чтобы он хоть немного напоминал шар.
– Так пойдет?
Оля тянет мешок из рук, кладет туда, где должна быть голова. Молчит.
– Хорошо, – говорит она наконец. – Теперь садись. Закрой глаза, думай о моем папе.
– Да я ж ничего о нем не знаю…
– Знаешь. Я тебе рассказывала. О том и думай.
Ее отец был трактористом или типа того. Он много работал, а пару лет назад уснул в поле, и трактор проехал ему по голове. Вот все, что мне удается вспомнить. А еще то, что он разводил кроликов в этом сарае. Здесь же забивал их и снимал с них шкуры.
Приоткрываю глаза. Смотрю на белую кроличью лапку на крюке. Слышу, как на улице чирикают птицы, как лает собака. Слышу, как Оля дышит часто-часто.
– В этот раз получится, – шепчет она.
Не нравится мне мешок, что я выбрал для головы. Он немного расправился и выглядит теперь так, словно по нему и в самом деле проехало колесо трактора.
Мы сидим так очень долго – ноги затекли, колени ноют. Снова открываю глаза. Оля, конечно, прячется за этой своей шляпой, да еще в сарае темно, но кое-что мне все же видно. Видно, что она пытается сдержать смех.
Вот как!
Да ведь это розыгрыш. Все знают, что верить ей нельзя. Она же просто хочет меня напугать.

– Бывает так, что они ведут себя… плохо. Могут и напасть. Но это они не специально. Мой папа… он… Ты ж его не боишься?
Начинаю злиться.
Чтобы какая-то дура деревенская надо мной издевалась?!
Оля все понимает. Она поднимается, как бы невзначай, и отряхивает платье.
– Не шевелись, – говорит она. – Это очень важно. Не открывай глаза.
А сама идет к двери.
Пытаюсь встать, схватить ее за руку, но слишком поздно. Она выскальзывает на улицу.
Вмиг становится темно. Я заперт.
Она смеется. Не просто смеется. Хохочет. Да что там: думаю, она катается по земле, молотит ее кулаками, задыхается от смеха.
– Открой!
Я болван. Я идиот.
Хохот делается еще громче.
– Открой. – Повторяю уже спокойнее.
– Не-а! Ты… ты… ты ж еще… с моим папкой… не познакомился.
Она снова срывается на хохот.
– Да отстань ты! – кричу я. Оборачиваюсь, потому что за спиной слышится какой-то звук.
В темноте лишь два светлых пятна. Голова из мешковины и кроличья лапка на потолке.
Снова вспоминаю Олиного отца, историю о том, как он снимал с кроликов шкуры.
Хрясь – и шкура снята. Это Оля мне так рассказала.
А еще говорила, что он все это ненавидел.
Кажется, в воздухе пахнет сырой землей. Травой. Какими-то цветами.
Делается очень холодно.
Смотрю на рубашку, хочу поднять ее и надеть. Отдергиваю руку.
Она шевелится.
Глупость, конечно.
Глупость! Глупость! Глупость!
Бросаюсь к двери.
– Открой!
– Мама на работе, – шепчет Оля. – Паша у твоей любимой сестренки, так что кричи сколько влезет. Тебя только папа мой услышит.
Точно пахнет землей.
Снова шорох. Оборачиваюсь.
Я ведь соврал.
Да, соврал.
Есть у меня человек, который умер.
Дед.
Помню его лицо тогда, в больнице. Как будто кто-то другой, совсем на него не похожий, рос изнутри. Выглядывал. Не злой даже, а просто чужой, тощий и бледный.

Белый.
Как мешок из-под муки.
И он сейчас здесь. Мешок сложился так, что я вижу приоткрытый рот и темные дыры глаз.
Как же холодно.
Изо всех сил бью в дверь. Оля не отвечает. Она и смеяться перестала. И эта тишина страшнее всего. Даже страшнее того, что сейчас у меня за спиной.
– ОЛЯ!!! – я срываю голос.
Что-то заставляет меня развернуться.
Движение. Лицо из мешка немного меняется. Один глаз становится чуть больше, рот растягивается в полуулыбке.
Из груди уже рвется крик, но тут я понимаю, что это всего лишь расправляются складки на скомканной ткани. Пересилив себя, подхожу к вороху одежды и поддеваю ногой голову, стараясь не думать, на что она похожа.
Голова не отлетает. Она твердая, но не тяжелая. Оля набила ее чем-то и как-то сумела прикрепить к рубашке, а рубашку к штанам и перчаткам.
Теперь все это разом дернулось от удара.
Отскакиваю.
Уж слишком это похоже на настоящее движение.
Глаза привыкли к темноте. Бочки, кроличьи клетки, маленький столик, на котором сушится укроп.
И как же сильно воняет чем-то.
Одежда лежит теперь грудой. Голова подобрала остальное тело под себя. От моего удара она, конечно, сместилась, но чтобы так…
Сердце сейчас разорвется. Меня тошнит.
Оно шевелится. Оно точно шевелится. Я вдруг думаю: «Мыши. Это мыши забрались туда. Или… или…»
«Кролики».
Взгляд на миг задерживается на кроличьей лапке, потом возвращается к лицу на полу.
Оно поднимается. Сначала медленно, почти незаметно, потом резко взмывает вверх.

Он встает. В моей рубашке, в спортивных штанах Олиного отца, в старых рабочих перчатках. Руки и ноги висят пустыми тряпками, но в нем есть жизнь. Дрожь бежит по всему его телу, словно что-то внутри клубится, переползает с места на место, хочет вырваться наружу.
Еще пару секунд тупо смотрю на него, пытаюсь придумать объяснение, а потом волна паники сметает все, и я кричу так, как никогда прежде не кричал.
Переваливаясь с бока на бок, на непослушных ногах он идет ко мне.
Кисти в перчатках вяло болтаются, но сами руки тянутся, готовые схватить меня.
Смертельно обнять.
Изо всех сил бросаюсь на дверь, падаю. Снова бросаюсь. И снова, и снова. Встаю, прижимаюсь к шершавому дереву, пытаюсь вжаться в него, протиснуться на улицу сквозь щели. Больше ничего не вижу. Глаза заливают слезы.
Слышу, как шаркают его ноги.
Что-то касается шеи, холодное, отвратительно мягкое. С новой силой вжимаюсь в дверь.
Я умру.
Я уже умер. Не здесь, не на бетонном полу сарая, а где-то далеко в поле, на сырой земле, среди скошенной травы. Под ярким солнцем.
На секунду перед глазами мелькает эта картина, а потом чернота.
Черное колесо трактора. Оно заслоняет весь мир.
Открываю глаза. Я и в самом деле лежу на земле. В траве. Только нет никакого трактора и страшного черного колеса.
От прикосновений я вздрагиваю.
– Убежала! – слышу я голос. – Гадина!
Паша.
– Что с тобой? – это уже Лиза.
Начинаю рыдать. Она обнимает меня, а я плачу и плачу.
– Он ходит, – шепчу я. У меня пропал голос. Будто что-то порвалось в горле. К тому же я разучился дышать, хватаю ртом воздух, глотаю его и никак не могу надышаться.
Меня успокаивают, гладят по голове.
– Эти ее тряпки! – говорит Паша. – Она целый день с ними возится. Кукол делает и всяких там чучел. Двигает их, разговаривает. Бывает, аж жутко становится.
– Он шевелился, – голос мой звучит так, словно я говорю через тонкую трубку или замочную скважину.
Лиза выносит из сарая Человечка. То, что от него осталось.

Головы нет. Моя рубашка, спортивные штаны. Оля и в самом деле сшила их между собой. Вижу тонкие аккуратные стежки. И как это я проглядел? Когда она успела это сделать? Где-то еще должны быть нити, за которые она тянула, забравшись, видимо, на крышу.
Это был просто розыгрыш! Но легче мне не становится.
Потому что та бледная маска, что когда-то я видел на деде, то, что привиделось мне на этом чертовом мешке… Теперь я вижу ее на лице Лизы. Кто-то чужой вместо нее слабо улыбается мне, словно знает что-то грустное и необратимое.
Снова начинаю плакать.
– Ты только бабушке не рассказывай. Паша сам с ней разберется.
Лиза боится, что из-за этой истории у Паши будут проблемы. Может быть, ему запретят приходить к нам. Она накидывает мне на плечи рубашку, от которой оторвала уже штаны и перчатки. Сбрасываю ее. Она холодная и липкая, к тому же воняет чем-то.
Рубашку я больше носить не могу. Несмотря на то что бабушка ее постирала, от одного прикосновения к ней, от одного ее вида, от одного не запаха даже, а предчувствия запаха мне становится не по себе.
Бросил ее в пакет, а пакет спрятал на дно рюкзака. Но все равно чувствую ее, а ночами слышу, как что-то там шевелится и шелестит целлофаном.
Мыши, убеждаю я себя.
Но почему-то думаю о кроликах.
Паша говорит, что Олю наказали, что ее держат дома и что он отнял у нее всех кукол. Он врет. Он боится сестру и никогда бы не решился на такое.
Представляю Олю. У окна. Глаза чернющие. В этой ее шляпе с куриными перьями. Шьет.
Всю следующую неделю идет дождь. Не выхожу из дома, словно бы тоже наказан. Смотрю в окно. Иногда я сплю даже днем, и мне снятся фигуры из полотенец и тряпок в коридорах Желтого дома. У них белые лица, такие, как теперь у Лизы. Они тоскливо ходят из комнаты в комнату или смотрят в окна. Совсем как я.
Потом приезжает отец. Дожди так и не кончились. Вдалеке грохочет. Сверкают молнии. Лиза одна. Паши почему-то нет.
Сижу в комнате. Вещи уже собрал. Вдруг замечаю за окном лицо. Синеватое, вытянутое, края шляпы обвисли, перьев нет – только ярким пятном горит ветка рябины.
– Открой, – шепчет Оля.
Немного колеблюсь, но все же открываю, и дождь врывается в комнату.
– Отдай мне бинт, – говорит она. Потом, немного подождав, добавляет: – Пожалуйста.
И улыбается. Жалко так. Умоляюще.
– Бинт? – спрашиваю.
Злюсь ли я на нее? Наверное, нет.
– Я его в рубашку положила.
– Нет у меня бинта.
Пытаюсь вспомнить, где же он. В рубашке точно не было.
– Я тебе заплачу. Вот, – она кладет на подоконник ворох мокрых купюр. – Тут пятьдесят восемь рублей. Это все, что у меня есть.
Качаю головой.
– Я бы и так отдал. Но он делся куда-то. Может быть, в сарае остался?
Вода течет по ее лицу, и кажется, что она плачет.
– Отдай тогда рубашку.
Где-то в полях прокатился гром.
– Хорошо, – говорю я.
Подхожу к рюкзаку, но открыть не успеваю.
– Это еще что! – слышу голос Лизы. – А ну иди сюда!
Оля исчезла, и только занавеска колышется так, словно хочет броситься на нас. На подоконнике осталась пара монет.
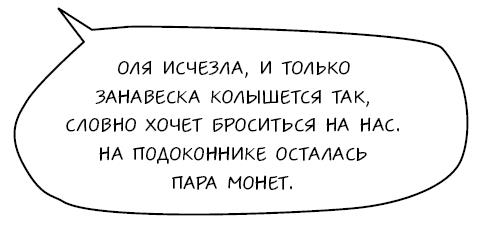
Сестра подбегает, выглядывает:
– Иди сюда, гадина!
В комнату входит отец.
– Что случилось?
– Ничего, – говорю я.
– Ребята балуются. – Лиза отбрасывает с лица намокший локон и смахивает монеты на улицу.
Мы идем пить чай, а я украдкой смотрю в окно, но там ее нет. Деревья плещут болотного цвета листвой. Вдалеке грохочет. Свет мы не включаем, потому что бабушка боится шаровой молнии. В полумраке лица у всех такие, будто нарисованы простым карандашом.
После чая бегаем от дома к машине, от машины к дому – носим под дождем сумки. Я оглядываюсь: иногда мне кажется, что я вижу Олю среди кустов, но всегда выходит, что это просто ветка или тень.
Мне грустно. Сам не знаю отчего.
Лиза сидит на переднем сиденье рядом с папой. Я – на заднем. Гляжу в окно. И только мы отъезжаем от дома, замечаю Олю. Шляпа, темное платье – все размыто, как на картине, к которой подошел слишком близко, а мне очень хочется еще хоть раз посмотреть ей в глаза.
Она несмело машет рукой.
Наверное, нужно было помахать ей в ответ.
Проезжаем мимо Желтого дома. Быть может, из-за мокрых стен, которые из желтых превратились в темно-оранжевые, я думаю о той тыкве в сарае. О червях, что копошились в ней. И, кажется, понимаю что-то о бинтах, об этой больнице и о тех, кто ходит по ее коридорам.
О тоске.
Понимаю, но не могу объяснить словами.
Пока мы были в деревне, родители переехали в зал, а спальню отдали Лизе. Она очень рада – прыгает на кровати, носится по комнате так, что ей даже становится плохо. Она ложится отдохнуть, а родители дают ей лекарство.
Я остаюсь один в нашей старой комнате. На стенах бледные следы от Лизиных плакатов, на книжных полках пусто. В большом коричневом шкафу теперь столько места, что я, наверное, мог бы там жить.