Даниэль. Дверь – это уже мебель
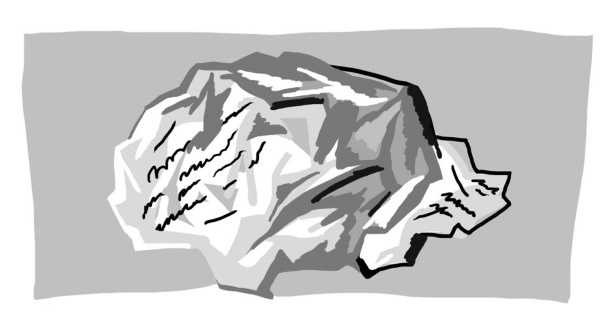
Иногда я думаю, что случилось чудо, и Пузырек – вовсе не архитектурный брак, а та самая комната, которую в этом городе, словно сумасшедший каменотес, выдолбило мое отчаяние. Когда я сбежал из больницы, идти мне было некуда, разве что к родителям. Но возвращаться туда, когда тебе за тридцать, казалось немыслимым. Я не жил там уже десять лет, и в моей комнате теперь стоял велотренажер.
Хотя банковская карта и была со мной, денег там оставалось совсем немного, и спускать их на хостел было бы глупо. Да и как бы я устроился туда без документов? Они остались на съемной квартире, а туда возвращаться я тоже не хотел. В тот первый день мне казалось, что меня вот-вот остановит полиция, и я должен буду отвечать на вопросы: кто я такой? Где живу, где работаю?
Но лишь только у меня появилось убежище, как оказалось, что жизнь моя почти устроена, как это ни дико звучит. Надо только перенести сюда траву, я даже присмотрел, где ее можно спрятать. В двух шагах от Пузырька находится что-то вроде свалки бетонных блоков. Ее облюбовали даманы. Днем они греются на солнце, а ближе к ночи прячутся в расщелины этих искусственных скал. Я задумал спрятать траву в металлическую канистру и засунуть в одну из таких расщелин.
«Пузырек» оказался забытым пространством, которое образовалось в хозяйственной части постройки. Пробраться сюда можно было прямо с улицы. Никому не приходило в голову протиснуться в щель между стенами соседних блоков и нырнуть под перекрытие первого этажа. Вход был прикрыт старыми фанерными декорациями, которые хранились здесь, видимо, с незапамятных времен. Первую неделю я потратил на то, чтобы изучить расписание главного завхоза и нескольких рабочих. Кроме них и редких машин, привозивших им что-то по хозяйственным нуждам, в этот угол никто не заглядывал. Сидя в Пузырьке и чутко прислушиваясь, я ненавидел их смех и те небрежные реплики, которыми они обменивались. Когда же они внезапно замолкали, мне казалось, что кто-то из них крадется к моему убежищу, обмениваясь с другими немыми знаками. Я замирал, мне казалось, что вот-вот я буду обнаружен. Но, обвыкшись, я понял, что это вряд ли произойдет. За это время «Чемпион» словно провернулся в моем сознании и стал передо мной той стороной, с которой он видится этим людям. Получалось, что для них Пузырька как бы не существует: они стремились к другому внутреннему дворику, где удобно было скрываться от начальства.
Я научился мыться в подсобках, отчего стал добродетельно благоухать лавандой (использую мыло для рук, которое хранится там, в канистрах), обзавелся термосом, чашкой и ложкой. Я знаю, когда на аллеях парка безлюдно, а когда не стоит вылезать. Но главное: теперь я не боюсь гулять по городу; я такой же, как и все, мне есть куда вернуться. Вечером я не спешу скользнуть в свою нору, а иду к бетонной свалке. Я взбираюсь наверх, стараясь не задеть скрюченные пальцы арматуры. Даманы, которые там резвятся, постепенно ко мне привыкли; их часовые уже не издают сигнальный свист при моем приближении. Я сижу там, пока не стемнеет, иногда записываю, что в голову придет, а потом иду к себе.
Стены и потолок тут из бетонных плит, которые даже не штукатурили. Когда я прикасаюсь к ним, на ладони остается пыль. Это не домашняя пыль от осыпавшейся человеческой жизни, с ее жиром и копотью. Пыль здесь сухая, степная, из частиц бетона, песка и земли. Я перетащил сюда несколько списанных матов, которые валялись на задворках здешнего спортзала, и теперь не мерзну на полу. Укрываюсь старыми одеялами, взятыми на складе у синагоги. Термос, чашка, ложка, одеяла – больше у меня ничего нет. Впрочем, неправда, у меня есть блок синей бумаги, который я исписываю синей ручкой. А еще у меня есть время, а это не так-то мало. Прежде чем улечься на маты, я проверяю, прочно ли стоят листы фанеры, прикрывающие вход. «Дверь – это уже мебель», – вспоминаю я слова Герца и улыбаюсь.
…
Страх накидывается на меня перед рассветом. Я просыпаюсь с колотящимся сердцем и лежу в темноте, стараясь глубоко дышать. Почему я здесь? Почему ничего не предпринимаю? Неужели я всю жизнь теперь буду жить вот так, скрываясь как преступник? Я вспоминаю лицо Пчелки на больничной подушке – первое, что увидел тогда, открыв глаза. Мы лежали на соседних койках, и я слышал, как врачи сказали, что теперь он дышит сам. Дождавшись, когда они уйдут, я откинул простыню и встал было, но голова закружилась. Стало ясно, что безопаснее будет, если я проползу эти несколько метров до его кровати. На мне была моя одежда, значит, со мной все обошлось, а вот Пчелка был в больничной распашонке. Я начал подниматься на ноги, используя в качестве опоры его капельницу. Казалось, вот-вот он откроет один глаз и расхохочется. Согласен, стоящее было бы зрелище: сэр Даниэль кряхтит и ползает на карачках. Но он все еще спал, и я наконец встал над его кроватью и увидел его лицо, и, если бы не понимал, что нужно смываться, стоял бы там до сих пор и смотрел. Я не мог вспомнить, были ли у него прыщи или раздражения от бритья, но точно знал, что еще вчера его лицо было нормальным, человеческим, а не таким… Каким? Умытым? Ясным? А еще, казалось, что ему невозможно теперь навредить. Я смотрел на него долго, понимая, что у меня появилось что-то вроде религии. Если теперь я встречу на улице тех блаженненьких, кто разносит брошюрки и задает для затравки вопросы вроде: «Знаете ли вы, зачем мы живем?» или «Как сделать так, чтобы все были счастливы?», – я скажу: «Конечно, знаю! Нам нужно попытаться добыть вот это». И если они вежливо попросят, чтобы я объяснил им, хотя бы неточно и отдаленно, что я имею в виду, – я произнесу лишь одно слово, да, неточное, но наиболее близкое к тому, что я видел:
«Тишина».
Я забыл, что она у меня когда-то была, и, пока не увидел спящего Пчелку, не понимал, что мне так трудно живется, потому что я уже три года живу без тишины.
Я могу рассказать, что произошло: три года назад умерла Ноа. Это все.
Синим на синем
Ее отец с тех пор полностью изменился. Отсидев шиву [2], он так и не сбрил бороду и не снял кипу. Наверное, он и от меня ожидал чего-то подобного, он очень удивился, когда я, лишь только закончился срок съема квартиры, немедленно нашел работу в Тель-Авиве и уехал.
Я устроился копирайтером в ивент-агентство, в конце концов, она ведь хотела именно этого: чтобы я придумывал. Она любила меня придумывающим, все подбивала сесть и писать роман, а мне скучно было писать, когда рядом она. Она любила книги, прочла их намного больше, чем я, – плохих и хороших, иногда совсем неожиданных. Рассказала мне как-то, что в отрочестве читала Паустовского в переводе на иврит. Она называла его Пау Стовски, но помнила оттуда все: войну, теплушки, черную оспу. Мой роман был долгосрочным планом, а пока что она постоянно требовала, чтобы я давал всему имена, словно она Бог, а я Адам. «Как называется этот камень?» (Мы валяемся на пляже, и она мешает мне читать.) «Как назовем эту слепенькую машинку?» (Мы тогда купили старый «фольсваген» с подбитой фарой.) «Как называть эту кошку?» (Размахивая пакетом по пути к мусорному контейнеру.)
А потом я назвал ее.
У нее была компания друзей еще из гимназии. Они любили ролевые игры, всю эту беготню по лесу с картонными мечами. Когда игры вышли из моды, они изредка, по старой памяти, устраивали сборища где-нибудь за городом. Я оказался там случайно, за компанию, но выбраться из леса было не так-то просто. Приятель, с которым я приехал на машине, переоделся в колдуна и был теперь окружен кольцом юных ведьм. Он избегал моего взгляда, как ребенок, который опасается, что взрослые выдернут его из игры в самый интересный момент. Я скучал и чувствовал себя круглым идиотом, пока мне не подыскали теплое местечко в средневековой тюрьме, где можно было пересидеть весь этот ужас. Ноа спрыгнула ко мне в яму, где я валялся на дерюгах и разгадывал кроссворд. В руках у нее была бутылка с ослепительно-зеленой жидкостью – это она пыталась сварганить модную тогда «Цокотуху». Бутылку мы отдали незнакомым добродетельным ящерам, чтобы не освобождали нас еще хотя бы часик. Зелье, видимо, на них подействовало: последняя атака под Масольером давно прошумела где-то там, наверху, а нас никто и не думал вызволять. Мы тогда проболтали полночи.
Вскоре мы сняли микроскопическую, но при этом многоэтажную квартирку, состоявшую лишь из белой лестницы и двух прилегающих к ней скошенных пространств. Третий этаж был представлен крохотным туалетом. Принять душ можно было, только сидя на унитазе. Безумные пропорции нашего жилья очень меня радовали, хотя квартирка стоила прилично. Именно тогда мне впервые показалось, что я перехитрил всех: злобных училок, жлобоватых наших соседей, каких-то условных родственниц-теток, которые словно знали обо всем, что ждет меня в жизни, и не сомневались, что жизнь эта будет именно такой, как они ее себе представляют. Они прикидывали, как я буду белить двушку на проспекте Строителей, а потом застеклять балкон и ходить в один из трех институтов, которые были в нашем городе: в «маш», «мед» или «пед». А я – вот он я – прыгаю по жердочкам в этом вывернутом наизнанку теремке.
Лестница была нашей мебелью: столом и креслами, книжными полками и гладильной доской. Она же была нашими стенами и потолком. Зеркало там повесить было негде. Когда Ноа красилась или причесывалась, она вначале торжественно вручала мне зеркало, а потом отступала на шаг – и тут уже не могла удержаться от смеха. Наверное, я и в самом деле выглядел забавно. «У всех кариатид и атлантов вид либо несчастный, либо коварный», – говорила она. Как-то раз я решил устроить ей сюрприз: купил большое зеркало и придумал-таки, куда его присобачить. «Значит, теперь ты не будешь смотреть, как я крашусь?» «Ну уж нет! – спохватился я (и в самом деле жалко было терять этот ритуал). Я схватил второе зеркало, маленькое, и опустил пониже: – Я всегда буду тут, чтобы ты могла преспокойно рассмотреть, хорошо ли сидят штаны на попе». Она вдруг расхохоталась. «Ты не заметил разве, что я редко ношу джинсы, и меня не волнует, как они сидят? Но у тебя когда-то была подружка, которая в этом неплохо разбиралась, так ведь? Вы жили вместе, не отпирайся!» Так оно и было, но я не хотел об этом рассказывать. Мне и в голову не приходило, что у женщин такие разные привычки. Я покраснел, но она смеялась так беззаботно, что я вдруг почувствовал, что счастлив несомненно и глубоко именно теперь. За все эти пару месяцев мы и ни разу не поссорились, но сейчас на меня накатило что-то вроде озарения. Я наконец поверил, что все получится. «Мы будем жить легко, – понял я. – Не будет ревности, поджатых губ и недомолвок. Мы будем счастливы». Ноа уже была серьезна – собирала волосы в хвост и закалывала его заколкой.
– Рыжая Йидель, – сказал я вдруг.
– Что-что? Как ты сказал?
– Йидель.
Йидель – так звали мою прабабку. Ее, кстати, прабабушкой не называли, только изредка, когда мама перечисляла всех живых родичей. Обычно ее просто называли по имени. Она гостила у нас две недели.
Мне было восемь, когда я увидел ее впервые. Нас отпустили из школы раньше, потому что умер Черненко. Мама, открывшая дверь, заговорила со мной шепотом. Вначале я решил, что дело в той государственной смерти. Люди на улице, которые мне встречались по пути домой, выглядели такими же: торжественными и притихшими. Но оказалось, что мама говорит тихо вовсе не из-за траура. Она завела меня на кухню и уже там объяснила, что бабушка здесь и что сейчас она спит. Брат пришел из школы еще раньше и теперь сидел в большой комнате и читал книжку, несколько картинно, как мне показалось. Поздоровался он со мной тоже как-то по-новому – чинно. Кажется, начиналась какая-то другая жизнь.
Дверь в спальню была приоткрыта, оттуда раздавался храп. Я подошел поближе и увидел в щель огромную корявую ступню, похожую на рельефные модели материков из кабинета географии. Это был незнакомый материк, с вулканами опухших суставов, вздувшимися синеватыми хребтами вен и растрескавшейся пустыней на подошве. Я разглядывал мозоль на большом пальце – она была желтой и полупрозрачной, как канифоль. Никогда еще не видел, чтобы кожа была такой. И тут я заметил, что по этой ноге ползет прусак. Он полз как раз по той задубевшей коже, наверное, поэтому Йидель его не чувствовала. Я следил, как зачарованный, за тем, как прусак огибает большой палец и ползет уже по ступне – бабушка даже не шевельнулась.
Есть моменты, они могут быть совсем мимолетными, – доли секунды – когда ты словно спускаешься в подвал на одну ступеньку. Ты все еще наверху, лишь на шаг ниже. Лишь чуть-чуть дальше теперь светлый дверной проем за спиной, чуть приблизилась темнота, чуть ощутимей запах земли, кошек и мерзлой картошки, но ты знаешь: ступить вот так же назад не получится уже никогда.
В нашей квартире появился новый запах: пряный и темный. Вначале я решил, что это просто пахнет еда, которую бабушка привезла нам в подарок: моченый арбуз и штрудель. Арбуз был странный на вкус, словно газированный, а штрудель меня пугал: он был почти черный, с синим изюмом и смуглыми поджаренными орехами. Но еду мы, в конце концов, съели, а запах остался.
Когда прабабушка хотела приласкать меня, то подманивала пальцем, улыбаясь странной улыбкой: сладкой и скорбной одновременно. Теперь я понимаю, что это была еврейская улыбка, а тогда не понимал – ни одна из знакомых мне старух так не улыбалась. Я подходил, и она вкладывала мне в руку пару орехов или железный рубль. Орехи меня возмущали (тоже мне, лакомство), а рубль глубоко озадачивал – я не знал, что с ним делать, и отдавал маме.
В ту зиму у меня появился враг: красномордый мальчишка из соседнего дома. Он возникал на моем пути в школу, всегда неожиданно, а спустя минуту я уже собирал вещи, вытряхнутые в снег из портфеля. Иногда он вначале здоровался со мной, да так весело и простодушно, что я отвечал, надеясь на чудо (могло же ему надоесть меня задирать), а кончалось это все тем же. Как-то раз, в тот самый момент, когда он распотрошил мой портфель, из подъезда вышла его мамаша. Она прошлась по утрамбованному снегу, брезгливо отодвинув сапогом порванную тетрадь, и сказала мне: «А он такой, он злой, ты его зря не дразни!»
И вот теперь бабушка водила меня в школу. Каждый день я должен был выбирать одно из двух унижений: либо выпотрошенный портфель и шапку, вывалянную в рыхлом мартовском снегу (всего-навсего снег, но почему-то сколько ни стряхивал его, – очиститься от этих позорных пятен было невозможно), либо Йидель, в седовато-синем пальто, потертом, как старая кулиса. Йидель и ее безумные меховые вишенки, прицепленные к старому каракулевому берету. Йидель и ее улыбка, а главное – ее запах.
– Йидель – это что? – тормошила меня Ноа.
– Так звали мою бабку, королеву эльфов.
Как я мог назвать эту девочку Йидель? Может быть, сам того не понимая, я просто надеялся на целительную силу тех первых дней в нашей квартире-лестнице и нарочно притащил сюда темное имя из прошлого? Как самоучка-алхимик, торопясь, кидает в чан медную утварь, в надежде добыть золото, так и я спешил переплавить сразу все позоры моего детства.
«Рыжая Йидель», – Ноа теперь требовала, чтобы я называл ее только так. Мы привыкли к нашему жилью и уже не набивали синяки на лестнице. Хозяин, видимо, ожидал, что мы съедем в первые же недели, и очень удивился, когда мы заявили, что подписываем договор на весь год. Придя к нам с бумагами, он все медлил, осматривался и, казалось, едва сдерживался, чтобы не заглянуть под кровать в поисках причины нашей готовности платить за такое нелепое жилье. Он бы не нашел ничего, как и я теперь ищу и не нахожу, не могу подобрать этому имени. Где он, золотистый, тягучий раствор, скреплявший те зимние дни так, что они выстраивались один за другим, словно позвонки? Мы боялись это потерять и потому не отходили далеко от дома. Много часов мы провели лежа, обнявшись, на матраце под лестницей, в дреме и тихих разговорах, наблюдая, как февральское солнце, словно в поисках удачного кадра, выделяет желтым квадратом стул с брошенной одеждой, стопку книг, раскрошенную булку и остатки джема в банке.
Прожив так еще три месяца, я почувствовал, что наша жизнь достаточно прочна и не рассыплется, если мы ненадолго разомкнем объятия. Мама с отчимом уже давно упрекали меня, что я не появляюсь у них. Я поехал туда один. Ноа сказала, что пока съездит к своим, она тоже давно не виделась с родителями.
…
Мама открыла мне дверь, и на меня выплыло кухонное облако, пахнущее выпечкой и корицей. Моя мать верила в корицу. Посторонний не понял бы, в чем тут дело, и приписал бы это увлечению кулинарными передачами. Но я-то помнил все. Помнил, как мама, улыбаясь зло и почти торжествующе, рассказывает нам с братом о том, как отец, за пару месяцев до ухода, повадился добавлять корицу в кофе. Ей, говорила мама, вначале это новшество даже понравилось, и в этом месте мне становилось нестерпимо ее жаль, потому что я уже слышал эту историю, и не раз. Добавлять корицу в кофе научила отца «та женщина», но мама этого еще не знала и впустила в наш дом чужой злой аромат, как впускают в крепостные ворота бродячего факира – глотателя огня, который ночью подожжет город. Мама опять вышла замуж, потом мы переехали в Израиль, но обида никуда не делась. Я всегда видел ее, как инфракрасная камера – оранжевое пятно.
Вот и сейчас мы, все втроем, сидели за столом, отчим нахваливал пирог, а мне кусок в горло не лез. Вот как это случается каждый раз! Из пирога вместе с коричным ароматом вылетела история об отце. Сколько я уже таких знал! Я давно мог бы сложить их в единый образ, и пусть он был бы нелеп, как фантастические люди Арчимбольдо, сложенные из овощей или рыб, – он бы существовал. Но в каждом из маминых рассказов, даже самом невинном, всегда был спрятан еще и тайный лазутчик. Его цель: вывернуть наизнанку те несколько жалких воспоминаний, которые у меня есть. Рано или поздно я обнаруживал диверсанта и не верил уже ничему.
Я с трудом досидел до конца чаепития, для приличия посмотрел с ними телевизор несколько минут и объявил, что у меня глаза слипаются. Заснул я и в самом деле мгновенно.
Утром я не сразу понял, где нахожусь, – не хватало привычного косого потолка над головой. Я улыбнулся, подумав, что Ноа, наверное, тоже сейчас лежит на своей подростковой кровати в родительском доме и удивляется нормальности интерьера. Внезапно у меня заколотилось сердце: а вдруг она никуда не уехала, ни к каким родителям, а изменяет мне сейчас в нашей же квартирке под скошенным потолком? Глупости. И все-таки завтрак я отсидел с трудом и вскоре засобирался домой.
За время пути я полностью успокоился, и когда подходил к нашему дому, то так радовался, что мне вновь захотелось пережить страх ее измены, теперь уже понарошку. Но стоило лишь представить это, как меня вновь затопил настоящий ужас. Я взбежал по ступенькам, отпер дверь, не позвонив, в суеверной надежде, что именно так, не оставляя себе возможности к отступлению, желая знать всю правду (да, всю, – я уже рассуждал и дышал как обманутый), я вызову жалость судьбы, и измена – я в ней уже почти не сомневался – каким-то чудом будет отменена.
Ноа стояла у самых дверей и распаковывала дорожную сумку, выкладывая из нее заботливо упакованные банки. Мне стало стыдно.
Я так устал, что не мог стоять, и опустился на ступеньки нашей чудо-лестницы.
– Ты что? – Она положила руку мне на волосы. Она делала так впервые, и это мне не понравилось. Почему вдруг именно сейчас? Этот жест показался мне неуклюжим и чужим. Неужели она принесла его от родителей вместе с домашними консервами, так же, как я принес мамину ревность, меховые вишенки и черный штрудель?
– Что с тобой? – Она все держала руку у меня на макушке, а я вдруг почувствовал, что волосы под ее рукой как-то слишком легко примялись, видимо, я потихоньку лысею, мама всегда с тревогой смотрела на мою макушку, напоминая нам с братом, что отец облысел уже к тридцати. Я вывернулся из-под ее руки: