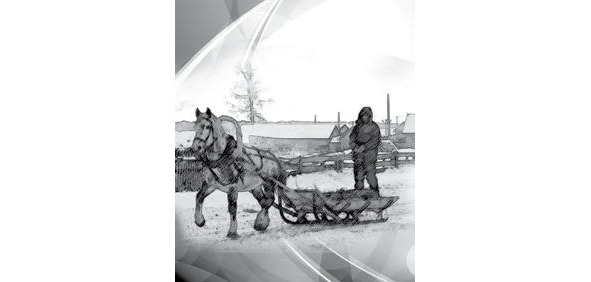ТЫ – АЗИЯ
Ты – Азия,
Не перекати-поле,
Не трын-трава,
А золотой ковыль.
Скажи, скажи,
Какое душит горе?
Какая мука доставляет боль?
Ты – Азия,
И горы, и межгорье,
Степная дорогая наша мать,
Окаменело в молчаливом споре
Глядишь на краснокаменную рать.
Ты – Азия,
Кричишь нам непогодой,
Веселым ветром хочешь нас обнять…
Скажи, скажи, Какую твою гордость
Должны мы сердцем и умом понять?
Буряту Баяру Жигмытову, поэту
…Рыжий конь по Боргою летит,
хватая ноздрями ароматы костра из аргала.
Лунноликий!
В улыбке подобный луне,
Улыбаешься и безмолвно взгляд опускаешь
В беспредельной любви к аргамаку.
Милый друг мой!
Тоскует седло по тебе,
Убивается-бьется птица в окне.
Наклоняется мама головою к полыни и маку.
Рыжий конь по Боргою летит, как стрела,
Сквозь отар вечеряющих шепоты…
Ты уехал, Баяр, поклониться спеша,
прислониться щекой дорогому улусу.
Ты уехал.
Твой скорый, спешащий в Пекин,
Перекинулся за горизонт.
Ты ушел.
Но осталось вино на столе.
Мы остались при нем
околачивать груши
самых спелых времен.
Стенания на кургане
О, динлин из Динлин-го,
Пращур выжженных язычеств,
Ты один из сотен тысяч вас,
Не знающих богов,
Распростерт передо мною.
И возлег среди рогов
(Так предписывал обычай)
Здесь, ввиду останков дичи,
Ритуальных, верно бычьих?..
Может быть, иных обличий…
Слег с трофеями врагов
Средь кувшинов керамичных,
При оружьях и с тамгою.
(Но не воин…
Где же доблесть?
Перебита шеи область
Иль оглоблей, иль дугою…)
И – любовно и с почетом,
И с признанием отличий.
О, динлин… один… кругом.
Небо бледно-голубое
Распростерто над тобою
Поминальным пологом
И лазурною дугою…
Что ты там, в зените, ищешь?
В прах и пепел сокрушен
Сокрушенной степи пращур,
Згу из черепа тараща,
Важен ты или смешон,
Если мыслишь ты – о чем?
Иль о вечном?..
Иль о пище?..
О, динлин из Динлин-го,
Пращур выжженных язычеств,
Ты один из сотен тысяч вас,
Не знающих богов,
Распростерт передо мною…
Средь курганов – мой каков?
***
Степь…
Стелется ковыль…
Поклон глубок…
И судорогой ссучившихся сук
Клубится змей спарившихся клубок.
И суслик, встав, улавливает звук.
Выпь хочет выпить —
с ночи до утра —
Как будто ее, сонную,
сосут.
И путник в шкуре зябнет у костра
и держит рог архара, как сосуд.
Степь…
Вызверилась Азия моя!
Куда ни кинь – везде её глаза.
Везде и стать, и гнев, и зов зверья…
Чисты лишь – беспристрастны! —
небеса.
***
Не забытый Богом уголок,
солнцем прокаленный, ветром гнутый….
Степь и бор! Вполне возможно, Бог
здесь любовь испытывал…
В минуты сотворенья рек и островов
как он холил перекатов пенье!
Как библейский раб его Иов,
может быть, испытывал терпенье,
населяя райские места
нашим прапрапрадедом и …бабой
в в шалашах с ракитова куста,
под дуплистополою корягой.
Наблюдая размноженья пыл,
Ликовал Господь: «Ого, отава!»,
Насаждал осоку и ковыль,
ягодник и хмель, смеясь лукаво.
По утрам туманил острова
томной грустью девы волоокой.
И питалась росами трава,
и дурила за речной протокой…
Был еще, вполне возможно, Бог
эклектичен несколько мгновений,
когда куст калины, сделав вдох,
запалил, как фокусник и гений…
Оградил селение горой,
окружил болотом и забокой.
И – озвучил, как пчелиный рой.
И насытил – патокой и током.
Стоп! Вот здесь я не могу понять,
что творец содеял с атмосферой…
Утром небо хочется обнять!
На ночь в стог переселиться
с верой, что изо дня в день, из века в век
никакой не будет перемены!
А я есть и буду – человек
на своей земле и во Вселенной!
Стоп… стоп… стоп! Конечно, перебор.
Передозировка хвойной хмари.
Точит глаз сентиментальный сор.
Лезут в душу солнечные твари.
***
Империя накренилась к закату.
В азарт вошли её гробовщики.
Как гул камней и вод по перекату,
Молва и эхо сорвались с цепи.
Неистовствует смерть ужасным всплеском,
Как жуткий бред, неистовствует жизнь…
И снова бродит волчьим перелеском,
Плодится по империи «аизм».
Марксизм… нацизм… слепой джихад ислама,
Объединясь с коррупцией системной,
Как воющая бомба окаянная,
Как волчий вой – заходятся на жизнь…
Империя в закате беззащитна.
Так сука беззащитна от тоски.
Так нация – в среде утрат людских —
Стенает. Распадаясь на куски.
***
Что блазнится в панораме?
Тесь. Селенье в пойме рек,
в заветерье, под горами…
Гвоздь пейзажа – человек!
Лесостепь и степь с полынью.
Хвойный бор с бурундуком.
Поле гречки – белым клином.
Эхо – ухо с языком.
Плесы, заводи, песочек,
прокаленный добела.
Оп!.. Обрыв. А там – мысочек.
Тина. Омут. Вурдалак.
Рыбачок настороженный!
Безмятежная вода…
И мотив земли мажорный,
страстно названный – страда!
Страдовало наше племя —
от мала до велика —
на покосе, где беремя
собирало в волока.
Волока – на волокуши,
да в копешки, да в стога.
Ах, покосы!.. Это кущи
деревенского мирка.
Сквозь века неторопливо
по лугам бредут стада.
Песнь молочного разлива
до-мажор берет с ведра.
Ботала (чу! – ксилофоны)
в хор полуденных цикад
вносят умиротворенный,
равнодушный, мерный лад.
И бредут стада лениво,
и мычат на облака.
Затуманивает нивы
пар парного молока.
Вечереет. Свет заката
багровеет над селом.
Это было все когда-то
в мире, отданном на слом.
***
Тесь – это речка Тесинка любимая.
Бирюзовое русло, куда мы сигали
в пополуденный зной, как ельцы и налимы.
Перекаты лизали следы за ногами.
…Это плесы песчаные, пляжи валунные,
над которыми чайки крикливо кружали,
на которых девчонки, совсем еще юные,
нас, совсем еще юных, за руки держали…
Тесь – это кузня, конюшня, курятник…
И четыре бригады, а пятая – кладбище!
Это церковь. Увы, как униженный ратник,
как расхристанный раб – без иконы и крыши.
Это Ленин. Товарищ, разрушивший церковь,
соборность, духовность, державность и веру,
стоящий в акациях, брошенный в сквере,
и в славе, и в чести, и в силе померкнув.
Тесь – это клуб обветшалый, но имени
позабытого в Летах героя …Савицкого.
(По старинным архивам советские пимены
сохранили в анналах следы летописные.)
…Это клуб, кинозал и пристройка из бруса,
биллиард и спортзал, и для танцев фойе…
Отодвинулось время! Дюже дальше Убруса.
А душа о былом, об ушедшем поет.
Тесь – это улицы и переулочки.
Та – Гробовозная, та – Теребиловка…
Здесь мы жили-дружили… Валечки… Шурочки…
У кого – перекресток, у кого и развилка.
Тесь – это люди. Родные тесинцы!
Это Бальде, Байковы, Филатовы, Юшковы…
Это Зайцевы, братья и сестры красивые,
Нестеренко, Натыры, Мужайло и Пташкины.
Коренные – Осколковы, Бяковы, Юдины,
Горьковские Акуловы, чьи-то Курбатовы,
Это Савины – братья, и братья Прокудины…
В достославные годы, в шестидесятые…
***
Прослезился над картиной: дорогая пастораль —
речка Тесь с болотной тиной.
Впрочем, речка-то – едва ль.
Заболоченное русло, потеряв державный вид,
уж не властно, как ни грустно, мою память оживить.
Помню: давешние люди брали летний перекат,
замочив не только муди, но и груди (у девчат).
Говорят, водились щуки.
Ну, а снизку пескаря – на жареху! —
лишь со скуки не ловила ребятня.
И куда ж, куда уплыли перекаты, пескари?..
Тебя, речка, заловили… Да не люди… Технари.
***
– Ты, Ленька? Ты, правда, вернулся?
И снова сюда – насовсем?
Сорвался с таежного курса?
С маршрута сошел, Алексей?
«Наверно… возможно… посмотрим…» —
я им отвечал невпопад.
И рад был тому, что усмотрен,
и узнан, и принят назад.
Какое счастливое чувство:
открыть интерес земляков
к себе, не к персоне искусства,
не к автору беглых стихов,
к себе, деревенскому Леньке,
из прежних односельчан,
уехавших в город давненько
учиться конкретным вещам…
Вернулся не рваным, не пьяным,
не конченным вечной нуждой.
Возможно, немножечко странным
и …обремененным виной.
Виной не виной… Сожаленьем
за четверть-вторую годов,
за службу до самосожженья
у лживых идей и богов.
Вернулся обросшим телесно
и отягощенным душой.
Я дома. Сельчане, мне лестно:
вы интересуетесь мной.