Глава 1 Возникновение и развитие придворной поэзии IX – начала XII века
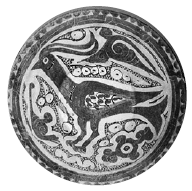
Сведения средневековых источников достаточно разнятся в отношении того, что считать первым поэтическим произведением, составленным на новоперсидском языке.
Некоторые историографы возводят начало новоперсидской поэзии еще к доисламской эпохе и приводят стихотворение, якобы принадлежащее Сасаниду Бахраму Гуру (исторический Варахран V Сасанид, V в.). По легенде, Бахрам начал слагать стихи по законам арабской поэтики в Хире, столице подвластного Сасанидам арабского княжества Лахмидов и признанном центре придворной культуры, куда его отослал отец, получивший предсказание астрологов, что наследнику предстоит вырасти на чужбине.
Существуют и версии о более позднем возникновении первых рифмованных и метризованных строк на фарси. Арабоязычный историк ат-Табари (838–923) донес до нас текст небольшой насмешливой песенки на персидском языке, датируемой 727 и 737 гг., сложенной жителями Балха по поводу неудачного похода арабского наместника Хорасана Асада ибн Абдаллаха против горцев Хутталяна:
Из Хутталяна ты пришел,
С опозоренным лицом пришел,
Сокрушенным обратно пришел,
Израненным, измученным пришел.
Одни средневековые филологи считают, что первым стихотворением является ода жителя Мерва Аббаса (ум. 816) в честь будущего аббасидского халифа ал-Мамуна (813–833), перса по матери и женатого на иранке, в которой говорится, что никто ранее не применял персидского языка для стихов и что имя Мамуна должно облагородить этот язык для поэзии. Другие утверждают, что первые персидские стихи сложил Абу Хафс Согди Самарканди (IX в., иногда – начало VIII в.):
Горная серна, каково ей бегать в степи?
Нет у нее друга, каково ей бродить без друга?
Анонимная «История Систана» (IX в.) содержит описание события, связанного с захватом Йакубом ибн Лейсом (867–879) власти в Систане, Кабуле, Кермане и Фарсе. Вернувшись в 867 г. в Герат из удачного военного похода, Йакуб, по свидетельству источника, «убил несколько оставшихся там непокорных и забрал их имущество. Тогда поэты сочинили в его честь арабские стихи… Когда огласили эти стихи, Йакуб – а он был неуч – не понял их. При этом присутствовал Мухаммад, сын Васифа, который был дабиром и хорошо знал грамоту. А в это время персидской письменности не существовало. Тогда Йакуб сказал: “Зачем говорить то, чего я не постигаю?”. Тогда Мухаммад, сын Васифа, и начал сочинять персидские стихи, и был первым человеком среди аджамцев, сочинившим персидские стихи».
В известной антологии Даулатшаха Самарканди «Тазкират аш-шу‘ара» есть рассказ о том, как сын Йакуба ибн Лейса, увидев брошенный в игре орех, катящийся в лунку, радостно воскликнул: «Катясь, катясь доходит до дна ямки», и будто придворные ученые признали детский возглас за стих, составленный по законам арабского стихосложения, выдержанный в размере хазадж.
Несмотря на разноречивость свидетельств о времени появлении поэзии на новоперсидском языке, большинство источников склонно относить это явление к IX в. Упадок халифата Аббасидов привел к возникновению локальных центростремительных процессов, особенно зримо проявившихся в восточных частях империи, на территории исторических областей Хорасана и Мавераннахра. Началось возрождение политической самостоятельности Ирана, когда местные правители в пределах своих владений получили фактически неограниченную власть, как, например, Саманиды (900–999), в государство которых вошли Восточный Иран и Средняя Азия. Саманидские правители и их наместники, прочно обосновавшись в Самарканде, Бухаре, Балхе, Герате и других центрах этого региона, обеспечили политическую устойчивость и культурный подъем подвластных им областей. Превратив свой двор и два основных столичных города – Самарканд и Бухару – не только в средоточие арабской учености, но и очаги возрождения персидской словесности, они инициировали деятельность по собиранию древних исторических сказаний и поощряли придворную поэзию на новоперсидском языке. Культурная политика Саманидов обеспечила концентрацию при дворе значительных литературных сил и формирование той среды, в которой зажглись первые яркие звезды персидской поэзии. Наиболее крупным поэтом саманидского придворного окружения был Рудаки, получивший прозвища «Соловей Хорасана» и «Адам поэтов Ирана».
Рудаки
Творчество Рудаки во многом определило дальнейшее развитие персидской поэзии. Его полное имя – Абу ‘Абдаллах Джа‘фар ибн Мухаммад Рудаки Самарканди. Родился Рудаки около 860 г. в окрестностях Самарканда, где в 1940 г. в кишлаке Рудак-и Панджруд известным таджикским писателем и ученым Садриддином Айни и была обнаружена его могила. Таким образом, литературное прозвище Рудаки, которым он пользовался в своих стихах, является не тахаллусом (поэтическим псевдонимом), как полагали ранее, а нисбой, т. е. прозванием по месту рождения. Согласно сведениям, содержащимся в поэтических антологиях ‘Ауфи (XIII в.), Даулатшаха Самарканди (XV в.) и др., Рудаки был слеп от рождения. Однако в средневековой историографии, начиная с ХШ в., существовала также версия насильственного ослепления поэта, отчасти подтвержденная при восстановлении портрета Рудаки по его черепу советским ученым-антропологом М.М. Герасимовым.
Еще в молодости Рудаки пригласили в качестве придворного поэта в Бухару, где он провел большую часть жизни на службе у Саманидов. Бухара в то время по праву считалась центром возрождавшейся иранской культуры. Саманиды были щедрыми меценатами и покровительствовали развитию поэзии. В город ко двору стекались ученые, поэты и другие представители «людей пера» (ахл-и калам), архитекторы и строители. В богатейшем книгохранилище в Бухаре, по свидетельству Абу ‘Али ибн Сины, были «такие книги, которые многим людям неизвестны даже по названию».
О прижизненной славе и популярности Рудаки свидетельствуют хвалебные отзывы о его стихах как современников поэта, так и стихотворцев более позднего времени. Например, Шахид Балхи (ум. 936) посвятил Рудаки следующие строки:
Стихи поэта подобны [обычным] словам,
А стихи Рудаки – это подобие [речей] пророка.
Для [других] поэтов «великолепно» и «прекрасно» – это хвала,
Для Рудаки «великолепно» и «прекрасно» – это хула.
Самое раннее свидетельство о количестве стихов Рудаки принадлежит поэту ХII в. Рашиди Самарканди и приведено ‘Ауфи в его антологии «Лучшие из лучших» (традиционный перевод названия – «Сердцевина сердцевин») (Лубаб ал-албаб):
Если кто-либо достигнет главенства в красоте стиха,
То Рудаки тот, кого украсит главенство над поэтами.
Я сосчитал его стихи тринадцать раз сто тысяч,
И даже больше получится, если посчитать как следует.
Эти стихи можно толковать по-разному: «сосчитав тринадцать раз, насчитал всего сто тысяч», или «сосчитал и получил тринадцать раз по сто тысяч», т. е. 1 300 000 бейтов. Даже если последняя цифра кажется явным преувеличением, реальный объем произведений Рудаки был очень велик. Однако из этого огромного наследия до нас дошло лишь порядка тысячи бейтов, кропотливо извлеченных специалистами из разных средневековых источников – антологий, словарей, исторических сочинений. Принято считать, что рукописи его стихов, подобно многим, составленным и переписанным в течение Х–ХII вв. и хранившимся в дворцовых библиотеках Хорасана и Мавераннахра, погибли во время монгольского нашествия.
Из всех произведений Рудаки полностью дошли только две касыды. Первая из них получила в иранистике название «Мать вина» (по первым двум словам). Сохранилась она благодаря тому, что была включена в текст анонимной «Истории Систана» (ХI в.), в которой описано событие, послужившее поводом для составления касыды. Хроника сообщает, что эмир Хорасана послал дары наместнику Систана в благодарность за военную поддержку при подавлении мятежа одного из военачальников. Правитель сопроводил свою щедрую награду парадным стихотворением Рудаки, восхваляющим добродетели адресата. О самом событии в касыде ничего не говорится, однако воспеваются качества отборного вина, которое также было частью подношения наместнику вместе с драгоценной чашей, «десятью яхонтами, десятью верблюдами, груженными тканями, десятью рабами, десятью тюркскими невольницами, которые были украшены драгоценностями и восседали на конях. Поскольку касыда была сочинена по этому случаю, эмир повелел отослать ее вместе с другими дарами» (перевод А.М. Мирзоева).
«Мать вина» построена по классической схеме арабской касыды и состоит из двухчастного вступления и целевой панегирической части. Стихотворение начинается с «мифологизированного описания» (Е.Э. Бертельс) процесса приготовления вина, представленного как страдания «чада виноградной лозы». Поэт в метафорической форме рассказывает о сезонных сроках сбора винограда и приготовления вина: когда следует снять урожай винограда, как его следует давить, в какую посуду поместить сок, когда снять пену с перебродившего сока и когда запечатать сосуды. По всей видимости, тексты, содержащие описание вина и виноделия, приурочивались к двум большим сезонным праздникам – весеннему Наурузу и осеннему Михргану, в ритуалы которых с доисламских времен, вероятно, могло входить почитание аграрных божеств, связанных с умирающей и воскресающей природой. В этом смысле Рудаки превосходно приспосабливает заимствованную форму арабской касыды для воплощения излюбленной тематики старых иранских календарных песен, которые бытовали в эпоху Сасанидов и, предположительно, входили в число «царских песнопений» (суруд-и хусравани).
Начинается касыда так:
Мать вина следует принести в жертву,
Дитя ее схватить и заключить в темницу.
Но не сможешь ты отнять у матери дитя,
Если прежде не раздробишь ей [кости] и не извлечешь
ее душу.
Только ведь не дозволено отнимать
Младенца от материнской груди,
Пока не минуло полных семь месяцев кормления грудью
С начала урдибихишта до конца абана.
Только после этого возможно по законам веры и
справедливости
Дитя [бросить] в тесную темницу, а мать [принести]
в жертву.
Вслед за рассказом о приготовлении вина и красочным описанием его качеств поэт вводит во вступительную часть касыды картину придворного пиршества, выполненную в технике описания (васфа): называет имена приближенных эмира и услаждающих их слух музыкантов, любуется красотой юных тюрков-виночерпиев, перечисляет предметы богатой утвари и цветы, которые украшают пиршественное застолье. Вступительная часть в целом представляет собой блестящий образец жанра «винной» лирики (хамрийат). Наследуя эту популярную традицию арабской поэзии аббасидского периода, Рудаки вносит в нее элементы местной культуры, тесно связанные с древним мифопоэтическим сознанием. Логика развертывания мотивов, использованная Рудаки в этой части, может быть истолкована как своеобразная проекция ритуала оплакивания умирающего божества (страдания «чада виноградной лозы») и праздничного ликования по поводу его воскресения (пиршество). Придворная поэзия, взявшая на себя роль сопровождения сезонных торжеств, принадлежавшую ранее «царским песнопениям», унаследовала от них не только ряд стандартных тем и набор сезонных слов, но и ощутимые связи с древними ритуалами. Широкое распространение календарных зачинов в касыдах X–XI вв. свидетельствует о том, что в эпоху распространения ислама в Иране древние сезонные праздники справлялись при дворах местных правителей порой с той же пышностью, что и при Сасанидах, теряя лишь свой ритуальный смысл и приобретая взамен черты церемониала.
Далее в касыде «Мать вина» следует переход к восхвалению, в котором поэт, в соответствии с каноном, должен был явить особое искусство в соединении мотивов вступления и целевой части (фигура хусн ат-тахаллус):
Когда же на радость виночерпию несколько кругов
обойдет вино,
Повелитель мира, весело и счастливо смеясь,
Из рук черноглазого тюрка с ликом пери,
Со станом словно кипарис, и кудрями, словно чауган[3],
Примет кубок того благовонного вина,
И вспомнит образ властелина Саджастана (Систана).
Сам выпьет за его здоровье, и вельможи вслед за ним,
И скажет каждый, весело беря в руки [чашу] вина:
«На радость Абу Джа‘фара Ахмада бен Мухаммада,
Того Месяца благородных и Гордости Ирана…»
Основная часть касыды, следующая за приведенным переходом, содержит рекордное число мотивов восхваления доблестей адресата. Восхваляемый (мамдух) должен являть собой образец идеального правителя и быть равным в своих достоинствах известным историческим и легендарным личностям: мудростью он подобен Сократу и Платону, знанием установлений шариата – Шафи‘и и Абу Ханифе[4], справедливостью – Сулейману, смелостью и отвагой – богатырям Саму и Исфандйару. При этом Рудаки легко объединяет в своем перечне персонажей мусульманской священной истории, греческих мудрецов и героев старого иранского эпоса. По существу, поэт как бы предлагает своим последователям готовый каталог мотивов восхваления, которым традиция и воспользовалась в полной мере.
Как известно, арабская поэтика считает самовосхваление (фахр) родственным восхвалению. По этой причине поэты часто включали мотивы самовосхваления в панегирическую часть касыды. Подобным образом поступает и Рудаки:
О Рудаки! Ради блага и восхваления всех людей
Восславь его и получи [от него] благорасположение и милость.
Но если все силы свои соберешь и сложишь [стихи],
Если заостришь свой разум напильником,
И если в подчинении у тебя будут две сотни ангелов,
Да еще и ловкие пери, и сколько ни есть джиннов и шайтанов,
Не сможешь ты сложить [стихов], достойных его.
Ступай же и принеси то, что сложил, как сложить невозможно.
Вот восхваление по моим силам –
Все слова [его] красивы, а по смыслу [оно] легко.
И все равно не могу я сложить того, что достойно эмира,
Хоть в стихах я – Джарир, и Таи, и Хассан[5].
Хвала эмиру, и благодаря ему – хвала всему миру,
От него и украшение (зинат), и сияние (фарр), и радость,
и покой.
Сильно страшусь я, что слабость моя обнаружится,
Хотя я – Сари‘ с красноречием Сахбана[6].
Приведенный фрагмент демонстрирует синтез двух концепций поэтического творчества, одна из которых утверждает, что поэзия творится с помощью искусства, родственного мастерству ремесленника, и базируется на применении благоприобретенных навыков, совершенствуемых в практике («приложишь старание», «отточишь разум напильником»), другая же предполагает ниспослание поэтического дара свыше («сложил, как сложить невозможно»). Обоснованием второй концепции у Рудаки служит реминисценция коранического айата, содержащего мотив несотворенности Корана и лежащего в основе теории «неподражаемости Корана» (и‘джаз ал-Кур‘ан): «Скажи: “Если бы собрались люди и джинны, чтобы сделать подобное этому Корану, они бы не создали подобного, хотя бы одни из них были другим помощниками”» (Коран 17:88). В том же пассаже Рудаки упоминает знаменитых арабских мастеров слова, являющихся ориентирами и образцами для подражания. В дальнейшем у поэтов газнавидского окружения (например, Манучихри) это перечисление разрастется за счет упоминания персидских поэтов. В любом случае здесь мы имеем дело с первым из дошедших до нас списков имен стихотворцев, олицетворявших традицию, какой она представлялась иранцам в период становления поэзии на новоперсидском языке.
Отметим также, что поэт выделяет самовосхваление в составе мадха, дважды упомянув свое литературное имя в начале и конце фрагмента. Таким образом, использование поэтического псевдонима (тахаллуса) в качестве средства маркировки значимых элементов в структуре касыды восходит к самому раннему периоду развития литературы на новоперсидском языке.
Другая дошедшая полностью касыда Рудаки получила название «Старческой». Она начинается следующими строками:
Стерлись и выпали у меня все зубы.
Нет, то были [даже] не зубы, а сияющие светочи.
Далее поэт рассуждает о законах вечно изменяющегося мира: там, где некогда была пустыня, расцвели сады, и снова сады сменила бесплодная степь, то, что некогда было лекарством, станет ядом, а потом яд снова превратится в лекарство, и т. д. Человек подчинен тем же законам, что и бренный мир.
Рудаки вспоминает ушедшие дни молодости, когда он был беззаботен, красив и богат, удачлив в любви и обласкан сильными мира сего:
Что ты знаешь, о луноликий(ая), с мускусными кудрями,
О том, каков я был раньше.
Ты красуешься перед ним своими вьющимися локонами,
Ты не видел(а) его раньше, когда у него были вьющиеся локоны.
По традиции считается, что в этой касыде Рудаки обращался к юному исполнителю своих стихов (рави), известному под именем Мадж. По-видимому, в старости потерявший голос поэт не мог уже, как прежде, петь свои стихи под аккомпанемент чанга или руда и потому нанял помощника на манер доисламских арабских поэтов. Сохранились строки, в которых Рудаки обращается к рави по имени:
О Мадж! Теперь ты учи наизусть мои стихи и пой их.
От меня – чувство и мысль, от тебя – плоть и душа.
Подводя на склоне лет итог своей жизни, Рудаки так определяет в «Старческой касыде» предназначение поэта:
О, сколько сердец я уподобил шелку при помощи стихов,
А ведь прежде были они [тверды], как камень и наковальня.
Вспоминая прошлое, Рудаки гордится своей ролью «государственного поэта» и своим влиянием при саманидском дворе, считая щедрость покровителей заслуженной наградой таланту:
Где бы ни был в мире именитый дихкан,
В его доме для меня всегда находились и серебро, и конь.
Кому-то величие и богатство доставалось от тех или других,
А ему (Рудаки) величие и богатство достались от Саманидов.
Эмир Хорасана вручил ему сорок тысяч дирхемов,
К ним прибавил одну пятую часть [этой суммы] эмир Макан.
От его вельмож тоже восемь тысяч
Досталось мне тогда. Хорошие были времена!
Этот фрагмент «Старческой касыды» представляет собой образец самовосхваления поэта с отдельными вкраплениями славословия в адрес покровителей. Точные суммы гонораров, полученных за стихи, которые называет Рудаки, призваны придать индивидуально-авторский оттенок традиционным мотивам восхваления щедрости адресата.
Присутствие конкретных биографических деталей в концовке стихотворения побудило исследователей распространить автобиографическое толкование на весь остальной текст. Между тем, несмотря на внешнюю повествовательность и сглаженность отдельных частей, «Старческая касыда» построена по канонической схеме развертывания устойчивых мотивов. Насиб (вступительная часть) демонстрирует традиционное соседство сетований на быстротечность человеческой жизни («стихи о седине») и воспоминаний о молодости и любви (похвальба успехами у женщин восходит к ‘умаритской традиции арабской любовной лирики[7]). Целевая часть касыды представляет собой сочетание мотивов самовосхваления и восхваления, в котором предпочтение отдается фахру. Единство многочастному произведению придает сильное повествовательное начало при практически полном отсутствии элементов описания (васф), за исключением двух бейтов в начале касыды, содержащих элементы канонического портрета юного красавца, чьи зубы похожи на жемчуга, утренние звезды и капли дождя, гладкая кожа напоминает шелк, а кудри чернее смолы. Преобладание повествовательного способа развертывания мотивов над описательным вполне укладывается в нормы персидской классической касыды, хотя более привычным является их сочетание. Логическое и интонационное единство стихотворения подкреплено на уровне структуры текста наличием анафорических повторов и кольцевой композиции, поскольку последний бейт возвращает слушателя от рассказа о беспечной юности к теме старости, которой открывается касыда:
Нынче времена изменились, да и я уже не тот.
Подай посох, ибо настало время посоха и сумы.
Автобиографические детали, включенные в «Старческую касыду», оказываются вовлеченными в систему устойчивых мотивов и поэтических формул самовосхваления и восхваления. Спустя век они сами становятся частью постоянного фонда мотивов и в разных вариациях используются такими поэтами рубежа XI и XII веков, как Киса'и Марвази, ‘Унсури, Азраки, Сузани Самарканди и др.
Средневековая традиция поэтических антологий считает касыдой также широко известное стихотворение Рудаки, которое начинается словами «Аромат ручья из Мулийана доносится…», хотя по объему оно не отвечает требованиям этой формы. Существует легенда, зафиксированная в книге Низами ‘Арузи Самарканди «Собрание редкостей, или Четыре беседы» (ХII в.), согласно которой это стихотворение Рудаки сложил по просьбе саманидских придворных с целью побудить эмира Насра возвратиться в столицу Бухару из затянувшейся на долгое время поездки в Герат. Поэт лаконично и просто рисует переход через Аму-Дарью отряда всадников, спешащих в родную Бухару. Заканчивается фрагмент здравицей в честь эмира и его стольного града, что впоследствии станет одним из обязательных атрибутов хвалебных стихов, содержащих мотивы «местного патриотизма» (термин З.Н. Ворожейкиной):
О Бухара! Ликуй и пребудь в веках!
Эмир к тебе, радуясь, путь держит.
Эмир – кипарис, а Бухара – сад.
Кипарис в [свой] сад возвращается.
Эмир – месяц, а Бухара – небеса.
Месяц в небеса восходит.
Услышав эти стихи, положенные Рудаки на музыку и исполненные под музыкальный аккомпанемент, эмир возжелал в тот же момент отбыть в Бухару. Он велел оседлать коня и вскочил в седло, не надев даже сапог для верховой езды, и придворные догнали повелителя только после первого перегона. Характерно, что в ХV в. автор знаменитой «Антологии поэтов» (Тазкират аш-шу‘ара) Даулатшах Самарканди (XV в.), сторонник «украшенного» поэтического стиля, удивлялся тому, что это «простое и лишенное приемов и фигур» стихотворение могло оказать такое воздействие на венценосного слушателя. Между тем восхищенный Низами ‘Арузи выделяет только лишь в одном первом бейте семь поэтических фигур: мутабик (одно из названий фигуры радд ал-‘аджуз ила-с-садр – возвращение из конца в начало), мутазад (противопоставление), мураддаф (украшение радифом), байан-и мусават (соразмерность слова и смысла, занимает промежуточное положение между такими качествами речи – байан, как «пространная» – баст и «краткая» – иджаз), ‘узубат (изящество, букв. «приятный вкус воды»), фасахат (ясность) и джазалат (сила и яркость выражения).
Среди сохранившихся стихов Рудаки есть несколько отрывков из вступительных частей «поздравительных» касыд, приуроченных к Наурузу и Михргану. «Осенний» зачин практически столь же прост по стилю, как и приведенное выше стихотворение, и начинается такими строками:
О царь! Пришел праздник Михрган,
Настал праздник шахов и царей.
Меха взамен шелков и шатров
Заполнили цветники и сады.
Мирт взамен лилии появился опять,
Вино сменили [цветы] багряника.
Ты благороден, и [сияет] юностью твое счастье,
В честь твоей судьбы явилось молодое вино.
Век спустя в творчестве поэтов газнавидской школы (Фаррухи, Манучихри) тема празднования Михргана нашла продолжение и приобрела форму «плодового» зачина. В касыдах и мусамматах Манучихри на эту тему поэт XI в. объединил описание плодов осени, «виноградарские» и пиршественные мотивы, заимствованные из касыды «Мать вина», и некоторые мотивы приведенного фрагмента, например, упоминание одежды из меха, сменившей шелковую.
Весьма разнообразны по тематике дошедшие лирические стихотворения Рудаки, среди которых можно выделить фрагменты любовного, «вакхического» и философско-дидактического содержания. Сохранилось также некоторое количество отрывков из поминальных элегий (марсийа), написанных на смерть поэтов- современников (Муради, Шахид Балхи), с которыми Рудаки связывали тесные дружеские отношения.
Наибольшее количество стихов Рудаки сложено о любви. Так, описанию состояния души влюбленного посвящено следующее стихотворение:
Шквал разлуки с тобою, о стройный кипарис,
С корнем вырвал древо моей жизни.
Так зачем же я привязан к ней всю жизнь,
Если эта сложенная вдвое коса – не аркан?
Ни одну живую душу не спросить,
Сколько стоит один поцелуй рубиновых уст.
Разгорится огонь в сердце [твоей] красоты
От тех [искр], что высекла разлука с тобой из моей груди.
В большинстве любовных стихотворений Х в., и это касается не только Рудаки, страдания влюбленного подаются почти всегда параллельно с упоминанием традиционных деталей портрета идеальной красавицы: стан-кипарис, косы-аркан, брови-луки, уста-рубины и т. д.
Многие строки Рудаки воспевают любовь и вино как средства познания радостей земного бытия, что дает основание считать лирику поэта предтечей хайамовской:
Веселись с черноокими, веселись,
Ведь этот мир – лишь сказка и ветер.
Надо радоваться будущему
И не стоит вспоминать о былом.
Я и та, чьи кудри благоухают амброй,
Я и та луноликая, рожденная гурией.
Блажен тот, кто раздавал и проедал,
Несчастен тот, кто не проедал и не раздавал.
Увы, этот мир – лишь ветер и облако!
Подай вина, и будь что будет!
Стихотворение содержит уже знакомые нам любовные мотивы: первый бейт трактует любовь как наслаждение в преходящем и непостоянном мире «сказки и ветра», третий бейт содержит стандартный образ совершенной красавицы, сравнимой лишь с райской гурией. Однако любовные мотивы в данном отрывке повернуты к слушателю своей философской стороной. Любовь в данном стихотворении не составляет самостоятельного объекта описания – она лишь символ человеческой радости в переменчивом мире «ветра и облака» и смысл самой жизни. Найдя опору в любви и радости жизни, Рудаки призывает своего героя без страха и печали смотреть в будущее. Следует отметить, что сочетание в рамках одного стихотворения мотивов, относящихся к различным традиционным жанрам (газал, зухдийат, хамрийат), – явление достаточно редкое в персидской лирике Х в. с ее четкими границами жанрово-тематических категорий. В отрывке, в целом выдержанном в гедонистических тонах, поэт использует и мотивы, заимствованные из арабских стихов в жанре зухдийат (аскетическая лирика).
Наиболее вероятным источником заимствования данного круга мотивов можно считать знаменитые стихи Абу-л-Атахии: «О строящий (здания), которые будут разрушены временем! Строй что угодно: всё ты найдешь в развалинах… О если бы ты видел здешний мир зорким оком! Ведь это только мираж и полуденная тень, всё время движущаяся…» (Перевод И.Ю. Крачковского).
Впрямую перекликаются с приведенными строками арабского поэта и другие стихи Рудаки, выдержанные в традиции жанра зухдийат:
Все великие мужи [этого] мира умерли,
Перед смертью склонили головы.
Сошли под землю те,
Кто воздвиг все [эти] дворцы и [разбил] сады.
Традиционный мотив «строителя дворцов высоких» восходит к аравийскому преданию о царе Шаддаде, воздвигшем «многоколонный Ирам» – легендарный город, украшенный драгоценными камнями, который, по мысли его создателя, должен был уподобиться раю. В наказание за грехи его жителей город был разрушен Аллахом, а предание об этом стало выражением идеи бренности земного благополучия: «Разве ты не видел, как поступил твой Господь с ‘Адом, Ирамом, обладателем колонн, подобного которому не было создано в странах?..» (Коран 89: 6–8).
При всей фрагментарности дошедшего до нас наследия Рудаки оно дает возможность реконструировать раннюю стадию формирования классической поэзии на новоперсидском языке во всем ее жанровом многообразии, включая и крупные эпические формы. Собранные исследователями буквально по строкам отрывки из разных маснави поэта позволяют судить о том, что Рудаки был автором нескольких поэм, сложенных разными поэтическими метрами (рамал, мутакариб, хафиф, два варианта размера хазадж, музари‘, сари‘). Средневековые источники между тем сообщают лишь о двух поэмах – «Солнцеворот» (Дауран-и афтаб) и «Калила и Димна». Ученые спорят, сюжет какой из среднеперсидских обрамленных повестей лег в основу второй из названных поэм Рудаки: был ли это действительно сюжет «Калилы и Димны», восходящий к древнеиндийской «Панчатантре», или поэт использовал другой источник – «Книгу Синдбада», вошедшую в арабский свод «Тысяча и одна ночь» под названием «Рассказ о царевиче и семи визирах». Нет единства мнений и относительно количества поэм, сложенных Рудаки, – разные специалисты приводят цифры семь (И.С. Брагинский) или девять (М. Мирзоев).
В течение многих лет Рудаки был поэтом номер один и любимцем Саманидов, но под конец жизни его судьба, по всей видимости, изменилась. Есть основания полагать, что он подвергся опале из-за своей симпатии к «нечестивым карматам» (одной из ветвей исмаилитов)[8], косвенным подтверждением чему может служить высочайшая оценка его стихов со стороны такого видного поэта и идеолога исмаилизма, как Насир-и Хусрав (1004–1077). Считавший Рудаки своим наставником в искусстве сложения стихов, Насир писал:
Много стихов об отречении от мира и в наставление сложил
Тот поэт незрячий, но ясновидящий.
Прочитав их, обратись к речам Худжжата (т. е. Насира),
Разрисованным мыслью и полным наставлений.
Если во время намаза прочтешь ты его стихи,
Дух Верный пошлет тебе вослед «Аминь!»
Хотя некоторые исследователи считают, что приведенные строки посвящены не Рудаки, а слепому арабскому поэту-философу ал-Ма‘ари, которого Насир посетил во время своего путешествия на запад мусульманского мира, еще одним подтверждением его преклонения перед Рудаки может служить такой бейт:
Душу свою ради восхваления семьи Пророка
Порой превращу в Рудаки, порой в Хассана[9].
Как бы то ни было, судя по косвенным данным, Рудаки был отлучен от двора и умер глубоким стариком в родном селении (941 г.). На протяжении многих столетий, затихая и возникая вновь, звучали в стихах персидских поэтов отголоски бессмертных строк Рудаки, облеченные то в прямые цитаты, то в подражания, то в едва уловимые реминисценции. О легендарной славе Рудаки свидетельствуют строки, приведенные тем же Низами Арузи в «Четырех беседах»:
Из всей роскоши этого мира
Кто остался из рода Сасана и рода Самана?
Остались славословия и хвалы Рудаки,
Остались мелодии и сказы Барбада.
Современники Рудаки
О поэтах-современниках и первых преемниках Рудаки известно еще меньше, чем о нем самом. Старые антологии и толковые словари сохранили для нас лишь имена и немногочисленные строки таких известных в Х в. стихотворцев, как Шахид Балхи, Абу Шукур Балхи, Дакики и др.
Талантливый поэт Шахид Балхи (ум. 936), писавший по-персидски и по-арабски, был, вероятно, еще незаурядным философом и искусным каллиграфом. В средневековом библиографическом сочинении ан-Надима «Фихрист» сведения об ученых занятиях Шахида Бахи содержатся в главе, посвященной знаменитому философу Мухаммаду ибн Закарийа ар-Рази (865–925), где говорится, что последнему принадлежал трактат под названием «Книга возражений против Шахида ал-Балхи по поводу его возражений по вопросу о [сущности] наслаждения». Отметим, что столь выдающийся ученый, как Закарийа ар-Рази, вряд ли стал бы посвящать целую книгу дискуссии с другим философом, если бы не считал его равным себе. В той же главе говорится, что в науке Шахид «следовал взглядам [ар-Рази]». О вошедшем в легенду искусстве Шахида-каллиграфа спустя век напишет Фаррухи: «Почерк у него таков, что не отличить от почерка Шахида».
С легкой руки известного востоковеда Джорджа Дармстетера поэта стали называть первым пессимистом в персидской литературе. Основание для этого действительно дают некоторые афористические строки Шахида, например, такие:
Если бы у печали был дым, как у пламени,
Вечной тьмою покрылся бы мир.
Обойди из конца в конец хоть весь свет,
Не встретишь ни одного веселого мудреца.
Во многих из сохранившихся стихов Шахида звучат сетования на засилье невежества и на непризнание обществом людей мудрых и просвещенных. Вошли в поговорку его строки:
Знание и богатство – нарцисс и роза,
Не цветут они в одном месте.
У кого есть знание, тому не хватает богатства,
А у кого есть богатство, мало знания.
Мотивы осуждения невежества и жалобы на бедственное положение просвещенных людей своего времени роднят стихи Шахида Балхи со стихами других ученых, которые позже снискали славу и в литературе, например, Абу ‘Али ибн Сины и ‘Умара Хайама.
Другой поэт – современник Рудаки Абу Шукур Балхи (род. 915) получил известность благодаря дошедшей в небольших отрывках поэме «Книга творения» (Афарин-нама), законченной в 947 г. Очевидно, это было этико-наставительное произведение, выдержанное в духе раннесредневековых пехлевийских «книг советов» (панд-намак). Маснави, написанное метром мутакариб, в соответствии со старой традицией начинается с похвалы разуму (ср.: среднеперсидское сочинение «Суждения Духа Разума»):
Наделенный Разумом знает, что есть праведность и что есть
совесть,
Что есть правдивость, благородство и сдержанная речь.
Бывает нрав праведников и нрав ангелов
И на земле, и на небесах.
Говорит мудрец: «Разум – падишах,
Который правит равно над вельможей и над простолюдином.
Для Разума тело человека есть войско,
Все плотские страсти и желания [человека] у него в подчинении.
Если ты не знаешь [чего-нибудь], Разум тебя научит.
Если ты зачахнешь, Разум тебя излечит».
Об устойчивости традиции восхваления разума в персидской литературе свидетельствует начало поэмы «Шах-нама» Фирдауси (см. далее). Поэма Абу Шукура Балхи представляет собой сумму морально-этических сентенций, по существу лишенных каких бы то ни было разъяснений и иллюстраций, за исключением коротких афористических высказываний (хикмат). Дальним отголоском этой традиции светской дидактической поэмы специалисты считают знаменитую поэму Са‘ди «Бустан», на что указывает не только ее содержание, но и совпадение по метрической модели (она тоже написана размером мутакариб).
Еще одной литературной знаменитостью Х в. был Дакики. Предполагается, что он втайне придерживался обычаев старой веры, за что, возможно, и поплатился жизнью. Согласно данным средневековых источников, он погиб от руки своего любимца-раба между 977 и 981 гг., когда ему было около 30 лет.
Дошедшие до нас стихотворения Дакики на календарную тему отличаются живописностью и яркостью образов, как, например, стихотворение, начинающееся словами «О кумир, райское облако накинуло на землю халат месяца урдибихишт»:
Земля – словно окропленная кровью парча,
Воздух – словно окрашенный в индиго шелк.
Всё [вместе] напоминает вином и мускусом
Нарисованный в степи портрет подруги.
От глины исходит аромат розовой воды,
Словно глина замешена на розах.
Далее в стихотворении автор сравнивает пестреющую весеннюю степь с разноцветным павлином, а цветущие в садах деревья – с разодетыми красавицами. Вся картина создает ощущение праздника, а заканчивается стихотворение строками, содержащими своеобразное жизненное кредо поэта:
Дакики четыре вещи избрал
Из всего хорошего и дурного в этом мире:
Губы цвета коралла, стоны чанга,
Вино цвета лунного луча и веру Заратуштры!
Прославился Дакики тем, что задумал и частично осуществил поэтическую обработку доисламских иранских эпических сказаний. Возможно, в основу своей версии «Книги царей» поэт положил первый прозаический извод пехлевийской «Книги владык», выполненный арабским автором ХI в. Мас‘уди. Поставив перед собой грандиозную задачу, автор успел написать лишь около тысячи бейтов, которые впоследствии Фирдауси, как дань уважения предшественнику, включил в свою эпопею, предпослав соответствующей части поэмы рассказ о трагической гибели Дакики.
Свою историю иранцев Дакики начинает с появления пророка Заратуштры в эпоху правления Кайанидов и воспроизводит один из эпизодов цикла эпических сказаний, известный из пехлевийского сочинения «Предание о сыне Зарера» (Йадгар-и Зареран). Главный герой у Дакики – витязь Исфандйар.
Среди современников Рудаки выделяется незаурядным талантом поэтесса Раби‘а бинт Ка‘б Куздари (Х в.), носившая прозвище «Краса арабов» (Зайн ал-‘араб). Происходила Раби‘а из знатного арабского рода: ее отец был наместником в Балхе. Еще в Средневековье вокруг ее имени сложились легенды, повествующие о любви аристократической красавицы к рабу своего брата по имени Бекташ. По всей видимости, эти легенды возникли в качестве псевдоисторического комментария к стихам поэтессы, в которых говорилось о любовных страданиях. Предание гласит, что эта любовь закончилась трагически: по приказу разгневанных родственников девушку замуровали в жарко натопленной бане, вскрыв ей вены. Умирая, она писала на стене кровью свои последние стихи. Письменная традиция закрепила легендарную биографию Раби‘и Куздари в качестве символического выражения любви человека к Богу. Сюжет этот был использован в поэме ‘Аттара «Илахи-нама» (конец XII – начало XIII в.) и в любовно-мистическом маснави поэта, филолога и историка ХIХ в. Риза Кули-хана Хидайата «Цветник Ирама» (Гулистан-и Ирам).
Характер некоторых стихотворений Раби‘и также позволил суфийским авторам истолковать их как «чистейшее выражение божественной любви» (шейх Абу Са‘ид б. Абу-л-Хайр Майхани[10]). Действительно, мотивы любовной лирики поэтессы находят дальнейшее развитие именно у суфиев. Вот один из наиболее ярких примеров:
Я снова попалась в тенета любви,
Все мои усилия [вырваться] были бесплодны.
Любовь – это бескрайнее море,
Разве можно переплыть его, о несчастный?
Ты хочешь довести любовь до конца?
О, сколько неприятного тебе придется признать приятным!
Надо смотреть на безобразное и считать его прекрасным,
Надо вкушать яд и считать его сахаром.
Рвалась я, как необъезженный конь, не знала я,
Что чем сильнее дергаешь, тем туже затягивается петля.
Приведенное стихотворение – типичный образец ранней газели, повествующей о превратностях любви. Оно увенчано изящным афоризмом и окрашено в дидактико-рефлективные тона. Близкие мотивы разрабатываются в одной из мистических газелей Сана'и (XII в.): Любовь – это бескрайнее море, а вода в нем – пламень,
Набегают волны, словно горы, объятые мраком…
Корабли [там] – печали, якоря там – терпение,
Паруса наполняются ветром несчастий.
Меня вопреки моей воле бросили в пучину морскую,
Как пример благородного, чье одеяние – любовь.
Раби‘а была двуязычным автором, и при том, что из ее наследия сохранилось сравнительно немного, именно ей принадлежит один из самых ранних образцов макаронического стиха (муламма‘, букв. «пестрый») в персидской классической поэзии:
Наполнила меня истомой стонавшая птица,
Обострила мою болезнь, усилила мои воспоминания[11].
Вчера ночью на ветке дерева та птица
Стонала и горестно рыдала.
Я спросила птицу: «Зачем ты стонешь и плачешь
В темной ночи, когда сверкают звезды?
Я в разлуке с другом, потому и стенаю,
Ты-то отчего стонешь? Ведь ты с милым другом…
Я пою, когда лью кровавые слезы,
Ты почему поешь, когда кровавых слез не льешь?»
Приведенный фрагмент воспроизводит один из излюбленных мотивов традиционных арабских насибов – разговор с птицей, имевший длительную историю бытования еще в доисламской и ранней исламской поэзии. Так, поэту Кайсу ибн ал-Мулавваху по прозвищу Маджнун принадлежит известное стихотворение, построенное как разговор с вороном. Возможно, на формирование образности стихотворения Раби‘и повлияла также и местная – иранская женская фольклорная лирика. Своеобразная поэтическая манера Раби‘и позволила Е.Э. Бертельсу выделить ее произведения, «проникнутые теплотой и искренностью», из общей массы придворной любовной лирики Х века.
Еще одним получившим широкую известность поэтом саманидского времени, родившимся, правда, уже после смерти Рудаки, был Абу-л-Хасан Киса'и Марвази (род. 963). Он считается одним из самых ранних мастеров жанра описания (васф), получившего широкое распространение в ХI в. в среде поэтов газнавидского круга. Вступления к его касыдам содержат сложные поэтические фигуры и метафорические бейты-«картинки», предвосхищающие стиль придворной поэзии более позднего времени:
Настал день и вытащил свой полированный щит,
А с неба полился камфарный (т. е. белый) свет,
Как будто бы подруга свои синие одеяния
Распахнула до самого пупка.
Солнце вступает в брак со звездой Каноп,
Когда от горизонта поднимает полированную голову.
Взгляни на отражение солнца, [на это] знамя мира:
Словно красное вино пролилось на лазурь,
Или это на лужайку фиалок бросила тень красная роза,
Или это лепесток тюльпана упал на зеленые всходы,
Или это яркий костер разожгли на Востоке,
Или это расстелили алую парчу.
Как видно из приведенного фрагмента, описание рассвета у Киса'и оставляет ощущение торжественности и праздничной нарядности, хотя по существу в нем не содержится целостной картины, а лишь многократно варьируется мотив появления первого луча восходящего солнца.
Киса'и открывает череду стихотворений, в которых так или иначе обыгрываются мотивы «Старческой касыды» Рудаки. В отличие от стихотворения Рудаки, где очевидны жанровые вкрапления самовосхваления и восхваления, текст Киса'и целиком выдержан в традиции «стихов о седине», для которых характерна элегическая тональность: поэт сетует на быстротечность человеческой жизни, на превратности судьбы, подчинившей его талант необходимости содержания многочисленного семейства:
До трехсот сорок первого года дошел черед,
Была среда, три дня оставалось до конца месяца шаввал,
Когда я пришел в этот мир, чтобы что сказать и что сделать?
[Чтобы] слагать песни и радоваться благам и богатствам.
[Но] подобно вьючному животному прожил я всю жизнь,
Став рабом своих детей и пленником семьи.
Что остается у меня от этих пятидесяти сосчитанных
полностью [лет]?
Книга отчета с сотней тысяч грехов и мечтаний.
В ранний период развития литературы на фарси практика составления подражаний или ответов на произведения предшественников (назира), видимо, еще не приобрела формального статуса, предполагавшего сохранение в стихотворении-подражании размера и рифмы первоисточника. При написании ответа речь могла идти о заимствовании мотивов образца, что и демонстрирует касыда Киса'и, в которой автор прибегает к сходным со стихотворением Рудаки грамматическим построениям (адресованные самому себе вопросы и ответы на них) и использует ту же лексику. Третий бейт совершенно очевидно содержит противительную интерпретацию одного из мотивов «Старческой касыды» – мотива необремененности поэта семейными заботами и тяготами («Не имел я ни семьи, ни жены, ни детей: от всего этого был я свободен»).
Сходство касыд Рудаки и Киса'и заключается также в стремлении актуализировать традиционные мотивы за счет введения в текст документальных деталей автобиографического характера. Рудаки указывает точные суммы вознаграждения за стихи, полученные им от многочисленных покровителей из окружения Саманидов, а Киса'и называет дату своего рождения и возраст, в котором он сложил данное стихотворение. По существу, мы имеем дело с одним из ранних случаев датировки лирического произведения.
• Фирдауси
Культурно-политическая ситуация Х века благоприятствовала пробуждению у восточных иранцев, населявших саманидские владения, интереса к историческому прошлому и стремления воссоздать его в письменной форме. Продолжая шу‘убитские традиции, многие деятели независимого иранского государства обратились к собиранию преданий, восходящих к доисламской эпохе. Имеются сведения, что некий Абу-л-Муа'йад Балхи, современник Рудаки, составил прозаическую книгу «Шах-нама», опираясь, по-видимому, на арабские источники. Большой прозаический свод преданий под тем же названием был составлен по приказу наместника области Тус и Нишапур, а позже и всего Хорасана Абу Мансура Мухаммада ибн ‘Абд ар-Раззака (уб. 962). Он дал поручение своему визиру Абу Мансуру Ма‘мари собрать разрозненные пехлевийские фрагменты «Хвадай-намак» и изложить их на языке дари. Работа была осуществлена в созданной для этих целей так называемой Абумансуровой академии (или комиссии), куда входили четыре авторитетных знатока старых преданий. Сохранившийся фрагмент введения к этой книге считается самым ранним образцом новоперсидской прозы. Непосредственным предшественником Фирдауси, задумавшим изложить в стихах исторические предания Ирана, был упоминавшийся ранее Дакики.
На этом фундаменте и строил Фирдауси свое монументальное эпическое произведение, в основе которого лежит представление о вечном противоборстве добра и зла, света и тьмы, пронизывающее зороастрийскую картину мира.
Точных данных о жизни Фирдауси мало. Полностью доверять можно лишь тем разрозненным сведениям, которые сам автор сообщил о себе в поэме. В историю литературы он вошел под тахаллусом «Райский», смысл которого, по всей видимости, связан с представлением о божественном происхождении поэтического дара. Дата рождения поэта колеблется между 932 и 941 гг. Происходил он из дихканской семьи, жившей в предместье города Тус (близ Мешхеда), называемом Баж. В это время старое средне- и мелкопоместное дворянство исконно иранского происхождения, не нашедшее себе места в условиях изменившейся социально-политической конъюнктуры, испытывало большие материальные затруднения, что, кстати, отразилось и в толковании самого термина дихкан, который постепенно изменил значение «землевладелец» на значение «крестьянин». Жалобы на бедственное материальное положение неоднократно встречаются и в лирических отступлениях главного труда Фирдауси – поэмы «Шах-нама».
В зрелом возрасте у Фирдауси возникает замысел продолжить дело, начатое Дакики, и воссоздать в полном объеме историю иранского государства. Грандиозность задачи потребовала нескольких десятилетий работы: по разным подсчетам, автор писал свою поэму от двадцати до тридцати пяти лет. Легенда гласит, что «Шах-нама» была заказана Фирдауси султаном Махмудом Газнави (998–1030), однако более вероятно, что сам автор предназначал ее предшественникам Газнавидов на иранском престоле – Саманидам. Когда поэма была закончена, Саманиды, поклонники и ревнители иранской старины, уже утратили свою власть, уступив ее под натиском союза тюркских племен, создавших государство Караханидов. Фирдауси, по-видимому, пришлось снабдить произведение новым посвящением – бывшему вассалу Саманидов, а ныне всемогущему правителю Махмуду Газнави, также захватившему часть саманидских владений. Представив «Шах-нама» султану, поэт ожидал обещанного высокого вознаграждения – по легенде, ему полагалось по одному золотому динару за каждый бейт. Однако Махмуд не оценил по достоинству грандиозный труд поэта, и оплата оказалась оскорбительно низкой, ибо вся сумма была заплачена серебром. Разгневанный поэт роздал полученные деньги гонцу, банщику и продавцу пива, поскольку султанский посланник застал его в бане. После этого Фирдауси сложил едкую сатиру на султана, в которой, издеваясь над низким происхождением правителя, объявил его самозванцем. Отрывок из этой сатиры сохранился благодаря тому, что был приведен в книге Низами ‘Арузи Самарканди:
Что можно ждать от рожденного рабом,
Хотя бы отец его и стал [впоследствии] царем?
Сколько я могу об этом говорить?
Подобно морю, я не знаю границ.
Не для добрых дел могущество этого шаха!
Иначе он усадил бы меня на трон.
Поскольку в его роду не было величия,
Не мог он слышать имени великих.
Опасаясь преследований, Фирдауси надолго покидает родные места, скитается и странствует. Под старость он все же сумел вернуться на родину: известно, что умер поэт в своем селении между 1020 и 1026 гг. Духовенство отказалось хоронить его на мусульманском кладбище, ибо всю жизнь он воспевал «нечестивых язычников». Существует предание, что когда из одних городских ворот выносили погребальные носилки с телом умершего поэта, в другие ворота входил караван с богатыми дарами от раскаявшегося султана Махмуда, в конце концов, оценившего великое творение Фирдауси. Сюжет о конфликте царя и поэта вдохновил в свое время немецкого романтика Генриха Гейне на создание баллады «Поэт Фирдауси», переведенной впоследствии на русский язык В. А. Жуковским.
«Шах-нама» огромна по объему – в ней 60 тысяч бейтов, и она охватывает историю царствования пятидесяти трех правителей Ирана. В соответствии с источниками, на которые опирался Фирдауси, специалисты выделяют в ней три большие части: мифологическую, легендарную (богатырскую) и историческую.
Создавая стихотворную историю Ирана, Фирдауси следовал династийной хронологии, почерпнутой им, по-видимому, из официальных сасанидских историографических сочинений. Согласно ей, Ираном правили последовательно четыре династии: Пишдадиды, царствовавшие в течение 2441 года, Кайаниды, царствовавшие 732 года, Ашканиды, т. е. парфянские правители, управлявшие страной после завоевания ее Александром Македонским в течение 200 лет, и Сасаниды, правившие в течение 501 года. В итоге царствования этих династий охватывают период в 3874 года. Поскольку достоверно известно, что последний представитель династии Сасанидов Йаздигирд был убит осенью 651 г., то начало истории Ирана по нашему летосчислению следует относить к 3223 г. до н. э. Эта историческая концепция, закрепленная в эпоху Сасанидов, сильно расходится с европейскими представлениями о Древнем Иране, базирующимися на античных источниках. Особенно удивительным для европейцев было полное отсутствие упоминаний об Ахеменидах, хотя существование этой династии подтверждено не только сведениями греческих историков, но и хорошо сохранившимися наскальными надписями представителей этого правящего дома. Хотя в «Шах-нама» присутствуют эпизоды, повествующие о правлении царей династии Кайанидов Дараба и Дара, которые легко идентифицируются с историческими ахеменидскими владыками Дарием I и Дарием III, Фирдауси ничего не говорит о первых ахеменидских царях, в том числе об основателе династии Кире Великом.
Открывается «Шах-нама» восхвалением Творца, которое начинается словами «Во имя Господина души и разума». Знаменательно, что современные иранцы нередко используют эту формулу в начале любой устной или письменной речи наряду с общей для мусульманской традиции формулой «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного».
Хвала Господу по зороастрийской традиции плавно переходит в восхваление Разума (ср.: «Афарин-нама» Абу Шукура Балхи):
Теперь, о разумный, к описанию разума
Обратиться самое место и время.
Теперь расскажи все, что о разуме знаешь,
Чтобы ухо слушателя рассказу внимало.
Разум – лучшее из того, что даровал Господь.
Похвала разуму – лучший из путей, что Он дал.
Разум – проводник, разум – дарующий сердцу радость,
Разум защитит тебя в обоих мирах.
От него происходит радость, от него и печаль твоя,
От него тебе прибыль, от него тебе и ущерб.
Если разум замутнен, пусть даже душа светла у мужа,
Нет ему ни минуты радости.
Каждый, кого не ведет вперед разум,
Ранит сердце своими деяниями.
Разумный назовет такого безумцем,
Такого близкий сочтет чужаком.
От него (разума) – почет в обоих мирах,
А кто слаб разумом – у того ноги в оковах.
Разум – это око души, если приглядеться,
Без глаз радости мира останутся для тебя недоступными.
Узнай, что разум был сотворен первым.
Он – страж души и тех трех (божьих) даров.
Эти три дара тебе – глаза, уши и язык.
Без сомнения, от них проистекает для тебя и добро, и зло.
Кто разум и душу возьмется восславить?
А если я восславлю, кто возьмется выслушать?
Подобные вводные главы, предваряющие начало повествования, играют важную роль в композиции «Шах-нама». Таких глав одиннадцать, они сравнительно небольшого размера, и это первый в новоперсидской поэзии образец подобного рода интродукции. Вслед за похвалой разуму следует глава о сотворении мира и человека, славословие пророку Мухаммаду и праведным халифам. Далее располагается блок глав, посвященных возникновению замысла поэмы и собиранию материалов для нее: «О собирании книги», «Рассказ о поэте Дакики», «Рассказ о дорогом друге» («Заложение основы книги»). В первой речь идет о том, как собирал древние сказания Абу Мансур б. ‘Абд ар-Раззак, во второй – об авторе первой поэтической обработки старых сказаний, в третьей – о том, как один из друзей поэта принес ему «эту переписанную пехлевийскую книгу» (т. е. прозаическую версию Абу Мансура). Фирдауси рассуждает о трудностях воплощения своего грандиозного замысла, но его сомнения развеивает поддержка друга и обретенная книга:
Был у меня в городе один добрый друг,
С ним мы были словно [два ядрышка] в одной скорлупе.
Он сказал мне: «Хорош твой замысел,
К благому направлена твоя стопа!
Эту переписанную пехлевийскую книгу
Я принесу тебе, если ты бодр [духом].
И бойкий язык, и молодость – при тебе,
И богатырская речь[12] – при тебе.
Давай, сложи эту книгу о царях
И тем обрети славу среди великих».
Завершает блок вводных глав восхваление султана Махмуда Газнави. Характерно, что в поэме имеется не только «большая», открывающая ее интродукция, но и «малые» интродукции, предваряющие отдельные сказания (дастаны), которые некогда могли бытовать самостоятельно. О наличии отдельных древних сказаний Фирдауси говорит так:
В стародавние времена была одна книга,
В ней заключено множество повестей (дастан).
Разрозненная, она в руках у многих мубадов[13],
У всякого ученого мужа – из нее частица.
После Фирдауси обычай начинать произведение крупной формы с глав интродукции постепенно становится общепринятой нормой. Несмотря на то, что в разных поэмах XI в. количество глав и общий объем интродукции существенно разнятся, и их тематика, и место в композиции произведения постепенно канонизируются. Важно отметить, что мотивы авторской рефлексии, присутствующие в составе интродукций, отражают процесс становления поэтики крупных стихотворных форм. В силу отсутствия в поэтической практике на арабском языке больших эпических повествований, соответствующая проблематика в теоретических трактатах не отражена.
Фирдауси начинает повествование с рассказа о царствовании Кайумарса (авест. Гайомартан) – первого человека и первого царя, перечисляя его деяния на благо людей. Кайумарс учит подданных носить одежду из барсовых шкур, готовить еду, приручать диких животных и т. д. По сути, первый человек совмещает функции царя-первозаконника и культурного героя, как и все последующие представители первой династии царей Ирана, приобщавшие людей к различным благам цивилизации. Следует отметить, что в иранской мифологической традиции не сложилось единого взгляда на родословную первых людей из династии Парадата (букв. «Данные первыми», «Впереди поставленные», среднеперс. и перс. Пишдадиды). По сравнению с ранними авестийскими сведениями генеалогическое древо Пишдадидов в «Шах-нама» упрощено: каждый последующий царь является прямым потомком предыдущего по мужской линии. По-видимому, в изложении генеалогии древних людей Фирдауси следовал поздним компилятивным зороастрийским сводам, таким как, например, «Бундахишн».
Вторым представителем династии Пишдадидов у Фирдауси является Хушанг, внук Кайумарса и сын рано погибшего от руки Черного дива Сийамака. В Авесте этот царь носит имя Хаошьянгха и является дальним потомком Гайомартана – между ним и первым человеком разница по меньшей мере в три поколения. Хушангу помимо обычных деяний культурного героя, таких как орошение земли, добыча железа из руды, изобретение орудий труда, приписывается также змееборческая функция, что свидетельствует о чрезвычайно древнем происхождении этого образа, уходящего корнями в архаические хтонические мифы. Подобно богу-громовержцу, Индре или Зевсу, Хушанг борется со Змеем, воплощающим идею зла и хаоса. В ходе сражения Хушанг случайно добывает огонь (вариант мифа о добывании огня культурным героем) и устанавливает в честь этого события один из самых почитаемых древними иранцами праздников – Сада, приходящийся на день зимнего солнцестояния.
С кавийской силой бросил [Хушанг камень].
Отпрыгнул Змей, сжигающий Вселенную, от Устанавливающего
порядок.
Попал в большой камень маленький,
И тот и другой камни расколол витязь.
Возникла искра от [удара] двух камней,
Душа камня стала огненной от искры.
Змей не был убит, но таинственным образом
От этого свойства камня разгорелся огонь…
Сказал [Хушанг]: «Огонь этот – Божественный.
Поклоняйтесь ему, если вы наделены разумом».
Пришла ночь, [и] возжег он огонь, подобный горе.
А сам со своим окружением расположился вокруг него.
Праздник устроил он в ту ночь и пил вино,
Назвал Сада тот благословенный праздник.
Многие эпизоды «Шах-нама», рассказывающие о сражении витязей со змееподобными противниками, восходят к схеме ритуала Сада и лежащего в его основе змееборческого мифа: в описании поединка повторяются некоторые действия персонажей и главные атрибуты события. Так, Ардашир после убийства Червя в крепости Хафтвада возжигает священный огонь, т. е., подобно Хушангу, восстанавливает нарушенный миропорядок. Сходными чертами обладают эпизоды борьбы богатырей Сама и Исфандйара с чудовищами.
После Хушанга иранский престол наследует его сын Тахмурас (Тахма-Урупи Авесты), которому приписывается ряд традиционных деяний царя-цивилизатора. Главным из них является овладение тайной письменности, которую были вынуждены открыть правителю поверженные им дивы.
Наследником Тахмураса был легендарный царь «золотого века» Джамшид (авестийский Йима). Как и остальные первые цари, Джамшид выступает в роли культурного героя. Во время своего семисотлетнего правления он не только обучает людей навыкам цивилизации, но и разделяет их на четыре сословия согласно занятиям – жрецов, воинов, земледельцев и ремесленников:
В каждом сообществе собрал он людей по их занятиям,
И ушло на это еще пятьдесят [лет].
[Первое] сословие, которое ты называешь катузи,
Коих ты знаешь как служащих барсаму,
Отделил он от других сословий,
Назначив поклоняющимся [Богу] место обитания в горах.
И там, поскольку их занятием является служение [Богу],
Они пребывают в трепете перед пречистым Господом.
Были отобраны во второе сословие [те],
Кого именуют нисар,
Там собрались отважные воины,
Озаряющие войско и страну,
Ведь ими держится шахский престол,
Ведь ими преумножается воинская слава.
Признай третьим сословием басуди (вар. пасуди, насуди),
Где только ни питают к ним благодарность.
Они сеют, пашут и собирают урожай
И, вкушая хлеб свой, не внимают хуле.
Они свободны от приказов, хоть и бедно одеты,
Их слух закрыт для бранных слов.
Процветает и обустраивается ими земной мир,
Свободны они от судей и пересудов.
Ведь сказал же красноречивый благородный муж:
«Свободного лень превратила в раба».
Четвертое [сословие] зовется ахтухоши,
Это – гордые ремесленники,
Все они заняты своим ремеслом,
Всю жизнь они что-то придумывают.
Вот так пятьдесят лет
Вкушал [плоды своих дел], вершил дела и раздавал дары.
Для того он каждому подходящее место в обществе
Выбрал и указал путь,
Чтобы каждый свою долю
Узнал и понял предназначение.
Фирдауси придерживается авестийской версии правления Джамшида, в царствование которого люди обрели бессмертие, забыв о болезнях, страданиях и зле. Тем не менее представление о Джамшиде (Йиме) как о спасителе человеческой цивилизации от потопа, донесенное Авестой и раннесредневековыми источниками, в «Шах-нама» не отражено.
В царствование Джамшида возникает один из главных сезонных праздников древних иранцев – Науруз. В изложении автора «Шах-нама» этот праздник был установлен в память о великих деяниях Джамшида:
Когда все его деяния были завершены,
Стал ногами попирать он стоянку Луны.
С благословения фарра Кайанидов возвел он трон
И украсил его всеми драгоценностями, которыми обладал.
По его повелению див
С земли до небес [этот трон] возвел.
Подобный сияющему в небе Солнцу,
Восседал на нем царь-повелитель.
У подножия трона собрался весь народ,
Удивляясь его счастливой доле.
Осыпали они Джамшида драгоценными каменьями,
Нарекли тот день «Руз-и нау» (Новый день).
И был тот день в начале года днем хурмуз месяца фарвардин,
Днем освобождения от тягот земных…
Этот благословенный праздник с тех пор
Достался нам в память о великих правителях.
Иное объяснение причины установления Науруза можно найти в трудах известного мусульманского энциклопедиста ал-Бируни (ХI в.), который в своем трактате «Памятники минувших поколений» писал следующее: «Дело в том, что Иблис, проклятый, уничтожил благодатные свойства [пищи и питья], и люди стали непрерывно пить и есть, [но не могли насытиться], и воспрепятствовал ветру дуть, так что все деревья высохли, и мир едва не перестал существовать. Тогда Джам по повелению и указанию Бога пошел в сторону юга и направился к обиталищу дьявола… Он находился там…, пока не прекратил эту напасть, и вернулись к людям умеренность, благо от пищи и от плодородия… Тогда Джам возвратился в мир и взошел в этот день, как Солнце, и разлился от него свет, ибо был он светозарен, подобно Солнцу, и подивились люди восхождению двух Солнц. И зазеленело все то, что высохло, и люди сказали: “Руз-и-нау” – то есть “Новый день”».
В предании, пересказанном Бируни, Джамшид выступает в ипостаси исчезающего и возвращающегося божества, отвечающего за смену сезонных циклов и поддержание природной гармонии, в чем отчетливо видны следы древней мифологемы.
Осознание своего величия ввергает Джамшида в грех гордыни, за что он должен неминуемо получить возмездие. Следуя древним источникам, Фирдауси говорит о наказании Джамшида следующее: «Когда он произнес такую речь, фарр Господень от него отлетел, и в мире пошли разговоры».
Известно, что Авеста отразила также и другую версию грехопадения Йимы, приписав ему грех мясоедства, чему он научил и других людей, за что был наказан лишением бессмертия и божественного права на престол.
«Золотой век» Ирана заканчивается. Лишившись поддержки благих сил и подданных, Джамшид погибает от руки чужеземца Заххака, совращенного Иблисом (Сатаной) с праведного пути и участвовавшего в убийстве собственного отца. Фирдауси приписывает Заххаку арабское происхождение и наделяет персонаж антропоморфным обликом, тогда как его авестийский прототип выступает в образе змея или дракона Ажи Дахаки. Древняя хтоническая природа Заххака проявляется в виде змей, вырастающих из его плеч от дьявольского поцелуя и терзающих его тело, если их не кормить человеческим мозгом. Отметим характерное для эпического повествования троекратное повторение действия: Иблис является Заххаку сначала в образе проповедника, затем в образе повара и, наконец, в образе лекаря. Во время правления узурпатора Заххака Иран погружается во тьму. Однако, по замыслу Фирдауси, торжество злых сил не может продолжаться вечно. Бесстрашный кузнец Кава, чьи сыновья были принесены в жертву кровожадному Заххаку, решает мстить за их гибель, и поднимает восстание против тирана. Знаменем восставших становится кожаный фартук кузнеца Кава, насаженный на древко, который впоследствии будет превращен в государственный штандарт Ирана. Восставшие призывают законного наследника престола Фаридуна, сына Атибина (Атвийа Авесты – второй человек, выжавший сок хаомы), происходившего из рода Тахмураса и убитого злодеем Заххаком. Мать законного наследника иранского престола по имени Фаранак бежала с младенцем в неприступные горы, спасаясь от преследований узурпатора. Достигнув пятнадцатилетнего возраста, Фаридун решает мстить за смерть отца и покарать тирана.
Имя Фаридун восходит к авестийскому имени Траэтаона и означает «третий». В индоевропейской мифологической традиции третий, младший из братьев, зачастую является героем-змееборцем и победителем зла. В борьбе против Заххака Фаридуна поддерживают благие силы, однако двое его старших братьев Пурмайа и Кийануш из зависти замышляют убийство брата. Мотив предательства старших братьев по отношению к младшему традиционен для древних мифологических представлений (см. ниже: убийство Ираджа). Победа Фаридуна над Заххаком воспроизводит древнюю мифологическую модель победы божества или героя над змееподобным противником (Индра и Вритра, Тесей и Минотавр). Фаридун вступает на престол в месяце михр и в честь восстановления справедливости и порядка учреждает праздник Михрган, приходящийся на день осеннего равноденствия 21 октября и являвшийся в домусульманском Иране вторым великим сезонным праздником после Науруза.
На границе «мифологической» и «легендарной» частей «Шах-нама» располагается сказание о разделе владений Фаридуна между тремя его сыновьями – Салмом, Туром и Ираджем. Младшему Ираджу достается в управление Иран и божественное право на престол (фарр), что вызывает зависть со стороны братьев, царствующих в Туране (Китайском Туркестане) и Руме (Малой Азии). Братья злодейски убивают Ираджа (ср.: библейские сюжеты о Каине и Авеле и об Иосифе и злоумышляющих против него братьях), а его внук Манучихр (сын дочери Ираджа), спустя годы, мстит за деда. Это сказание, судя по свидетельствам литературных источников, самостоятельно бытовало в доисламский период, поскольку одна из песен легендарного Барбада, придворного певца Сасанида Хусрава Парвиза, носила название «Гибель Ираджа» (Хун-и Ирадж), а другая – «Месть за Ираджа» (Кин-и Ирадж). С убийства Ираджа между Ираном и Тураном начинается многовековая вражда.
Сказание о Манучихре выделяется исследователями «Шах-нама» как начало так называемой богатырской части эпопеи, в ко торой в действие вступают славные иранские витязи, служащие опорой престола и правящей династии Кайанидов. Богатырская часть в главных своих сюжетах является обработкой так называемого систанского эпического цикла, основными персонажами которого выступают Рустам и его сородичи – дед Сам, отец Заль, сын Сухраб. По всей видимости, в «Шах-нама» соединились две линии развития эпических сказаний, бытовавших на территории Ирана в древности и раннем Средневековье. Первая – «царская», зафиксированная еще в Авесте, повествовала о деяниях царей полулегендарной династии Кавиев (т. е. Кайанидов) и была распространена в западных областях иранского мира с центром в исторической области Фарс. Вторая линия – «богатырская», по-видимому, сложилась в восточных областях и частично дошла до нашего времени в согдийских фрагментах о Рустаме.
В богатырской части «Шах-нама» явственно ощутима связь авторского метода подачи материала с традициями устного эпического сказа, что проявляется в приемах повествования и обрисовки главных персонажей, наделенных сверхчеловеческой силой, неукротимой энергией и воинской доблестью. Чудесным является уже само происхождение подобного героя, указывающее на его избранность: нередко родословную эпических богатырей, возводят к звериному предку, а смягченным вариантом этого мотива служит рассказ о ребенке, вскормленном самкой животного. Так, одного из славных иранских витязей Заля, рожденного в семье систанского богатыря Сама, вскормила вещая птица Симург, ибо он был брошен своим отцом, посчитавшим седину младенца дурным знаком (мотив отмеченности ребенка особым знаком также весьма распространен в биографиях эпических персонажей). Чудесным же образом появляется на свет сын Заля Рустам: по совету все той же птицы Симург матери героя делают кесарево сечение, ибо могучий младенец-богатырь иным путем появиться на свет не может. Как всякий персонаж богатырского эпоса, Рустам растет не по дням, а по часам, и свои первые подвиги совершает еще в детстве (победа над разъярившимся Белым слоном). Получив от своего отца Заля в залог будущих побед гигантскую палицу деда Сама, Рустам выбирает себе под стать огнедышащего коня Рахша, который единственный может вынести тяжесть его руки (странствующий эпический сюжет испытания коня). Во время поездки в Мазандаран на помощь плененному Белым дивом царю Кай-Кавусу Рустам совершает свои семь подвигов (ср.: подвиги героя во время дальнего странствия как устойчивый эпический мотив, например, подвиги Геракла).
Повествования о богатырских подвигах и баталиях перемежаются в эпопее любовными сказаниями. С именем Рустама также связана любовная история, предшествующая рождению его сына Сухраба. Отправившись на поиски своего убежавшего коня, Рустам оказывается в области Саманган, где знакомится с красавицей по имени Тахмина, дочерью местного правителя. Сразу после свадебного пира Рустам уезжает, вручив жене амулет-печатку для передачи будущему ребенку на счастье. Родившийся после его отъезда сын Сухраб, повзрослев и став отважным воином, поступает на службу к царю Турана Афрасйабу и оказывается в стане врагов Ирана. Судьба сводит сына в поединке с отцом, который, в конце концов, смертельно ранит его. По амулету под кольчугой на груди умирающего Сухраба и последним его словам Рустам осознаёт, что убил собственного сына[14]. Пытаясь спасти сына, Рустам обращается к своему повелителю Кай-Кавусу с просьбой дать ему живую воду, однако царь отвечает ему отказом. Отметим, что образ Кай-Кавуса под пером Фирдауси приобретает ряд отрицательных черт и расходится с идеалом правителя, представляя собой один из вариантов описания царя-гордеца.
Среди преданий, связанных с именем Кай-Кавуса, самым пространным в «Шах-нама» является рассказ о его сыне Сийавуше, которому было суждено родиться при неблагоприятном расположении небесных светил. Дурное предзнаменование послужило причиной того, что ребенок был отдан на воспитание Рустаму и до возмужания не знал своего отца. После возвращения Сийавуша под отчий кров умирает его мать, и царицей становится вторая жена Кай-Кавуса Судаба. Юный царевич Сийавуш настолько прекрасен собой, что мачеха начинает испытывать к нему запретную страсть. Судаба тщетно пытается соблазнить пасынка, и когда он отвергает ее притязания, хитростью заманивает его на женскую половину дворца и, исцарапав себе лицо, обвиняет в покушении на ее честь. Кай-Кавус не верит коварной женщине, однако с помощью колдовства ей все же удается заронить сомнение в его сердце. Сийавуша подвергают испытанию огнем, и он выдерживает его с честью. Царь не казнит Судабу только благодаря заступничеству сына и из страха разжечь войну с Йеменом, где правит ее отец.
По прошествии некоторого времени Сийавуш вновь вступает в конфликт с отцом, который нарушает клятву и вероломно казнит туранских заложников. Витязь уходит в добровольное изгнание в Туран, поступает на службу к царю Афрасйабу и женится на его дочери Фарангис. Однако, поверив ложным обвинениям в том, что Сийавуш замыслил продолжить месть за Ираджа, Афрасйаб казнит зятя. Провидя в вещем сне свою скорую смерть, Сийавуш дает наставления Фарангис, и она, беременная наследником иранского престола, опасаясь преследований, бежит от отца. Фирдауси описывает гибель героя как вселенскую катастрофу, что, по-видимому, отражает наличие в сюжете рудиментов мифологического сознания: поднимается сильная буря, весь мир покрывает мгла. Из пролитой крови Сийавуша на голой скале вырастает цветок, который в народе назвали хун-и сийавашан. По этим мотивам, сохранившимся в сюжете о Сийавуше, можно судить о месте героя, восходящего к авестийскому персонажу по имени Сьяваршан («Черный самец»), «коварно убитому Франграсйаном», в древнеиранских мифологических представлениях. Возможно, почитание Сийавуша входило в ритуалы, связанные с культом умирающей и воскресающей растительности. Средневековый историк Наршахи, автор «Истории Бухары» (ХI в.), свидетельствует, что в Бухаре располагалась могила Сийавуша, служившая местом поклонения магов (зороастрийцев). Ежегодно в первый день Науруза каждый мужчина по обычаю приносил в жертву Сийавушу петуха. Наршахи свидетельствует также, что бухарцы исполняли траурные песнопения, оплакивающие гибель божества и получившие название «Плач магов».
Сюжетная линия взаимоотношений пасынка и мачехи в сказании о Сийавуше обнаруживает отчетливые схождения с некоторыми античными и передневосточными мифами об аграрных божествах, прекрасных юношах, ставших жертвами любовного преследования могущественных богинь. По-видимому, подобные сюжеты, повествующие о губительной страсти богини к смертному, госпожи к рабу или мачехи к пасынку, являются вариантами одной и той же мифологемы (Адонис и Артемида, Иосиф Прекрасный и супруга Потифара, Аттис и Кибела и др.). Мотив произрастания трав и цветов из пролитой крови Сийавуша роднит сказание о нем с греческими легендами об Адонисе и Аттисе и свидетельствует о принадлежности сюжета к общей модели центрального индоевропейского календарного мифа. Как правило, этот миф разворачивается в повествование о гибели (или убийстве) и последующем воскресении прекрасного юного героя, являющегося сыном или братом-мужем великой богини плодородия.
На границе богатырской и исторической частей эпопеи располагаются сказания, связанные с борьбой иранцев за правую веру Заратуштры. Частично эти стихи (порядка тысячи бейтов) принадлежат Дакики. Они были включены Фирдауси в текст «Шах-нама» со специальными авторскими ремарками, которые свидетельствуют о том, что мастерство предшественника не слишком вдохновляло поэта, но, тем не менее, он решил отдать дань уважения его памяти. Ключевыми персонажами этой части являются царь Гуштасп, брат царя Зарир (Зарер) и сын царя «бронзовотелый» богатырь Исфандйар, упоминавшиеся еще в Авесте (Виштаспа, Заривари, Спентадата). Сюжеты о двух первых героях изложены в соответствии с Авестой и раннесредневековыми сочинениями, а сказание об Исфандйаре присоединено к сакскому циклу о Рустаме. Для придания повествованию композиционной стройности автор эпопеи вводит в рассказ об Исфандйаре описание его «семи привалов», во время которых он совершает свои знаменитые подвиги (убивает двух волков, львов, сражается с драконом, убивает колдунью и злого Симурга и т. д.). Очевидно, что это описание подвигов Исфандйара симметрично описанию подвигов Рустама.
Фирдауси сводит двух самых славных витязей Ирана в бессмысленном поединке. В результате Исфандйар, пораженный стрелой в единственное уязвимое место – глаз, гибнет, но смерть уготована и Рустаму, ибо убивший Исфандйара неминуемо должен погибнуть сам. Иран остается без защитников. На этих эпизодах в основном заканчивается богатырская часть эпопеи.
Основная масса эпизодов исторической части «Шах-нама» изложена Фирдауси по известным источникам и находит точные соответствия в пехлевийских и арабских историографических и повествовательных сочинениях. Как уже отмечалось, в поэме не упоминаются цари династии Ахеменидов, но некоторым из них легко можно найти соответствия среди представителей легендарных Кайанидов. Другие правители, например, Искандар (Александр Македонский), наделяются псевдоисторической биографией, сильно расходящейся с реальными фактами. Следуя иранским версиям распространенного на Востоке «Романа об Александре», сложившимся, по всей вероятности, в шу‘убитских кругах, Фирдауси рисует Искандара законным правителем Ирана и сыном царя Дараба и его жены, дочери румийского кесаря Файлакуса (имеется в виду царь Македонии Филипп, в действительности бывший отцом, а не дедом Александра). Сказание же о воцарении династии Сасанидов, родоначальником которой является Ардашир Папакан, излагается Фирдауси с опорой на известное пехлевийское сочинение «Книга деяний Ардашира Папакана».
В целом последняя, историческая, часть «Шах-нама» по сравнению с богатырской частью выглядит более схематичной и в подаче материала, и в разработке сюжетов и характеров персонажей. По-видимому, лапидарность изложения явилась одной из причин популярности сказаний этой части в дальнейшей истории иранского классического эпоса: именно из нее почерпнул Низами три из четырех романических сюжетов, использованных им в «Пятерице».
Грандиозная эпопея Фирдауси, по существу, восполнила отсутствующий в древней иранской словесности большой письменный свод, аналогичный «Илиаде» или «Рамаяне» и представляющий собой циклизацию устных сказаний о богах и героях. В целом «Шах-нама» по характеру повествования тяготеет к древней и раннесредневековой иранской традиции, о чем свидетельствует консервация зороастрийских представлений о мироздании, героический пафос основного массива сказаний и сами приемы эпического сказа (постоянные эпитеты, стандартные зачины эпизодов, гиперболизация персонажей и т. д.). Вместе с тем, будучи уже средневековым автором, Фирдауси частично привносит в древние схемы духовные открытия своего времени, усложняя характеры персонажей за счет описания мира их чувств, избегая однозначных оценок поступков и побуждений (наличие положительных героев среди врагов-туранцев, осуждение некоторых деяний иранских царей и витязей и т. д.).
Сам текст «Шах-нама», особенно некоторые дастаны из богатырской части эпопеи (например, «Рустам и Сухраб», «Сказание о Сийавуше», «Бижан и Манижа», «Заль и Рудаба»), продолжили свое существование в сфере устной поэзии сообразно с ее законами, а выбранный Фирдауси метр мутакариб надолго стал ассоциироваться с повествованиями на героические сюжеты. До сих пор на территории Ирана, Афганистана и Таджикистана существуют местные школы декламации «Шах-нама».
После «Шах-нама» подобных эпохальных письменных обработок древних сказаний уже не было – традиция по существу оказалась завершенной. Частичное воспроизведение ее можно видеть в так называемых циклических поэмах, героями которых выступают главным образом предки и потомки Рустама. Процесс циклизации этих сказаний частично происходил по законам устной традиции, и за редким исключением эти поэмы анонимны. Среди них можно назвать поэму «Сам-нама», посвященную деду Рустама, «Джахангир-нама», посвященную его сыну, «Бану Гушасп-нама» – о его дочери и др.
Из авторских «продолжений» «Шах-нама» известна поэма «Гаршасп-нама» Асади Туси (род. ок. 1010), прославившегося также своими касыдами в жанре прений (муназара) («Прение дня и ночи», «Прение копья и лука», «Прение неба и земли», «Прение гебра и мусульманина», «Прение араба и перса»). Еще в молодости покинув родной Хорасан, Асади много странствовал по различным областям, выбирая те места, где продолжали жить потомки старых иранских аристократических родов. По-видимому, он был сторонником шу‘битских политических взглядов, о чем, в частности, свидетельствуют его высказывания в «Прении араба и перса». Этот автор интересен и по ряду других причин. Он является составителем самого раннего из дошедших до нас толковых словарей персидского языка – «Лугат-и фурс». Словарь Асади Туси – исключительно ценный источник, поскольку именно благодаря наличию в нем поэтических примеров на словоупотребление до нас дошли строки навсегда утраченных произведений раннего периода литературы на новоперсидском языке. Без этого словаря мы ничего бы не знали ни о поэмах Рудаки, ни об эпических произведениях ‘Унсури.
Особенно ярко иранофильские настроения поэта и преданность шу‘убитским традициям проявились в пятом муназара, которое носит название «Спор араба и перса» (Муназара-и ‘араб у ‘аджам). Автор, отстаивающий превосходство персов над арабами, прибегает к аргументации совершенно в духе стихов Башшара ибн Бурда:
Если же похвальба идет пищей, и одеждой, и богатством,
То все эти три [вещи] у нас, конечно, лучше, чем у вас.
Ваши самые знатные люди надевают карбас, если есть,
А у нас самые малые носят парчу, и шелк, и полотно.
Ваши жилища – колючки и шатры, и песчаные холмы,
Наши жилища – дома с куполами, цветники и дворцы.
Из бархата ковры в наших домах, из золота кресла,
У вас ковры из верблюжьей шерсти, кресла – седла.
Наша пища – курица и барашек,
А у вас – змеи, саранча, мыши и большие ящерицы, дохлые,
жареные.
От одежды на нашем теле исходит аромат мускуса и амбры,
От ваших одежд – вонь верблюжьего помета и дегтя.
Очевидно, что речь идет о сравнении араба-бедуина и перса, живущего оседло и располагающего всеми благами городской цивилизации. Роскоши и утонченности жизни перса противопоставляется грубый и скудный быт скотовода-кочевника.
В своем эпическом творчестве Асади Туси также, видимо, исходил из идеалов дихканства. В соответствии с законами нормативного искусства он стремился превзойти Фирдауси, улучшить образец. Берясь за обработку древнего предания, Асади стремился доказать свои преимущества перед предшественником в выборе героя и сюжета, о чем прямо заявлял в одной из вводных глав поэмы:
О подвигах Гаршаспа в мире
Осталась в память от великих мужей одна книга…
Долго ли ты будешь слушать о Рустаме?
Ты думаешь, что ему не было подобного по мужеству?
Если вспомнишь о боях Гаршаспа,
Все бои Рустама пустишь по ветру:
Ведь Рустам – это тот, кого гнусный див
Поднял до облака и бросил в реку;
Ослабел он от Хумана с тяжкой палицей;
Побил его страж поля в Мазандаране;
Осилил его смелый Исфандйар;
В борьбе одолел его Сухраб.
Полководца же Гаршаспа, пока он жил,
Никто одолеть не мог, никто не поверг ниц.
Поэма Асади, несмотря на стремление автора следовать Фирдауси (архаическая лексика, гиперболизированные богатырские стати героев, эпическое время, в котором персонажи живут по семьсот лет и более), по жанру не может быть полностью охарактеризована как героический эпос. В поэме сильны элементы авантюрно-рыцарского романа с типичными для него приключениями и скитаниями героя по «чудесным странам».
После «Шах-нама» «большой эпос», наследовавший некоторые черты древнего мифопоэтического сознания и обладавший известной долей синкретизма, прежде всего жанрового, начинает постепенно распадаться. На его месте возникает несколько самостоятельных видов эпического повествования, некоторые из которых явно тяготеют к романической форме. Преимущественное развитие в дальнейшем получают любовно-романический и философско-дидактический эпос.
Относительная централизация и политическая стабильность газнавидского, а затем и сельджукидского государства в XI – первой половине XII в. оказали благотворное влияние на процесс развития литературы, в которой активно формируются новые жанры и трансформируются старые.
Идейно-художественное единство литературы IХ–Х вв., ориентированной на шу‘убитские традиции и возрождение иранской словесности, постепенно размывается. К XI в. на литературную.
Относительная централизация и политическая стабильность газнавидского, а затем и сельджукидского государства в XI – первой половине XII в. оказали благотворное влияние на процесс развития литературы, в которой активно формируются новые жанры и трансформируются старые.
Идейно-художественное единство литературы IХ–Х вв., ориентированной на шу‘убитские традиции и возрождение иранской словесности, постепенно размывается. К XI в. на литературную арену выходят носители эзотерической мысли в исламе (суфии и исмаилиты), которые, так или иначе, противопоставляют свое творчество творчеству придворных поэтов. Таким образом, на обозреваемом историческом этапе художественная словесность разделилась на две основных линии: профессиональная литература, продолжавшая развиваться в придворной среде, и религиозно-мистическая литература, питаемая идеями суфизма и исмаилизма. Естественно, что параллельное развитие двух ветвей литературы неизбежно вело к полемике, которая уже выходила за рамки личного соперничества поэтов. Складывание литературы вне покровительства меценатствующих дворов сопровождалось постепенным усилением ее влияния на умонастроения мастеров слова, творивших в придворной среде. К XII в. сложность литературной ситуации достигла своего апогея, что остро ощущалось мистически настроенными поэтами, выходцами из придворной среды. Резкое осуждение ремесла наемного панегириста, прозвучавшее из уст поэтов, приверженных различным религиозным доктринам, было подхвачено и самими придворными стихотворцами. В итоге эти веяния привели к осознанию унизительности и двусмысленности положения наемного восхвалителя при дворе. Для XII в. достаточно типичным становится разрыв выдающихся поэтов со светской жизнью и придворной службой, открытое осуждение ими своей прежней карьеры.
В XI–XII вв. профессиональная поэзия развивается по линии все большей технической сложности – в ней оформляется так называемый украшенный стиль, предполагавший виртуозное владение всем арсеналом поэтических фигур и их обильное применение в стихе. Усложнение стиля было теоретически закреплено в ранних персидских трактатах по поэтике, носящих названия «Интерпретатор красноречия» (Тарджуман ал-балага) Мухаммада ‘Умара ар-Радуйани (ХI в.) и «Сады волшебства в тонкостях поэзии» (Хада'ик ас сихр фи дака'ик аш-ши‘р) Рашид ад-Дина Ватвата (XII в.).
Культивируя изысканность стиля и формы, поэзия профессионалов в течение веков оставалась в кругу тем и мотивов, строго регламентированных традицией, что не могло не привести к герметизации ее тематики и известному кризису придворного стихотворства. Вследствие этого охранительная тенденция, долгое время не допускавшая влияний извне и препятствовавшая проникновению в поэзию новых образов и мотивов, постепенно сходит на нет. Тематический арсенал придворной поэзии начинает активно расширяться за счет проникновения в нее элементов суфийского поэтического языка с его ориентацией на аллегорическое восприятие текста.
Период XI – начала XII в. ознаменовался существенными сдвигами в функционировании жанровой системы персидской литературы в целом. Начиная с XI в. происходит обособление отдельных жанровых составляющих «большого» эпоса, которые прежде сосуществовали в единых рамках «Шах-нама». Первым выделился любовно-романический эпос, знаменовавший важнейшую в средневековой литературе фазу художественного осознания индивидуальной любви. Наряду с местными сказаниями, зафиксированными в «Шах-нама», и другими сюжетами, имевшими доисламские иранские корни, в формировании романического эпоса важную роль сыграли заимствованные сюжеты о влюбленных, прежде всего арабские и греческие.
С выходом на литературную арену представителей эзотерических течений начинается интенсивное развитие философско-дидактического эпоса, на складывание которого повлияли раннесредневековые сочинения светской дидактики и публичная религиозная проповедь (маджлис).
В этот же период появляются первые памятники персидской классической прозы, создаваемые как в среде придворных литераторов, так и за ее пределами.
Газнавидская школа поэтов ХI в.
На рубеже X и XI вв. государство Саманидов пало, разгромленное тюркскими племенами, впоследствии создавшими государство Караханидов. Часть саманидских владений: Хорасан, Хорезм, Систан и нынешний Афганистан – была захвачена султаном Махмудом Газневидом (998–1030), сыном военачальника Сабук-тегина (977–997), возвысившегося на службе у Саманидов и основавшего династию Газнавидов.
Первоначально великий завоеватель, совершивший 17 походов в Индию и присоединивший к своим владениям ее северо-запад, по крайней мере, внешне, следовал культурной политике своих предшественников Саманидов. В столичном городе Газна в период правления султана Махмуда собралось большое количество «людей пера» – ученых и поэтов. На это время приходится, к примеру, научная деятельность такого видного ученого-энциклопедиста, как Бируни, который сопровождал Махмуда в его военных походах и собирал материал для таких своих трудов, как «Индия» и «Памятники минувших поколений» (Асар ал-бакийа). Ибн Сина же отказался служить Газневидам и был вынужден скитаться, пока, наконец, не нашел покровительства у наместника Хамадана.
По мере укрепления власти султана Махмуда политическая ориентация газнавидского государства меняется. Чуждый старым иранским традициям, он выказывает себя ревностным суннитом и сторонником халифата и совершает завоевательные походы под знаменем газавата (борьбы с неверными). В русле этой политики он осуществляет не только опустошительные походы в Индию, но и подавляет выступления карматов в Рее и Мултане.
Султан Махмуд вошел в историю как гонитель Фирдауси. Уничижительное отношение к эпопее «Шах-нама» ощущается не только в касыдах поэтов, служивших непосредственно Махмуду, но и у последующих авторов, восхвалявших преемников султана.
Средневековые антологии приводят цифру 300 при упоминании о количестве поэтов при дворе Махмуда, что выглядит несколько преувеличенным. Однако можно говорить по меньшей мере о трех десятках поэтов, снискавших славу в период правления этого султана.
Именно в Газнавидском государстве придворная поэзия обрела официальный статус: стихотворцы впервые объединились в особую организацию, именуемую «диван» и представлявшую собой «государственный департамент» наподобие «дивана переписки» или «податного дивана». «Ведомство поэзии» было организовано по типу ремесленного цеха, во главе которого стоял мастер, определявший основные тематические и стилистические приоритеты литературной продукции. Поэт номер один газнавидского двора, которым тогда считался ‘Унсури, получил официальный титул «Царь поэтов» (малик аш-шу‘ара), отсутствовавший у арабов. В обязанности «Царя поэтов» входило осуществлять отбор стихов, достойных монаршего слуха, то есть, по сути дела, он являлся цензором для остальных представителей «департамента». Он же отвечал за обучение поэтов, которые, в свою очередь, видимо, должны были поставлять ему «сырой» материал для его собственного творчества.
Обучение поэтов включало обязательное заучивание наизусть большого количества стихов предшественников и современников на арабском и персидском языках, что, очевидно, являлось общепринятым способом подключения начинающего автора к традиции. Одной из ступеней обучения, по-видимому, было написание подражательных стихов, причем объекты подражания рекомендовал глава поэтического цеха. Когда поэта принимали в штат, он получал постоянное жалование, поскольку его служба по существу приравнивалась к деятельности государственного чиновника.
Подчинение общему руководству нисколько не мешало острому соперничеству между поэтами-профессионалами. Нередко сам правитель поощрял потешные поэтические «бои» между своими любимцами. Такие поединки служили одним из видов дворцовых развлечений.
Собственно говоря, организация досуга правителя и была одной из задач придворной поэзии. Поэты, наряду с музыкантами и певцами (мутриб), входили в ближнюю свиту монарха, являясь его наперсниками (надим) и сопровождая его во время пиров, охот, выездов на лоно природы и состязаний в воинских искусствах. Отсюда популярность в придворной поэзии таких жанров, как календарная и пиршественная лирика, приуроченная к основным праздникам, охотничьи стихи, описания царских забав, например, игры в конное поло (чауган) или стрельбы из лука, и, естественно, любовная лирика в форме вступлений к касыдам или самостоятельных небольших стихотворений (кыт‘а, газель). Отметим, что все перечисленные тематические разновидности придворной лирики непременно включали в себя описание (васф) антуража, сопутствующего дворцовой жизни (богатые интерьеры, пиршественная утварь, музыкальные инструменты, ловчие птицы и животные, оружие и доспехи, верховые животные и т. д.).
В искусстве поэзии высоко ценилось мастерство экспромта (преимущественно в форме кыт‘а), которое помогало поэту живо откликаться на малейшие изменения в настроении адресата («знать пульс повелителя»). Таким образом, входивший в ближнюю свиту поэт отвечал за поддержание общего благорасположения монарха по отношению к подданным, неся своеобразную «службу настроения» (термин З.Н. Ворожейкиной).
Другой функцией придворной поэзии, выделяемой средневековой традицией в качестве важнейшей, являлось увековечение имени и деяний повелителя («служба восхваления» – термин З.Н. Ворожейкиной), а потому поэт был обязан откликаться на все значимые события государственной жизни. Историко-политические мотивы наиболее последовательно представлены в касыдах, которые в это время являли собой наиболее продуктивный жанр профессиональной поэзии и преобладали в собраниях лирических произведений (диван) отдельных авторов.
Поэта и его венценосного покровителя связывали отношения особого рода, которые в поэзии осмыслялись в терминах «служения» и «господства», а также взаимности обязательств – «договора», напоминающего по своей сути обет вассальной верности. Выполняя обязанности по восхвалению монарха и увековечению его имени, поэт взамен приобретал высокий социальный статус и прочное материальное положение. Попавший в ближайшее окружение повелителя поэт чрезвычайно гордился своим местом в сословной иерархии. Упоминавшийся выше «царь поэтов» ‘Унсури заключил представление о высоком статусе придворного поэта в стройную поэтическую формулу, которой начинается одна из его знаменитых касыд:
Богатство, величие и исполнение желаний сердца в этом мире
Никто не добыл иначе, как служа султану.
«Малые дворы» султанских наместников и крупных вельмож старались в меру возможностей следовать установлениям центрального двора, в том числе и в содержании штата придворных поэтов.
• ‘Унсури
«Царь поэтов» ‘Унсури (960 – между 1039 и 1050) был родом из Балха. О его жизни до поступления на службу к султану Махмуду Газнави практически ничего не известно. Средневековые антологии донесли до нас легенду о том, что рано осиротевший будущий поэт намеревался заняться караванной торговлей. Однако во время первого же путешествия караван был ограблен разбойниками, а ‘Унсури попал к ним в плен. После освобождения он будто бы разочаровался в торговом ремесле, занялся постижением наук и искусства стихосложения и, добившись успеха на этом поприще, сумел попасть ко двору брата Махмуда – эмира Насра ибн Сабуктегина. После смерти эмира Насра ‘Унсури был вынужден искать нового покровителя. Естественно, он стремился попасть ко двору в Газне и обосноваться в столице. По всей видимости, поэту пришлось выдержать жесткую конкуренцию с другими поэтами из окружения Махмуда. История донесла до нас стихотворную перебранку между ‘Унсури и поэтом Газа‘ири, служившим династии Буидов, сидевших в городе Рее. Газа‘ири нередко посвящал свои панегирики и султану Махмуду. В частности, в одной из таких касыд, превозносивших баснословную щедрость султана, якобы во много раз превосходящую реальную ценность стихов, Газа‘ири сказал:
Довольно, государь, ведь я не за деньги продавал отборные
жемчуга,
Довольно, государь, ведь я не продавал самоцветы мешками,
Довольно, государь, ведь за это [мое] поэтическое мастерство
и стихи
Меня назовут обольстителем царей и искусным колдуном…
Очевидно, Газа‘ири стремился не только возвеличить Махмуда, но и подчеркнуть достоинства своего поэтического слова, которые выше любых, даже самых щедрых даров султана. ‘Унсури, раздосадованный высокой оценкой стихов Газа‘ири, усмотрел в этом дерзком пассаже не подобающую придворному поэту гордыню и повод для суровой отповеди. Он составил касыду-ответ на произведение Газа‘ири, написанную в том же размере и на ту же рифму, в которой обвинил соперника не только в неблагодарности и излишнем самомнении, но и в греховных поступках. Обращаясь к самому султану, ‘Унсури сказал:
Нет, не довольно, ведь ты для людей – милость Божья,
Говорить о милости Божьей слова скуки – грех.
Пытаясь оправдаться, Газа‘ири пишет еще одну касыду, но, видимо, на сей раз менее удачную.
Как бы то ни было, ‘Унсури прочно и надолго закрепился при дворе в Газне. О богатстве поэта ходили легенды. Судя по сведениям источников, он был еще жив и при преемнике Махмуда Мас‘уде I (1031–1041), но уже не посещал придворных аудиенций. Поэты следующих поколений, например Манучихри, посвящали ему хвалебные стихи, из чего следует, что ‘Унсури дожил свои дни в богатстве, почете и славе.
Хотя Диван ‘Унсури дошел до нас не полностью, он дает достаточное представление о творческой манере автора и тематическом репертуаре его произведений. В собрании стихотворений поэта насчитывается около 50 касыд; малые формы – руба‘и и кыт‘а – сохранились плохо.
Касыды ‘Унсури как нельзя лучше отражают его роль при дворе султана Махмуда: поэт принимал участие во всех военных кампаниях своего повелителя и воспевал его победы в панегириках. По этой причине самую большую группу касыд ‘Унсури можно назвать историко-политическими. Для них характерен своеобразный эпический стиль изложения, историческая достоверность, логика и конкретность в деталях:
Прошел [шах] в Мултан, а по пути завоевал двести замков,
У каждого из которых было сто кровожадных слуг.
От городов и капищ, которые спалил шах,
Ветер еще не развеял кучи пепла.
С Синдом и областью Синда государь сделал то,
Что не делал Хайдар[15] с жителями Хайбара.
Не осталось замка, который он не завоевал бы,
И ни одного войска, которого он не разбил бы,
Не осталось ни одного кармата, которого он не убил бы,
Ни огнепоклонника, ни кафира.
Поэт утверждает, что все завоевательные походы Махмуда имеют только одну цель – снискать благоволение Аллаха и его Пророка. Обосновывая роль Махмуда как борца за веру, ‘Унсури часто прибегает к аналогиям из Священной истории ислама. Так, поэт сравнивает индийский поход своего повелителя со взятием оазиса Хайбар, населенного евреями, в 628 г. войсками мусульман под предводительством самого пророка Мухаммада, которого практически во всех походах сопровождал его двоюродный брат и зять ‘Али ибн Абу Талиб, прозванный Лев.
Основной идеологической установкой ‘Унсури становится формула «Нет власти, кроме как от Аллаха». Установка эта покоится непосредственно на суннитской религиозной доктрине и не настаивает на необходимости наследственной передачи власти, что, в конечном счете, служит оправданием прихода на иранский престол «рожденного в рабстве» (Фирдауси) тюрка Махмуда. Таким образом, налицо отказ от представлений доисламского Ирана о легитимности царской власти, отраженных, в частности, в «Шах-нама» Фирдауси. Очевидным свидетельством идеологической борьбы Махмуда против легитимистских теорий Фирдауси может служить ряд касыд ‘Унсури, направленных против древних иранских сказаний и героев. Панегирист Махмуда противопоставляет рассказы о царях, передающиеся по преданию (махбар), деяниям своего повелителя, которые можно узреть воочию (манзар). В одном из самых известных панегириков ‘Унсури в честь султана Махмуда, знаменательно начинающемся словами «О ты, слышавший рассказы о доблестях государей по преданию, иди сюда, воочию убедись в доблести царя Востока…», имеется такой пассаж:
Если Фаридун переправлялся через Тигр без судна –
А в «Шах-нама» есть об этом рассказ, подходящий для
вечерней беседы,
(Такие рассказы бывают правдой, но бывают и неправдой,
И ты, пока не узнаешь правды, не верь словам) –
То я собственными глазами много раз видел,
Что владыка земли в благой день благим движением при
благой звезде
Несколько раз переходил через Джейхун,
И не было у него ни судна, ни якоря.
К разряду подобных же сведений, вошедших в предание и не заслуживающих особого доверия, поэт относит и рассказы о щедрости Саманидов по отношению к Рудаки, противопоставляя этим легендам щедрость собственного покровителя, милость которого можно увидеть воочию:
Тысячу мискалей[16] на весы поэтов
Никто, кроме него (Махмуда), не клал во всем этом мире.
Сорок тысяч дирхемов получил Рудаки от своего властителя,
Унижаясь то у этой, то у той двери.
Изумился он, и умножилась его радость, и возгордился он,
Похваляясь, рассказал об этом в своих стихах.
Если тот дар показался ему великим и поразительным,
То смотри же, каковы теперь дары шаха.
Эта большая по объему и сложная по структуре касыда увенчана короткой притчей «О белом соколе и черном вороне», которая служит своеобразной реализацией фигуры «красота концовки», а также приема «переноса» мотивов – в данном случае мотивов эпических в касыду:
О черном вороне и белом соколе
Слышал я прелестный рассказ от мудреца.
Сказал ворон соколу: «Мы с тобой – друзья,
Ведь оба мы – птицы, из одного мы рода и племени».
Ответил [сокол]: «Мы – птицы [сходные во всем], кроме
способностей,
Между моей натурой и твоей есть разница.
То, что остается после моей [трапезы], вкушают цари земли,
Ты же набиваешь зоб нечистой падалью,
Мое место – на руке повелителей мира,
Твое место – среди развалин и оссуариев[17],
У меня цвет милосердия, у тебя цвет наказания,
Меня считают добрым знаком, тебя – дурным,
Ко мне питают склонность цари, а к тебе – нет,
Ибо добро склоняется к добру, а зло – к злу.
Если ты в мечтах себя мнишь мною,
Тебе придется горько пожалеть об этом».
В целом ряде историко-политических касыд ‘Унсури наблюдается определенное сходство с героико-эпическим повествованием, проявляющееся в величественной панораме побед повелителя, описании диковинных стран и городов, завоеванных «силою Божьей, острым мечом и юным счастьем». В результате касыды ‘Унсури, в том числе и их панегирические части, приобретают ярко выраженный повествовательный оттенок. На формальном уровне это проявляется, в частности, в регулярном нарушении принципа автономности бейта и появлении многочисленных смысловых переносов (анжамбеман[18], от фр. enjambement – «перескок»), при которых синтаксическое членение стиха не совпадает с делением на бейты (см. приведенный выше фрагмент о переправе через Аму-Дарью).
Помимо заимствования сказовых приемов «большого эпоса», ‘Унсури использует в своих произведениях и элементы «малого эпоса» (вставные притчи, вступления-загадки).
Еще одной особенностью Дивана ‘Унсури можно считать высокий процент так называемых ограниченных (махдуд) касыд, то есть касыд, лишенных развернутого вступления и начинающихся непосредственно с панегирика. Однако и такие касыды в большинстве случаев сохраняют присущее этой поэтической форме деление на части, поскольку описательные фрагменты могут помещаться внутри произведения, заключенные в рамку из двух панегирических частей.
Что касается полных касыд, то в них преобладают любовные вступления и описания старых сезонных праздников – Науруза, Михргана и Сада. В частности, у ‘Унсури можно найти редкое в поэзии исламского периода поздравление монарха с зимним праздником Сада. Зимним зачином украшены две касыды ‘Унсури, одна из которых посвящена эмиру Насру, брату султана Махмуда, а другая – самому султану. Вот фрагмент первой из них:
Сада – праздник именитых царей,
[Остался] он на память от Фаридуна и Джамшида.
Земля сегодня ночью, ты сказал бы, – гора Тур,
Так как появилось на ней сияние небесного света.
Если это день, не нужно называть его ночью,
Если ночь стала днем, что ж, в добрый час…
Если месяц бахман относится к зимнему времени,
То почему же весь мир сегодня ночью словно заросли
тюльпанов?
Поэт дает описание многочисленных огней, которые по обычаю возжигали во время зимнего праздника, сравнивая их с весенними тюльпанами. Тон следующего отрывка, написанного уже под влиянием иных религиозно-политических установок, коренным образом меняется: ‘Унсури как бы извиняется перед повелителем за поздравление с праздником огнепоклонников:
Повелитель! Сказал я, что поздравляю тебя
С праздником, установленным дихканами, с украшением
бахмана,
Во время которого люди озаряют свои пиршества
Самоцветом, таящимся в камне и железе,
Мощным, как твоя атака, беспорочным, как твоя
справедливость,
Высоким, как твое великодушие, светлым, как твои помыслы.
В квартале, где хоть искру от него зажгут,
Светом до стоянки луны озарит [всё] квартал.
Как я вижу, обычаи твои более сильны
В [принесении] счастья, чем обычаи Хусрава и Бахмана.
Ты – муж [истинной] веры, а это – обычай гебров,
Не положено тебе следовать обычаям гебров.
Все в мире поздравляют тебя по твоим обычаям,
И я не стану поздравлять тебя по обычаю Кайанидов.
В отличие от первой цитаты, где описание древнего праздника выглядит нейтрально, вторая содержит скрытое осуждение «языческого» торжества, причисленного к «обычаям гебров», а описание праздничного антуража, например, добывания огня ударом железа о камень, то есть с помощью огнива, призвано лишь подчеркнуть истинность веры адресата и его праведность.
‘Унсури прославился и как один из первых персидских поэтов, придавших любовным сюжетам форму самостоятельных поэм-маснави. К сожалению, эти поэмы дошли до нас в небольших фрагментах. Самой известной среди них была поэма «Вамик и ‘Азра». Специалисты расходятся во мнениях относительно происхождения и источников сюжета, в котором помимо основной пары влюбленных фигурируют персонажи с явно греческими именами: Фоликрат, Хермез, Хару и Андарус. Последние из перечисленных персонажей, образующие еще одну влюбленную пару, известную в греческой традиции как Геро и Леандр, упомянуты в качестве сравнения для главных героев:
Я не меньше Андаруса в любви,
И Хару не так [красива] ликом, как ‘Азра.
Подобные имена собственные, как и многочисленные топонимы греческого происхождения, позволяют предположить, что поэма ‘Унсури могла восходить к греческому прототипу. Не исключено, однако, что он, в свою очередь, мог иметь восточные корни, однако никаких следов подобного повествования в пехлевийской традиции не обнаружено.
Дошедшие до нас фрагменты поэмы «Вамик и ‘Азра» позволяют в общих чертах реконструировать ее сюжет.
На острове Шамос (имеется в виду остров Самос в Эгейском море) царь Фоликрат (самосский тиран Поликрат) берет в жены красавицу Йани. После свадьбы царю снится сон: что во дворе у него выросло оливковое дерево, которое, обойдя весь остров, вернулось обратно. Фоликрат решает, что сон означает скорое рождение наследника, который преумножит его славу. Однако рождается дочь, поразившая всех своими достоинствами, быстрым взрослением и совершенствованием. В месяц девочка походила на годовалую, в два года начала учиться, в восемь лет стала ученой книжницей и звездочетом, а в десять лет – вышла на ристалище играть в поло и метать стрелы. Испытав дочь во всех возможных доблестях, отец нарек ее ‘Азра (араб. «девственница», «созвездие Девы»).
На Шамос приезжает дальний родственник царя юноша Вамик, спасающийся от преследований злобной мачехи. У главного святилища острова происходит встреча Вамика и ‘Азры, которые влюбляются друг в друга с первого взгляда. Описание особо почитаемого храма позволяет предположить, что речь идет об известном храме богини Геры – жены Зевса на острове Самос. День ото дня любовь героев возрастает, и в конце концов мать ‘Азры догадывается о тайных свиданиях дочери. Воспитатель ‘Азры, выследивший влюбленных, открыто порицает их и берет с Вамика слово отказаться от своей любви. ‘Азра же, усмотрев в этом предательство, пребывает в отчаянии и намеревается лишить себя жизни.
Дальнейший ход событий остается неясен, но, по всей вероятности, героев впереди ожидают многочисленные препятствия. Концовка поэмы вполне могла оказаться счастливой, о чем свидетельствуют другие обработки этого сюжета, например, в народном романе «Дараб-нама» (XIV в.) и в поэме «Вамик и ‘Азра» турецкого поэта Лами‘и (XVI в.), а также сама логика жанра романа-испытания, восходящего к схемам эллинистического романа. Линию развития романических поэм со счастливым концом продолжают и некоторые другие сочинения XI в. – «Варка и Гулшах» Аййуки, «Вис и Рамин» Гургани.
В поэме ‘Унсури, судя по сохранившимся фрагментам, имелся эпизод, в котором Вамика экзаменуют в искусстве красноречия путем загадывания ему мудреных загадок (вариант мотива брачного испытания). Вамика просят рассказать легенду об изобретении барбата и дать символическое описание любви, которое в тексте выглядит следующим образом:
Взрослое и опытное сердце
Более склонно к наукам и знанию.
В таком серьезном деле [как любовь] опыта у меня
Не было, не будет мне и спасения.
Хотя я и не знаю ее (любви) признаков,
Есть в моем сердце предположение,
Что муж мудрый любовь
Уподобил благородному юноше.
Невинен он обликом и прекрасен,
В деяниях воинственен и отважен.
Пылающий огонь у него в одной руке,
Лук и стрелы – в другой.
Ублажает он красотой сердца людей,
Радует своим ликом каждого.
А как приблизится к нему сердце, без промедления
Пронзает его стрелой как камнем.
Приносит на наконечнике стрелы пронзенное сердце,
Кладет его на огонь, чтобы оно сгорело.
Очевидно, что перед нами достаточно узнаваемое описание греческого бога любви Эрота, который традиционно изображался прекрасным отроком с луком и стрелами, разящими без промаха невинные сердца. В дальнейшем подобных описаний, явно отсылающих к греческой литературе, в персидской классической поэзии не было.
Перу ‘Унсури принадлежат еще две поэмы – «Шадбахр и ‘Айнулхайат» и «Белый кумир и Красный кумир» (Ханг бут у Сурх бут), также относящиеся к жанру любовно-романического эпоса. Сюжеты их практически неизвестны, за исключением отрывочных сведений, содержащихся в «Искандар-нама» (XIII в.), персидской прозаической версии греческого романа Псевдо-Каллисфена об Александре Македонском. «Искандар-нама» гласит, что обе поэмы ‘Унсури восходят к древним легендам. Первая из поэм повествовала о любви художника по имени Шадбахр к дочери царя Михджасба ‘Айнулхайат, прекрасный лик которой он изобразил на своей груди. Вторая поэма связана с бамианскими идолами, рядом с которыми находятся могилы двух несчастных влюбленных, умерших в разлуке.
Практически одновременно с любовно-романическими поэмами ‘Унсури пишет свою поэму «Варка и Гулшах» поэт ‘Аййуки, предположительно, творивший при султане Махмуде. Рукопись поэмы, известной, главным образом, по поздним турецким переделкам, была обнаружена сравнительно недавно в Стамбульской библиотеке. По всей видимости, ‘Аййуки обработал арабское предание об ‘узритском поэте Урве и его возлюбленной Афре, известное по арабской антологии «Книга песен» (Китаб ал-агани) Абул-Фараджа ал-Исфахани (897–67). Эта история, являющаяся псевдобиографией Урвы и комментирующая его стихи, повествует о трагической любви. Рано осиротевший Урва воспитывается в доме дяди вместе со своей двоюродной сестрой, в которую влюблен с детства. Бедность Урвы служит препятствием для их брака, и Урва отправляется к другому своему дяде в Рей, надеясь стать его наследником и взяв обещание с отца Афры не выдавать девушку замуж до его возвращения. Однако по приезде юноша не находит возлюбленную, и ее отец показывает Урве мнимую могилу дочери. На самом же деле Афра была тайно выдана замуж за знатного и богатого сирийца, в доме которого случайно и встречает ее герой. Несмотря на уговоры остаться, Урва покидает возлюбленную и умирает в пути. Вслед за ним от горя умирает и любящая его Афра.
‘Аййуки при разработке арабского сюжета сохраняет такие основные мотивы и сюжетные ходы первоисточника, как детская влюбленность героев, препятствия на пути их брака, попытки преодоления этих препятствий, соблюдение целомудрия героиней в браке с нелюбимым мужем, смерть героев в разлуке. Однако персидский поэт придает сказанию некоторые черты героико-эпического повествования, характерные для иранской традиции. Он повышает социальный статус основных персонажей до царей и полководцев, вводит батальные сцены, превращает главную герои ню Гулшах в деву-воительницу, схожую с некоторыми героинями «Шах-нама». Она сражает в бою вождя враждебного племени, убившего отца Варки и победившего самого Варку. На значительную степень героизации должен был указать и выбранный метр – мутакариб, после Фирдауси прочно закрепившийся за батальным эпосом. Помимо очевидного усиления батально-героического элемента, в поэму привнесен иранский «колорит»: описание празднеств, оружия, костюмов, украшений.
‘Аййуки завершает свою поэму чудесным воскресением героев: пророк Мухаммад дарует жизнь влюбленным в обмен на то, что сирийский царь – муж Гулшах уговаривает евреев Дамаска принять ислам.
Совершенно очевидно, что разъединяющие героев препятствия носят исключительно внешний характер, романическое начало в поэме оформлено еще недостаточно. В этом смысле маснави «Варка и Гулшах» вместе с любовными поэмами ‘Унсури и поэмой Гургани «Вис и Рамин» знаменует начальный этап становления средневекового персидского романа в стихах. На этом этапе в нем еще не сложилось представления о духовной сущности любовного чувства, а психологические нюансы и перипетии любви не стали объектом художественного осмысления. Тем не менее именно в поэмах раннего периода начинает складываться канон средневекового персоязычного романа о любви с его константным набором сюжетных ситуаций, в числе которых детская влюбленность героев, их совместное воспитание, брак героини по принуждению с нелюбимым человеком и сохранение ею целомудрия в браке и т. д.
Еще одним постоянным признаком любовно-романических поэм уже на раннем этапе становится включение в повествование несюжетных вставок лирического характера, обозначаемых в тексте как «письмо» (нама), песня (суруд, нагма), стих (ши‘р или газал). В арабских преданиях о влюбленных этот компонент был естественным, поскольку стихи поэтов ‘узритского направления, таких как Джамил ибн Ма‘мар – возлюбленный Бусайны, Кайс ибн Зарих – возлюбленный Лубны и др., передавались вместе с повествованием об обстоятельствах, в которых они были сложены.
В поэме ‘Аййуки эти лирические вставки, представляющие собой вольную передачу на персидском языке стихов Урвы и называемые ши‘р, сохранили монорифмическую форму как своего рода «рудимент» арабского прототипа. Всего в текст его поэмы «Варка и Гулшах» включены десять газелей, авторство которых приписывается главным героям-влюбленным. Среди них, например, газель, сочиненная Варка перед его вынужденным отъездом в Сирию, или газель-плач Гулшах, сложенная на смерть возлюбленного. Прозу арабского оригинала заменил персидский нарратив в рифмовке маснави, а стихотворные вставки воспроизводили рифмовку лирических стихов. Позже такое выделение лирических вставок с помощью рифмы в любовно-романических поэмах больше не встречается.
• Фаррухи
Вторым по значению поэтом Газнавидской школы был Фаррухи (ум. 1037/38). Родился он в Систане. Легенда гласит, что, будучи панегиристом при систанском правителе, поэт вознамерился жениться и потребовал повысить себе жалование. Получив отказ, он отправляется искать более щедрого патрона и оказывается при дворе наместника Чаганийана как раз во время весенних торжеств. Поэт декламирует касыду, сложенную по поводу своего переезда из Систана, в зачине которой содержится знаменитое описание труда поэта:
С караваном одежды отправился я из Систана,
С одеждой, сплетенной из сердца, сотканной из души.
С шелковой одеждой, которая по составу – из слов,
С одеждой, рисунок на которую [наносит] язык.
Каждая нить основы в ней с трудом извлечена из сердца,
Каждая нить уткá в ней с усилием вырвана из души.
В ней – приметы любых украшений, каких пожелаешь,
В ней – признаки любых новшеств, каких захочешь.
Не такова та одежда, чтобы ей нанесла вред вода,
Не такова та одежда, чтобы ей причинил ущерб огонь.
Не погубит ее цвета могильный прах,
Не сотрет ее рисунка круговорот времен.
Сердце свернуло ее споро и уложило,
А мысль заботливо приставило к ней сторожем.
Каждый час подавал мне благую весть разум:
«Эта одежда приведет тебя и к славе, и к достатку».
Эта одежда соткана не так, как другие одежды,
Не суди об этой одежде по другим одеждам.
Природа ее – язык, мудрость сучила нить, а разум ткал,
Рисовальщиком была рука, а от сердца в ней – изъяснение.
Закончив рисовать, [рука] над каждым рисунком написала
Хвалу Абу-л-Музаффару, шаху Чаганийана.
Труд поэта осмысляется в этой касыде как ремесло, сродни ремеслу ткача и художника по ткани. Сложение стихов рассматривается как ткачество, а украшение поэтической речи фигурами интерпретируется как нанесение рисунка на шелк. Фрагмент содержит также своеобразную реализацию мотива «памятника», или извечности художественного слова, через образ одежды, не подверженной тлению.
Управляющий финансово-хозяйственной службой (кадхуда), которому Фаррухи представил эту касыду, не поверив, что бедно одетый поэт, «нескладный сизгинец», мог сложить столь прекрасную касыду, устраивает ему испытание и заказывает в короткий срок сочинить стихотворение, посвященное описанию праздника наложения тавра на молодых жеребцов. Исполнив заказ, Фаррухи декламирует касыду в высоком собрании и подтверждает свое мастерство, а в награду местный правитель вручает ему аркан и разрешает взять себе столько жеребят, сколько ему удастся поймать. Опьяневший на пиру стихотворец гоняется за молодыми скакунами по степи, пока не валится с ног вблизи какого-то забора. Пробудившись, он узнаёт, что заснул у загона, в котором находится много добрых коней. Весь двор поздравляет поэта с удачей, а сложенная им касыда позже будет приводиться как образцовая практически во всех средневековых антологиях персидской поэзии. Впервые же эта легенда была рассказана Низами ‘Арузи Самарканди в книге «Четыре беседы» (XII в.).
Касыда, получившая в иранистике название «Тавровой», представляет собой описание одного из торжеств, входивших, по-видимому, в число весенних ритуальных празднеств. Она начинается красочной картиной пробуждения природы, являющейся одним из самых ярких примеров весенней календарной поэзии (бахарийа) этого периода. Во второй части вступления содержится описание праздничного антуража, сопутствующего наложению тавра на молодых жеребцов из табунов эмира, которому посвящена касыда:
Перед шатром победоносного повелителя
Ради клеймения разложен костер, солнцу подобный.
Взвились языки пламени, словно полосы желтого шелка,
Горячи они, как нрав юноши, желты, как чистопробное золото.
Клейма похожи на ветки алых кораллов,
Каждый из них стал в огне, словно зернышко граната.
Чредою юные слуги, не знавшие сна, [подводят]
Одного за другим коней, не видавших тавра.
Вступительные части касыд Фаррухи достаточно разнообразны по содержанию. В Диване имеются зачины календарного содержания, а также пиршественные, охотничьи, траурные (например, известная касыда на смерть султана Махмуда Газнави) и др. На втором месте после любовных вступлений к касыдам стоят календарные зачины, посвященные основным иранским сезонным праздникам (Наурузу, Михргану, Сада). Развивая мотивы касыды Рудаки «Мать вина», Фаррухи воспевает осенний праздник Михрган:
Прилетел в сад ветер осени,
Закружился вокруг виноградной лозы…
Опять виноградарь ножом срезает лозу,
А нежнейшее дитя приносит в жертву.
Хоть и холодно лозе в убежище ветра,
Но он наносит вред разве что ее одежде.
Что милее тебе: дитя или одежда?
Конечно же, дитя милее…
Ушел жестокий виноградарь,
Разлучающий матерей с детьми.
Зачем нам печалиться об участи виноградной лозы!
Вставай и вкуси вина из тяжелых чаш!
От целостного мифологического «сценария», который лежал в основе касыды Рудаки «Мать вина», у Фаррухи остались лишь отдельные элементы – упоминание виноградной лозы и страданий ее чада выступает в качестве развернутой метафоры изготовления вина.
В других случаях ритуально-мифологическая первооснова стандартного календарного зачина оказывается более стойкой и легко обнаруживается, например, в поздравительных касыдах Фаррухи, посвященных Наурузу. Логическая модель зачина представляет собой повторение ритуала начала праздника, когда по обычаю к царю прибывал гонец, возвещающий о наступлении Нового года:
Ради поздравления с праздником Нового дня явился к шаху
Благословенный Сада – десятый день месяца бахман.
Неся весть о Наурузе эмиру, красавец
Триста шестьдесят суток скакал верхом по дороге.
Что за весть он принес? Принес он весть о том, что через
пятьдесят дней
Покажет свой лик Науруз и соберет [свое] войско на смотр.
По средневековым арабским источникам известно, что в соответствии с церемониалом царь и прибывший гонец должны были обменяться ритуальными вопросами и ответами, первым из которых был вопрос «Кто ты?» и «Откуда приходишь?», а последний – «Что ты приносишь?». Приведенный фрагмент касыды Фаррухи содержит все значимые элементы этого сценария: прибытие вестника, вопрос о цели прибытия и ответ на этот вопрос. Фаррухи использует подобный стандартный зачин также при описании праздника разговения после мусульманского поста, а также при описании воцарения султана Мас‘уда Газнави после смерти его отца Махмуда.
Еще одну модель стандартного зачина использует Фаррухи в касыде, сложенной на смерть султана Махмуда. Этот тип зачина применяется поэтами для описания различных бедствий и катастроф как природного (землетрясение в Тебризе в касыде Катрана), так и социального характера (смерть монарха в касыде Фаррухи, разорение государства захватчиками в касыде Анвари, падение нравов в касыдах ‘Абдаллаха Ансари и Сана'и). В таких касыдах, как правило, присутствует своеобразный «реестр» сословных страт и профессиональных категорий, представители которых в условиях катастрофы нарушают общепринятые нормы поведения.
Город Газна [нынче] не таков, каким я его видел в прошлом
году. Что же случилось, из-за чего все изменилось в этом году?
Дома, вижу я, полны причитаний, криков и стонов,
[Таких] причитаний, криков и стонов, которые терзают душу.
Улицы, вижу я, полны смятения, улицы от края до края
Полны волнения, и всё это волнение – из-за отрядов всадников.
Торговые ряды, вижу я, полны народа, а двери лавок
Все заперты и заколочены гвоздями.
Дворцы, вижу я, оставлены знатью –
Все до одного из предместий отправились в укрепленный город.
Вельможи, вижу я, ударяют себя по лицу, словно женщины, –
От кровавых слез их глаза стали походить на цветы граната.
Привратники, вижу я, удручены и облачены в черные одежды,
Один [обнажил] голову, скинув шапку, другой – сняв чалму.
[Почтенные] госпожи, вижу я, вышли из своих покоев на
улицу,
У ворот на площади [стоят] они, плача и рыдая.
Учителя, вижу я, отставили чернильницы,
Руками схватились за голову, бьются головой о стену.
Сборщики налогов, вижу я, опечаленными вернулись со
службы,
Ничего не делают и не идут в «счетный диван»[19].
В дальнейшем «реестр» социальных страт и профессий может не только существенно разрастаться, как, например, у Сана'и, но и подвергаться различным трансформациям, как у Анвари или Хакани.
Отметим, что канон персидской касыды приобретает достаточную определенность уже в творчестве газнавидских поэтов: например, в зачинах большинства касыд соблюдается известное сочетание повествовательных и описательных элементов, которые каждый автор волен подбирать в индивидуальных пропорциях. Касыда Фаррухи, начинающаяся словами «О ты, постоянно расспрашивающий меня о моей истории (кисса)…», построена на мотивах благодарности (шукр) султану за щедрый дар – быстроногого скакуна – и рассказывает об обретении поэтом высокого статуса. Она выдержана в повествовательной манере, содержит элементы диалога и некоторое количество описательных мотивов, связанных с богатым и праздным образом жизни (красавицы-наложницы, резвые скакуны, удобное жилище, амбары, полные припасов). В этой же касыде ярко выражены идеи «вассальных» отношений между восхваляющим (мадих) и восхваляемым (мамдух). Вот что говорит Фаррухи о смысле самой процедуры дарения:
Этот конь – не просто конь, а источник гордости.
Я обрел право гордиться и защиту от позора…
Недруг, увидевший меня верхом на этом резвом скакуне
пегой масти,
Потерял выдержку и не мог скрыть огорчения.
Сказал он: «Походишь ты на эмиров и предводителей войска.
По необходимости должны быть у тебя шапка и кушак».
Ответил я: «Откуда ты знаешь, что родит темная ночь.
Прояви терпение и дождись, пока ночь принесет плоды».