ПОВЕСТИ

БЕРЕГ
Собаки сбились у дверей хаты и тонко, на одной ноте скулили. Монотонный этот звук не сливался с привычным воем ветра, плыл поверх его, терзал душу. Хотелось самому завыть. Но пересохшее нутро, не воя, даже просто слез не могло из себя выдавить. Несколько раз порывался встать, выйти из хаты, но снова опускался на табурет, окаменело глядя на неузнаваемо изуродованное смертью лицо Нади. А надо бы выйти, пройти долину, туда, где светятся еще огни кошары, растолкать пьяных чабанов… или нет, лучше до Вальки дойти, стучать в окно, пока не проснется, в дверь колотить, кричать: «Вставай, Надя умерла!»
Вдруг перестал выть ветер и тут же на какой-то нестерпимой ноте оборвался скулеж. Внезапно наступившую тишину взрезал надсаженный крик Савельевны: «Балахай! Жучок! Домой, блядины! Хде вас, мать вашу, носит?!»… Леня поймал себя на том, что это матерное, из вечера в вечер повторяющееся, впервые не вызвало в нем привычного приступа ненависти, наоборот, отозвалось мольбой: «Зайди ж ты ко мне, гадина, я ж сосед твой…» – но только сухо бесслезно сморгнул стыд перед Надей. Еще вчера на пути к колодцу остановился, и с губ сами собой сорвались слова:
«Савельевна, Надя помирает!..»
– И не хуторь мне! – раскинула от скрюченной спины в обе стороны грабли рук и выплеснула ему в лицо. – Нехай дохнет! Мне шо?! Давно пора!
– Будь ты проклята! – только и сказал он. Но собаки уже учуяли смерть: он только позднее понял, что впервые Балахай, Жучок и Белка встретили его без обычного злобного рыка, на который сворка мелких, со всей степи Надей приваженных к дому собачат неизменно отвечала таким остервенелым визгом, что воздух в долине накалялся и трещал разрядами ненависти.
Псы Савельевны – Жучок и Балахай – здоровые. крутогрудые, злобные, да матка их – Белка, хоть и старая сука, от сынов не отстанет – десятилетиями копимую в хозяйской душе ненависть к соседям выносят в воздух долины в своем оглушительном лае. Разномастные мелкие шавки Мунька, Нюська, Люська, Димка, Нелька – Надя давала им имена своих намечтанных, но не рожденных детей – сбившись в дружную сворку, отвечают псам визгливой, но бесстрашной угрозой. А вот ведь почуяли смерть – встретились и разминулись, звука не проронив…
Вдруг послышался шум мотора, скрип тормозов, Леня тотчас же понял, сейчас в хату войдут люди, сейчас он скажет: «Вот, Надя умерла!» – губы его затряслись и в тот момент, когда распахнулась дверь, сухое рвущее грудь рыдание согнуло его пополам и скинуло со стула наземь.
Рыбнадзор Леня – тезка и лютый недруг – и рыбнадзор Коля, то есть инспектора – оба голубоглазые, куражливые красавцы – бросились его подымать, вмиг увидели на кровати труп, не растерялись: Коля побежал к машине, вернулся с флягой и, сколько ни рассчитывали они выпить ее содержимое сами, без третьего, – по такому случаю – ничего не оставалось, как налить стакан дяде Лене.
– Нет, ты давай! – уговаривали, пытаясь влить живительную влагу в его сведенный, обморочный рот. – Она тебе сейчас самое то! До дна пей! Коль, ты слетай до Валики, она баба опытная, все обделает, – скомандовал старший инспектор Леня своему подчиненному, но, поймав его нацеленный на флягу взгляд, спохватился: это надо ж будет и Вальке налить. – Подожди, помянем, давай, и ходом!
Чубатого голубоглазого брюнета Леню по непризнающей границ пьянке списали когда-то с торгового флота и бросили на трудный, ответственный участок: от Арабатской стрелки до самого Мысового берег трепетал и корчился под его бдительным надзором. И помощника он нашел себе в масть, правда, много ему проигрывающего выходкой, не такого подбористого, что не удивительно: в должности завмага Коля оброс жирком, проворовался в пух и прах, и надо было ему срочно соскочить – все равно куда – вот тут ему Леня и подвернулся. Рыбное дело оказалось не хуже колбасного, к тому же обладало пряным привкусом власти. Он только ухмылялся, когда, подвыпив в компании солидных людей, Леня простодушно куражился:
– Нам Кот сказал: ребята, даже если ни одного осетра в Азове не останется, вас Советская власть будет еще сто лет кормить.
И все пили за здоровье мудрого начальника феодосийского Рыбнадзора, по иронии судьбы носившего фамилию Кот.
…Коля быстро привез Вальку. Когда-то эта свалянная из рыхлого, непропеченного теста баба доплелась до берега со своим мужем – прыгающим на костылях инвалидом. Бездомные, ничего не имущие, они за объедки, за миску разбавленного водой молока, да за спанье под перевернутой байдой батрачили на Савельевну. Тогда еще жив был Харлампыч и Валькин одноногий муж помогал ему плести браконьерские сети, потом стал в море с ним ходить, а Валька таскала по степи быков, делала всякую работу по хозяйству и так бы и тянулась их жизнь, если бы Валька не забеременела.
Испугавшись еще не народившегося дитяти, Савельевна сама сговорила людей, продававших дом на другом краю долины, возле кошары, поверить бродягам под расписку в долг, а Вальку – пристроиться работать на кошаре. Там на копне сена ее вскоре завалили чабаны, не обращая внимания на ее вопли, но, отряхнувшись, онапригрозила им судом и угрозу свою выполнила. Однако суд учинил выездную сессию на потеху всей округе. Люди показывали на Вальку и ее мужа, что они пьющие и дерущиеся, чабаны нагло утверждали, что это не они, а она завалила их всех подряд – колхоз выгораживал своих, суд этот обернулся для Вальки одним позором: ей и ее мужу присудили штраф за оговор и пьяные драки. И работы она лишилась. Председатель колхоза ей так и сказал:
«Куда же я тебя пошлю такую целку – у нас везде мужики и все охочи?»
Но тут как раз один предприимчивый человек из Феодосии, решивший разводить нутрий, присмотрел их дом. Дом на отшибе, среди полного запустения, но вблизи кошары – чабаны за бутылку водки мешок дерти отсыпят и сена сколько хочешь, и он поставил позади дома клети и стал платить супругам за аренду и уход за крысами. Он даже за свой счет подтянул к их дому от кошары электричество. Но от хорошей жизни инвалид стал пить пуще прежнего и Вальку лупить своими костылями за причиненный ему позор еще больней и, сколько ни старалась она, пьянствуя с ним заодно, ополовинить его долю – не помогло: однажды, опившись до одури, муж ее помер. Так что по такому делу, как похороны, она и в самом деле имела свежий опыт.
Еще с кошары сделала звонок в поселковую больницу, чтобы прислали за Надей транспорт, обмыла и убрала Надю, как надо. Леня попросил рыбнадзор дать с почтамта по указанным адресам телеграммы и уже на следующий день хата была полна приезжего народу. Барашка зарезали, петухов несколько – женщины готовили поминальный обед, мужчины мотались на своих машинах через степь, хлопотали о погребении. Ото всего освобожденный Леня сидел подле опустевшей теперь кроиати, но на душе у него не было как прежде сухо, он все плакал и плакал. Ему подносили, он выпивал и плакал, и ему хотелось, чтобы эти люди никогда не уезжали и вся эта похоронная суета никогда не кончалась. Только с обидой отметил про себя, что не приехала одна Петровна, но понадеялся, что, когда все разъедутся, тогда она и заявится. Наплетет что-нибудь про плохое здоровье, но он все равно выскажет ей обиду: как это можно было не приехать, не похоронить сосед ку?
В мокром снегу развезло долину, то и дело чья- нибудь машина застревала в размягшем, склизком солончаке и тогда всем скопом бросались ее вытаскивать. И бабы тоже – особенно духарилась громкоголосая, крепко сбитая жена отставного полковника, владельца «Нивы». Бывшая физкультурница, она и теперь обтягивала свое раздобревшее тело шерстяным спортивным костюмом и ежеминутно давала зычные команды, кому что делать и как жить дальше. Она первая и хватилась, что тысяча рублей в банковской упаковке, которую Леня достал из тайника еще по Надиной просьбе: «Достань, Леня, деньги, хоронить меня будешь» – достал, но в смерть Надину до конца не верил и деньги валялись там и сям и полковничиха несколько раз командовала: «Леня, прибери деньги, завалятся, на нас подумаешь» – так вот она первая и хватилась, что деньси исчезли. После разных трат скомандовала: «Давай, Леня, деньги, рассчитываться надо!» – а деньги исчезли. Всю избу перевернули, но не нашли. Леня вспомнил наставления Петровны: «Украсть – это, конечно, грех. Но в соблазн вводить, бросать где попало, деньги, золото – это еще больший грех. В соблазн человек по дьявольскому наущению вводит. А дьявол – он же с Богом борется! Разве можно перед ним устоять?!» И попросил больше не искать. Достал из другого тайника другие деньги. Подумал на Вальку, но сказать не посмел. Особенно из-за того, что был благодарен ей за первую помощь.
Однако, когда после поминального обеда, полковничиха завела разговор о том, что жить здесь на берегу одному Лене никак не возможно и в приказном порядке рекомендовала ему жениться на Вальке, как близ живущей вдове. Леня скривился и с недоброй иронией сказал: «Куда там, она ж теперь невеста с приданным, найдет себе помоложе…» Но Валька слова полковничихи приняла к сведению. Когда все разъехались, через день-другой она пришла к нему, принесла бутылку водки и завела разговор:
– Вот померла Надя: она отмучилась и ты отмучился. Мы и то тебя все жалели, сколько ж лет ни до чего не касалась, все с тебя жилы тянула?!
С ее круглого, сырого лица с маленькими сонно- похотливыми глазками, с носом и ртом, задавленными щеками, он перевел взгляд на большое, в деревянной раме Надино фото над кроватью – когда-то еще молодую, статную он взял ее с собой в Феодосию, там удачно сбыли они и рыбу и икру, отобедали в ресторане, а потом пошли в фотоателье и старик-еврей сделал с каждого из них настоящие портреты. Они отдали квитанции знакомому браконьеру и тот потом привез фотографии, а рамы Леня заказал в селе плотнику.
С портрета Надя смотрела на него строго – не насмешливо, жгучими своими большими глазами, и все в ее лице было вымеряно, четко обрисовано суровой, но щедрой природой ее родных мест – Надя была по рождению чеченкой, она говорила даже, что княжеского рода, и он ей верил, до того необыкновенной красоты и утонченности были ее руки. При том, что столько лет на сплаве работала. «Как же ты не похожа на Надю, – думал Леня. – И как же мало ума за твоим незначительным лбом, если говоришь, что мне ходить за Надей в тягость было. Это для тебя она от болезни седой, кривой старухой сделалась, а для меня, как была Надюшей, спасительницей моей – так и осталась. И как же ты могла до такого додуматься, что похоронив ее, я жизни возрадуюсь?!» Впрочем, он знал: у Вальки и на этот домысел ума недостанет, это она повторяет слова Савельевны. Та и прежде на все лады издевалась над Надей: «Больная она! Жрать здоровая, работать она больная! Ишь масло с мужика давит! Да еще на себя его тянет – это она здоровая! Не. я не видала, а люди хуторят, люди врать не будут!»
Сидя боком к столу, Валька подперла сложенными руками грудь, выкатила под самое горло огромные рыхлые шары, ноги расставила так, что из-под недоходящей до колен юбки он видел, как глубоко в мясо врезались резинки длинных розовых штанов, вспомнил, что после поминок все платьишки да халатики Надины роздал бабам, а вот бельишка шелкового, с кружавчиками пожалел – а сейчас бы отдал этой дуре, только за то, что пришла, сидит тут с ним… «Так ведь на нее не налезет… И сроду она такого не носила. А вот, поди ж ты, как все рассчитала».
– Я не настаиваю, чтоб по закону, можно и так: поживем вместе, потом видно будет…
– Что видно? – не удержался Леня. – Где у меня деньги лежат?
Но она не услышала, продолжала тянуть свое:
– Чего ж нам хорошего по одному? У меня парень растет, я же баба, мне и лодку одной не столкнуть. Ну не нравлюсь я тебе – так ты ведь сам-то старый уже, чего в тебе-то хорошего?
– Это точно: старик я уже. А ты еще ничего баба, ладная, – пожалел ее Леня. – Что ж я с тобой, с такой пухлой, делать буду? Найдешь еще себе кого-нибудь, а я вот поставлю Наде памятник и сам помирать лягу.
Но поставить Наде памятник и лечь помирать можно было еще не скоро. Пока следовало жить. Вставать серыми, мглистыми утрами, молча поить скотину, – молча заправлять керосином лампы – он теперь почему-то боялся спать без света, всю ночь палил лампу, молча разжечь плиту – или не разжигать? Одеть телогрейку и так сидеть в нетопленой хате? Молча вытянуть из бассейна ведро питьевой воды – теперь и умыться ею не жалко, к чему ходить на берег к колодцу, когда теперь не для кого ему беречь пресную воду?
Но умываться не хотелось. И бриться не хотелось. «И как это Надя сказала, как это она знать могла? – вспоминал он ее последние слова: «Леня, я не умереть боюсь, я боюсь, что ты в хате один останешься», – отчетливо так произнесла и все! Больше уж ни одного слова не вымолвила.
Оказалось, что для себя не хочется варить и печь лепешки не хочется, а хлеба на берег теперь не привозили: едва Надю похоронили, как какой-то там райсовет отменил приезд на берег автолавки. Раньше в две недели раз автолавка приезжала, становилась на гору – уж такое это было событие, хоть и купить в ней можно было только хлеб, соль да водку. Но оказывается, покуда жило на берегу трое, – это был населенный пункт, а умерла Надя – стал пункт ненаселенный и автолавку отменили. А Леня и сам с такой мыслью соглашался.
Без Нади каждое привычное действие оказалось бессмысленным. Он стал часто задумываться и не мог понять, для какого же труда он был рожден и предназначен. У него давным-давно было отнято право на выбор, и все, что он делал, он делал не по своей воле: только одно право предоставлялось ему – выжить, если сумеет. И он выживал. И сначала Надя помогала ему выжить, потом он Наде. А вот теперь он свободен – зачем ему теперь этот труд выживания? И можно бросить все и уйти – зачем теперь ему этот берег? Ушли же когда-то отсюда люди, бросили это гиблое место, а ведь не просто две-три хаты было здесь – целый поселок рыболовецкий, и школа была, и амбулатория, и клуб стоял как раз за домом Петровны на самом выступе скалы.
Грохот невообразимый раздался по всей долине, когда море однажды накинулось и словно стальными челюстями отгрызло уступ и вмиг перемололо обрушившееся строение. Но люди покинули берег еще до этого светопреставления.
Как-то раз один пришлый человек показал Лене английскую военную карту тысяча девятьсот четырнадцатого года. Так вот, на ней отчетливо была обозначена на берегу Азовского моря бухта Ялточка. А больше ни на какой другой, обыкновенной карте ни места этого, ни названия он не видел. Потому, наверное, что, если для чего и была бухта хороша – так это именно для высадки десанта: единственно пологий берег на всем протяжении Азовского моря со стороны Крыма – от Арабатской стрелки до самого Мысового.
Если встать лицом к морю, то по правую руку над бухтой вздымается гора, по левую – скалистое ровное плато, мерно переходящее в степь. Сам берег не песком усыпан, а измельченным в песок ракушником и от долины отделен пересохшей в ручей речкой Ялточкой – она-то и дала название бухте, о котором теперь мало кто помнит, так же как мало кто помнит реку эту полноводной и рыбной.
На глазах у Лени превратившись в затхлый, болотистый ручей, река огибает долину слева, потом вовсе теряется в степи, но при каждом дожде внезапно взбухает, от края до края наполняет долину водой, отрезая берег от всего прочего мира. И хотя вода в долине стоит не долго – только проглянет солнце, посверкает, посеребрится влага на дне блюдца и, словно кто-то напьется из него, – все: нету воды!
Но еще два-три дня ни пройти, ни проехать через долину ни человек, ни лошадь, никакая машина не сможет. Размякший, склизкий солончак неподъемной тяжестью налипает на подошву, на колесо, здоровенный битюг не вытянет ногу, завязшую в липучей глине. Вот потому-то опытный водитель автолавки никогда в долину не съезжал – только на горе ставил машину. Потому-то и не протянули в бухту электричество – дешевле оказалось весь рыболовецкий колхоз перевести в Заводское. К тому же море все обгладывало да подлизывало берег, само при этом мельчая и скудея.

Насыр. Дядя Леня. 80-е.
Но для браконьерского промысла, тайного, ночного, щедрот его еще хватало. И осталось на берегу только две семьи: Леня с Надюшкой и Харлампыч с Савельевной, да дочечкой Людочкой, красавицей на выданьи. Скоро загляделся проезжий офицер на то, как выйдя в степь, она чешет черные, аж в синь, волосы, а потом, откинув со лба, слегка изогнув стан, заплетает их в косу толщиной с ладонь. Просватал ее и увез в Керчь.
Однажды, по совету Людочки, Харлампыч поехал в Керчь показаться врачам, да там и помер, успев перед смертью сказать дочке: «Матке накажи, никогда с берегу не трогаться…»
Но еще до его смерти появилась на берегу феодосийская дачница Анна Петровна. Разыскала в Заводском хозяев оставшегося на уступе деревянного дома – сложенные из песчанника хаты и другие служебные помещения люди разобрали на камни и унесли с собой для стройки на новом месте – а этот деревянный дом после того, как обрушился клуб, остался стоять на уступе с красивым видом на море. Обожательница всего прекрасного и ужасного Петровна, не долго думая, за пустяшную цену купила дом, и не ошиблась: здесь на берегу и того и другого было не занимать.
…День и ночь кружатся-варятся над долиной ветры. И каждый со своей причудой: вырвется «Южный», унесется за море, а вернется, неся на берег морскую прохладу. «Северный», наоборот, притянет с суши зной, духо- ту. Налетит «Туча» – взбаламутит море, вздыбит волну, а вот «Низовка» – та подкрадется незаметно, ни один листик на дереве не шелохнется, ни один волос на голове, но побежит от берега по воде мелкая рябь, и горе рыбаку, не успевшему вовремя вернуться с промысла: сколько б ни сидело в лодке гребцов, против низовки не выгребут, унесет лодку в море и поминай как звали. Разве что с вертолета найдут. А еще есть и «Восток» и «Запад» – и все они воют над долиной, но к вою их неумолчному можно привыкнуть, он, порой, укачает тебя, усыпит, как ребенка в люльке.
Труднее привыкнуть к тому, что воздух на берегу в любую погоду все триста шестьдесят пять дней в году накален соседской ненавистью. То скрытая, молчаливая ненависть эта находила выход только в оголтелом лае собак, то откровенно проступала в поступках, словах, бесконечных доносах, которые строчила на соседей грамотная дочечка.
Правда, первый же Людкин донос обернулся не против них, а как раз наоборот – от того они потом всегда знали, когда и что она пишет. По первому доносу разом приехала Ияашина и, на радость Савельевне, соседей ее забрали. Еще в машине, обменявшись парой слов, недомолвками, Леня договорился с Надей рассказывать все как было – они давно уже обдумывали, как по нынешним временам прошлое свое переписать набело, слушали приемник, читали привозимые людьми на берег газеты и знали, что наступили новые времена. И получалось, что теперь как раз случай выпал. И Леня рассказал свеженькому, только что принявшему должность следователю о том, как после смерти отца, железнодорожного инженера, работавшего на КВЖД по найму, мать его Фрося поддалась на уговоры советских эмиссаров и поехала из Харбина на родину мужа в Феодосию. И звали его, Леню, в те времена вовсе не Леня, а Алексей, по отчеству Сергеевич, и исполнилось ему ровно восемнадцать лет в тот день, когда Фросю и его забрали как английско-японских шпионов. Как раз в день рождения Алексей первый раз в жизни всю ночь гулял с девушкой. Переодеться не дали, вещей теплых взять не дали – так потом в сандалиях на босу ногу, да в «бобочке» с коротким рукавом отправили на Север. Он только удивлялся, зачем врач, осматривавший его после приговора, поставил ему, молодому, здоровому, диагноз: «больное сердце». Но опытный человек, тот, что прежде научил его в избавление от побоев и прочих мук ночных допросов, наговорить на себя, – этот бывалый человек объяснил, что затем ему приписали больное сердце, что скорее всего он умрет на этапе и никто за него в ответе не будет. Но на этапе он еще не умер, а вот уже в лагере и вправду стал подыхать. Работника из него не получилось и его «кассировали», даром, что слово это латинское «саззаге» значит не только «отменять», но и «уничтожать». И выкинули его бессознательного, распухше- го, обеззубевшего от цинги за ворота лагеря. Там и нашла его Надя.
Следователь и Надю слушал внимательно. И она все рассказала по-честному, как беспризорничала с братом Леней, как, потеряв его в начале войны, подала заявление в военкомат, написала, что хочет Родину защищать, а ее по повестке вызвали и забрали, но не на фронт, а в трудармию. Отправили в товарняке на Север. И падали на лесоповале молодые девки от голода и непосильных трудов, как на передовой.
Вот она хоть и выжила, но даром не прошло: осталась бездетная. К лагерю ходила регулярно: все надеялась брата Леню найти. И наткнулась однажды на дохляка – он и имени своего сказать был не в силах, так она его сама Леней окрестила. И выпросила у смерти. Девки на лесоповале говорили ей: «Надька, что ты себе мужика не можешь найти – этот же не жилец вовсе…» А она им:
«Вот похороню Ленечку, тогда найду…»
И как бежали они с Севера без единого документа после войны тоже рассказали. Хоть и кончилась война – она где угодно кончилась, но на лесозаготовках ей конца и края не видно было. Хоть и не подконвойные люди, а без документов – жизнью своей сам не распорядишься. Но они с Леней бежали. Долго рассказывать, как на подножках вагонов, держась голыми руками за обледенелые поручни, так что отдирать руки с мясом приходилось, бежали они на юг. И прибежали вот в эти края. Поначалу рядом с бухтой в пещере жили. Питались мидиями, воду пили гнилую с лягушками пополам. А потом нанялись в артель, стали промышлять на тральщике, среди всякого сброда, и никто у них паспортов не спрашивал, поскольку, хоть и был здесь рыболовецкий колхоз, но рыбаков с войны вернулось раз-два и обчелся, вот разве что хитрый цыган Харлампыч… А они так по сей день и живут без паспортов – с какого конца за дело взяться не знают.
С притворным огорчением следователь объяснил, что поскольку сам Алексей Сергеевич признал себя шпионом, хоть ясное дело, никаким он шпионом не был, но реабилитировать его никак невозможно. Надя стала просить-умолять отпустить их, и, поинтересовавшись подробнее, как к ним лучше проехать, в какое время года лучше идет лов, следователь их отпустил. Вскоре приехал на своей «Победе», привез водки, выпил, закусил. Пообещал паспорта выправить, увез рыбы, икры свежей и стал частенько наведываться, то один, то с женщиной, выпив и закусив рассказывал, какие пишет после каждого своего визита на берег доносы Людочка. Чем солиднее были Ленины клиенты, чем чаще подъезжали к его хате машины, тем злее были доносы.
У Харлампыча, понятное дело, были на тайный промысел свои люди, но темные, на дневном свету неказистые. А как помер Харлампыч – их и след простыл. А жизнь на берегу клиента требовала. Водовозку на берег пригнать, пресную воду в бассейн залить, керосину привезти для ламп, муки, сахару, подсолнечного масла, баранок, лекарств разных – все это дело клиентов. Без клиента ни молока, ни бычка сушеного не продашь, ни за байду трешки не возьмешь, собакам и тем объедков кинуть некому. А главное некому новости рассказать.
Савельевна грамоты не знает, газету ей не прочесть. а вот послушать, что в мире происходит, любит. Когда- то увел ее из Калиновки от крестьянского труда белозубый чернявый молодец – до того пришелся по нраву длиннорукой здоровенной девке, что она отца не послушалась: «Морем, – говорил отец, – один бездельник кормится: есть погода, может и добудешь чего, а нет – сиди у моря, жди погоду. Земля одна человека кормит» – и проклял дочь. Она и о смерти родительской только слухом узнала. Здесь на берегу вся жизнь ее составилась из непрерывного труда и нищенства во имя богатства. Были времена, когда разбойный характер муженька нес в ее руки косяком прибыль, но и в те времена она ходила в рванье и бесштанная. Работала она тогда на засолке, наклонится над чаном, а парни артельные сидят на земле и гогочут.
– Чего скалитесь? – огрызнется она. – Дома такого не насмотрелись? А мне не жаль, любуйтеся… За длиннорукость, за костистость даже в лице, за мужицкую силу получила она прозвище «Кобыла». Однажды по зубоскальному доносу влетела в избу к солдатской вдове и застала на ней Харлампыча. Сгребла парочку как есть и вынесла на всеобщее обозрение – так и положила в круг мигом сбежавшегося народа:
«Нате вам, глядите на бесстыдство ихнее…»
Харлампыч боялся ее. Хоть и знал, что во время войны она жила с полицаем, никогда не попрекал этим. А как- то уже много лет после войны, когда умер кум Кондыба, бабы на кладбище перепились и вдруг с визгом: «Подстилка фашистская! Пошто от наших детей молоко отбирала для немецкого офицерья?!» – набросились на Кобылу, рвали волосы, царапали морду, Харлампыч насилу помог отбиться. А соседи Леня с Надюшкой только смеялись. Это запомнилось…
Много обид хранила ее память. Хорошее не удерживалось в ней или его попросту не было. Люди приходили на берег, уходили, после них оставалась только грязь да вонь. И подлость, смыслом которой была в лучшем случае корысть, а в худшем – глупость. «От, люблю дураков, – ерничает другой раз Савельевна перед новой соседкой. – Дураки, Петровночка, родятся на свет, чтобы нам умным хорошо было».

Насыр. Лиза и Поля в степи. Середина 80-х.
Переселяясь на берег из душной феодосийской квартиры с мая по сентябрь, Анна Петровна старалась вникнуть в соседские распри, поначалу ей диким казалось, что, не имея вокруг себя никакого другого общества, эти две семьи могут так люто враждовать. Она ужаснулась. Надиному рассказу про то, как та отучила Савельевну барашков красть: «Однажды я укороулила ее барашка и в тот же вечер зазвала ее в гости: Савельевна хоть как будет с тобой в ссоре, но пожрать на дармовщинку никогда не откажется. Сидит, ест, только пальцы облизывает. Тут я ее и спрашиваю: ну что, Савельевна, вкусный барашек?» «Ой, вкусный, чего ж ему невкусным-то быть?..» «Ага, – говорю, – а барашек-то твой!» С ней чуть удар не сделался, она аж поперхнулась, даже выругаться сразу не могла. Я ей и сказала тогда: «Или ты только чужих барашков можешь есть, а свой в глотку не проходит?»
– Так то ж баржомка, она ж черт знает хде лазала, каким местом куски добывала. То ж баржомка настоящая! А он вообще лахерник: чи убил кого, чи што… – пугала соседями Савельевна.
Четверть века прожила Анна Петровна со своим мужем, врачом на Чукотке. Сама работала акушеркой. Выйдя на пенсию, они избрали местом жительства Феодосию, муж стал работать в коктебельском санатории – он не одобрил пристрастия жены к пустынному берегу, даже изредка приезжать отказывался, не мог обойтись без электричества, без телевизора и уборной, а Петровна уборную наотрез отказалась построить, считая, что от нее одна антисанитария при доме разведется, а в степи все солнце иссушит, муравьи, да жуки растащут, только почва богаче станет.
Наверное, долгая жизнь в северных просторах привила ей нелюбовь к большому скоплению людей, она всей душой пристрастилась к морю, хоть плавать и не умела, но зато оказалась заправской рыбачкой: уговорила Харлампыча продать ей лодку, сама не могла ее в воду столкнуть и вообще в море одна выходить боялась, но в ловле оказалась необыкновенно удачлива, ловко шкерила бычка, солила, развешивала, меняла его то на клубничку, то на огурчики, то на мясо в уваровской столовой, легко покрывая по степи пешим ходом восемь километров до деревни.
Харлампыча скоро стала раздражать удачливость Петровны в ловле, которую та приписывала одной только сотворенной перед выходом в море молитве, а Харлампыч – какой-то непонятной ему жадной хитрости. Он отказался рыбачить с ней и тогда она переметнулась к Лене. Вообще ей всей душой хотелось осуществить здесь на берегу какую-то миротворческую миссию. Возможно от долгой жизни на Чукотке она сохранила в себе много детского. Высокая, статная, густоволосая блондинка с лицом слегка увядшим, но все еще хорошеньким, она к шестидесяти годам не то, что не постарела, но даже просто взрослой не стала: легко обидится, поссорится скоро и бурно, так же легко простит и помирится; легко ужаснется, легко восхитится. И все на свете для нее делится на ужасное и прекрасное, причем и то и другое одинаково волнует воображение.
К прекрасному относится все поэтическое и волшебное: клады, заговоры, молитвы, лечебные травы, тайны звезд и камней, из новейшего – летающие тарелочки и экстрасенсы. К ужасному – чудовищные редкостные болезни, глисты, змеи. убийства, особенно из-за богатства, все виды порчи и прочая дьявольщина. Душа у нее поэтичная до чрезвычайности, она во всяком слове может уловить музыку, даже латинские названия жутких болезней произносит с чувством таящейся в них красо ты.
– Зачем вы Надю в реке моете? – как-то сделала она замечание Лене. – Там же овцы пьют, там могут быть сальмонеллы – и это «сальмонеллы» так с упоением, в растяжку сказала, даже глаза прикрыла.
– Чего там? – насторожился Леня, но узнав, что это овечий глист, опасный для человека, причем смерть от него быстрая и мучительная, назло ей съехидничал:
– Да?! А я подумал цветы какие… Чего вы так говорите, сказали бы просто «глисты». Мы тут, считай, тридцать лет моемся, а было время и пили эту воду – другой- то не было, а живы пока…
Петровна обиделась, губки надула: «У-у! Вредный вы! Вредный, бурят!» – повернулась и пошла. Черная с проседью богатая шевелюра, мягкая Ленина повадка, да рождение на Востоке почему-то утвердили Петровну в мысли, что без бурятской крови в его жилах не обошлось. Но сам Леня ничего такого за собой не знает. Она постояла у кромки густо набежавшего к берегу комка, вслушалась в гомон неутомимо припадающих к воде чаек, скороговорочкой сказала сама себе: «Если чайка села в воду, жди хорошую погоду», и как ни в чем ни бывало окликнула Леню, уже ведущего Надю к дому:
– Леня, давайте лодку спихнем, половим бычка!
– Что ж со мной ловить, если я – вредный бурят. – Ну, Ленечка! Это ж я так сказала. Буряты – они ж хорошие!
– Не ходи! Не ходи с ней! – больная Надя давно ревнует его к белотелой дачнице, один раз в приступе бессильной злобы побила окна в ее доме: долго болтались тогда Леня с Петровной в море, хорошо шел бычок, а вот с того, собственно, дня и началась Надина болезнь. Но, как ни странно, именно над Надей Петровна имела магическую власть.
– Бросьте вы свои глупости, Надя! – говорит она сердито и строго. – Мне что ли одной бычок нужен? Он и вам нужен. Я приду, помогу Лене почистить, ухи свежей наварим! – так у нее все ладно, задорно получается, а, главное, этим вот естественным, без всякого ударения брошенным «Вы» – возвращением чего-то давно забытого – Петровна раз и навсегда взяла верх над Надиной душой.
Еле ворочая языком, полупарализованная Надя любила вспоминать плачевную историю своей болезни: «Я побила окна, а она с моря вернулась и говорит: „Уходи и больше не приходи“. Я говорю: „Вот уйду и не приду больше“. А она говорит: „И очень хорошо! И еще пойдешь и упадешь!“ Я пошла и упала. Вернулась к ней и говорю: „Петровна, я упала!“ А она: „И правильно! И еще упадешь!“ Я пошла и еще упала… И уж встать не могла…»
Поражая слушателей, Петровна охотно подтверждала рассказ: «Да. Я так и сказала: „Вот пойдете и еще упадете, Надя“. Она и второй раз упала». Обе версии сходятся, предсказание сбывается – и перед волшебностью происшествия бледнеет и меркнет обыденный реализм многолетнего недуга.
А в тот раз или в какой-то другой, но вышел однажды у Лени разговор с Петровной особенный, задушевный. Леня рассказал Петровне всю свою жизнь, и тут оказалось, что она и прежде не верила Савельевне, что он как уголовник сидел – как узнала, что он из Харбина, так сразу и поняла, что к чему, – даром, что и она с мужем на Чукотку завербовалась не от хорошей жизни. Сокровенный это был разговор, и трудно было понять, как она могла так предать его – взяла и все пересказала Савельевне. Но он тогда простил ее. Понимал, что она это сделала не по злобе, а по глупости, хотя как это она могла быть вполне умной для себя и такой дурой для них с Надей оказаться – так и осталось загадкой ее харак тера.
– Вы же интеллигентный человек, Леня, – доказывала ему Петровна свою правоту. – Вы должны понять: Савельевна – женщина темная, неграмотная, откуда она может знать о репрессиях, о культе личности? Я же хочу, чтобы она изменила свое отношение к вам! Вы же мой друг, мне неприятно, когда вас зря оскорбляют.
Но как она ни старалась просветить Савельевну, та слушала без всякого интереса, а под конец ей и вовсе надоело:
– Ну, шо ты буровишьдо меня всякудурь? Ну, власть – она и есть власть: та была власть – она и была правая, другая пришла – теперь она правая. А ты живи при всякой власти и ее не задевай, и она тебя не тронет. Нас вот никто шпионом не обозвал, кум Марченко, уж на что лютый был, а и ему никакая власть поперек не стала. А уж он шибко по банку бил, ой шибко!
Того только и добилась Петровна, что ее «лучшего друга» Савельевна иначе как «шпиеном» теперь не звала и, отвечая на вопрос приезжих: «А кто в том доме живет?», говорила: «А не знаю, шпиен, чи хто, с Китаю, чи откуда, шпиен и женка евонная, видать шпиенка…», с удовольствием читая при этом ужас на лицах слушате лей….
Но тогда Леня простил Петровну, а вот теперь все чаще настигала его жгучая обида на нее. Сколько раз, болтаясь с ним часами в море, говорила: «Я вам лучший друг, Леня! Вот вы не знаете, какой я вам друг, а я за вас всегда Богу молюсь. А вы? Ну скажите, если лодка перевернется, вы меня будете спасать?» Она говорила кокетливо, будто шутя, и он, шутя, отвечал, что спасать будет не ее, а «закидушки». И оба они смеялись, она надувала губки: «У, вредный вы бурят! А я все равно буду за вас Богу молиться!» Он в ее молитвы не очень-то верил, но что б так вот бросить его в беде – ни разу не наведаться на берег за всю зиму – этого он не ожидал.
Где-то в середине февраля небо заголубело, снег заискрился и стал весело таять. Леня понял, что ждать осталось недолго: вот только потает снег, тронется море, потянется на берег промысловый люд. Тут уж точно Петровна приедет. Не к нему, не горе его горевать, а за икрой. Выдумала она и сама в свою выдумку крепко верит, что на севере сделалась у нее радиоактивная болезнь и что от этой болезни одна только черная икра лечит. Густо на белую булку намазывает. А он ей икры не даст. И все выскажет!
Мысль эта развеселила его, он ожил, огляделся вокруг, нагрел воды, вымылся, побрился, просеял от мышиного помета муку, напек лепешек, нарезал мелко сала и во все углы поставил мышеловки, смел паутину, протер стекла и – как раз увидел, что едет по степи полковничья «Нива» – первая ласточка.
– Ну, Леня, – сказала, входя в избу, полковничья жена. – Ты, я вижу, совсем молодец! И правильно! Это ж великое дело круглый год на свежем воздухе жить! Он меня брать с собой не хотел: у нас, говорит, мужские дела, а я задыхаюсь в городе, мне простор нужен! Я вам мешать не буду, занимайтесь, пожалуйста! Я сама по себе! И пока Леня с полковником перебирали сети, готовили снасть к предстоящему лову, она, выйдя на пригорок, разделась до пояса, оставшись в одном широком, до самой талии бюстгальтере, под лучами еще прохладного солнца стала махать руками, вертеть туловище из стороны в сторону, а потом растирать его каким-то поясом из деревянных катышков.
Когда они собрались домой, договорившись, смотря по погоде, о следующей встрече, Леня не стерпел и всетаки попросил:
– Я это… ну, если пояс такой продают в городе, так может вам не жаль, я заплачу…
– Ле-ня! Ну, Ле-еня! – аж пропела полковничиха от восторга. – Вот это по-нашему, по-гвардейски! – она хлопнула Леню по спине, крикнула – Молодец! – и подарила ему массажный пояс.
С того дня еще затемно, Леня пускался прыткой трусцой вдоль берега реки, потом делал массаж всему телу и обтирал себя тающим снегом. А уж потом справлялся по хозяйству.
Как-то на пути к колодцу его окликнула Савельевна. Псы ее еще загодя выступили на передовую, вздыбилась шерсть на их загривках, оскалились морды, Ленина свита тоже изготовилась, но Савельевна неожиданно прикрикнула на своих собак: «Тише вы, проклятые!» И обычный концерт не состоялся.
– Слышь, Людка приезжала. Ходила до тебя. Ходила. А ты чи спал, чи шо. Не стала тебя будить. Хлеба тебе привезла. Щас вынесу…
Врала она или нет, может и ходила Людка, хотя трудно поверить. Леня подумал о собаках и от хлеба не отка зался.
– На вот, держи, – Савельевна протянула ему две буханки, вдруг сморщилась и сквозь слезную гримасу сказала. – Надю-то жаль… Ой, не верила я, шо она и взаправду… Теперя мой черед…
От удивления Леня только спросил:
– Что ж твой? Ты ж здоровая…
– Мой! Я знаю, шо мой! А ты вот подругу свою спроси, цыханку белую, – уже сухим голосом рявкнула Савельевна и, утирая торчащим из-под ватника грязным фартуком глаза, пошла, на ходу бурча, – какая я здоровая? Мне масло давить не с кого – вот я и здоровая…
Напоминание о «подруге» укололо в самое сердце, – надо же, Людка и та хлеба привезла… А эта… «Цыганка белая» – повторил вслед за Савельевной, задумавшись, впрочем, о чем бы это ему надо спросить ее.
Скоро стали наведываться на берег то те, то другие верные люди, сговариваться с Леней о ближайшем ночном деле. Опасный этот промысел всегда как-то разжигал Леню – вопрос наживы стоял для него на втором месте, на первом были азарт и фатальный привкус удачи. За всем этим обида на Петровну притупилась и когда приехали люди из Феодосии – как раз за икрой – и привезли письмо от Петровны, в котором она просила продать им икры и для нее тоже, Леня письмо прочел и продал. Она писала, что о Надиной смерти узнала только по возвращении из Ташкента, куда ездила к сестре мужа, врачу-стоматологу, вставлять зубы, и очень жалеет и его, Леню, и о Наде. Заказала панихиду и просит передать с людьми горсть земли с Надиной могилки – она ее освятит и привезет с собой, и они с Леней вместе пойдут и посыпят ее на могилу. Читая эту ерунду, Леня почему-то заплакал, на кладбище с людьми съездил и, отдавая им замотанную в тряпицу землю, вдруг вернул Петровнины деньги за икру, сказав: «Пусть сама для расчета приезжает…»
Этой весной две ласточки слепили гнездо под потолком Лениной уборной. Самочка отложила не то шесть, не то семь голубовато-серых в крапинку яиц – Леня в гнездо заглядывал с опаской, он даже находиться теперь в уборной стеснялся; такой переполох у птиц вызывало его появление, что делалось неловко, хотелось поскорее убраться оттуда. Однако, недоумевал: как же это столько птенцов в таком маленьком гнезде уместятся… Из опаски, что под тяжестью вылупившихся птенцов гнездо обрушится, он кнопками прикрепил пониже его поддон из плотной бумаги – и как угадал: вскоре гнездо обвалилось одним боком, и птенцы непременно бы вывалились из него, если бы не ласточки- на заботливая предусмотрительность. Леня только диву дался, как они могли сделать такое, но пятеро птенцов, как гирлянда елочных лампочек, повисли над поддоном, аккуратно перевязанные за лапки конским волосом. Только шестой зацепился за край гнезда и удерживал остальных. Седьмой птенец, должно быть позже всех вылупившийся, совсем заморенный, старшими братьями -сестрами затоптанный, не был привязан – наверное, мамка не рассчитывала его, слабака выкармливать, или невзлюбила еще до того, как он вылупился. И теперь он валялся, чуть живой, на бумаге. К концу того дня Леня зашел поглядеть – теперь он уж не зачем другим в свою уборную не ходил – и увидел, что все птенцы назад в гнездо заправлены, а этот остался лежать в поддоне. Леня знал, что птица может бросить гнездо, если чужой запах в нем почует, но все-таки подобрал две щепки и, слегка пораспихав ими старшеньких, подсунул бедолагу к самому краю. Тот, едва оказавшись в гнезде, раззявил клюв и заверещал не хуже братьев. Леня наблюдал потом как и его, оперившегося вовремя, родители учат летать, и почему-то радовался.
Петровна приехала под конец весны. Объявила Лене. что муж ее вообще пускать не хотел, поскольку она – все ж таки женщина, а он, Леня, – все ж таки мужчина. Глупость эта – при том, что он так сразу и подумал, что это глупость – как-то все-таки польстила Лене. Он не стал тратить слова на пустые упреки, и на радостях показал Петровне ласточкино гнездо. Та восхитилась и тотчас сделала предсказание:
– Леня, вот Надя умерла. Жаль Надю. Но вы долго будете жить: если ласточка свила гнездо под вашей крышей – это значит, вы будете долго жить… – При этом она улыбнулась во всю ширь и ослепила Леню двумя рядами золотых зубов. «Господи, – подумал он – это что ж она себе сделала? Ну, точно «цыганка белая» вспомнил он и не удержался от вопроса:
– А вот, что это Савельевна мне сказала, что теперь ее черед?..
– А я не рассказывала вам? Да, я не рассказывала, не хотела вас огорчать. Это же прошлым летом было. Савельевна меня под навесом ждала. И Надя пришла и села. Ну, как она всегда, на землю прямо.
Навес этот – территория нейтральная, какой-то отдыхающий построил его, прожил под ним одно лето и уж больше не появлялся.
– Ну вот, я иду и вижу: сидит Савельевна, а рядом с ней Надя. Я уже подхожу и вдруг, в какой-то момент перед моими глазами все исчезает: навес вижу. а ни Нади, ни Савельевну под ним нет! Это один какой-то миг было! И все: опять вижу! И такое у меня лицо было, что Савельевна спрашивает, это что с тобой? Ну, я и рассказала ей…
– Так что это значит?
– А то и значит. Ленечка… Савельевна и та поняла…
– Так что ж выходит, вы знали, что Надя помрет?
– Ну, конечно, знала…
– И поехали эти зубы вставлять?
– Ну, вы странный какой?! Поехала, конечно. При чем тут мои зубы?
– А теперь, что ж получается: Савельевны черед?
– Отстаньте от меня, Леня! Что вы пристали?! – повернулась и пошла здороваться к Савельевне. Но и тут у нее нехорошо получилось.
– Савельночка! – пропела она сладким голосом. – Я вам чувячки привезла!
– Поди ж ты радости: чувячки! Да на хера мне твои чувячки! – огрызнулась вместо приветствия Савельевна.
– А что ж я должна была вам привезти? Машину может быть? Какая вы странная!
– Это я-то странная?! А хто тебе всю зиму хату доглядывал? Этот вот, как бабу захоронил, на берег носу не казал, до того дошел, что быков пресной водой поил! А шоб оно было с твоей хаты, кабы не я? Я тебе еще кода гуторила? Петровна, ты не хату покупаешь, ты сторожа покупаешь! Вон тут цельный поселок растащили – камня не осталося. А ты мне за зиму буханки хлеба не привезла?! Ну, наглая!
– Если вы так, я вообще с вами разговаривать не буду!
– Петровна обиженно повернулась, но через какое-то время пришла с полными руками: принесла сухарей. колбасы, банку тушенки и сделала приглашение:
– Савельевна, приходите ко мне чай пить.
– Чай? Ладно, иди. Как управлюсь, приду. Угощение Савельевне понравилось, она поела и сыр, и привезенный творог, хоть и поругала его, а по вареной колбасе, видно, сильно соскучилась – но Петровне не жаль ее было – без холодильника все равно не сохранишь. Обижала только манера Савельевны, едва к столу приблизится кто-то, тотчас встать и, утирая рот корявой клешней, нарочито поблагодарить: «Ну спасибо, Петровна, я чаю пустого напилась, теперь пойду».
– Как это пустого? – всякий раз удивлялась Петровна такому беспардонному вранью. Но уже на ходу, закинув руки на согнутую поясницу, только что уплетавшая за обе щеки все подряд, Савельевна продолжала утверж дать:
– Да, пустого чаю попила, теперь пойду. Мне мнохо не надо.
– Нет, Леня, вы подумайте: пила-ела, и вдруг пустого?
– Кобыла-то? Она всегда так, она ж чужое ест – не чувствует.
Этим Леня выражает свое презрение к бессмысленному желанию Петровны ладить мир и с ним и с Савельевной.
Но оказалось, что этим летом мир с Савельевной Петровне просто необходим. У нее и раньше была причуда – боялась она одна в доме ночевать и частенько напрашивалась к Лене с Надей на ночевку, но теперь, когда Леня остался один, это выглядело бы вовсе неприлично, а она как раз этим летом даже помыслить не могла об одиноком ночлеге под собственной крышей – откажи ей Савельевна и пришлось бы Петровне уехать в душную, пыльную Феодосию. Но, наскучавшисьза зиму по разговорам, Савельевна не отказала. И вот теперь каждый вечер, подхватив пуховый спальный мешок, Петровна запирала свой дом, выбросив предварительно за порог от грозы и всякой другой напасти топор, шла к Савельевне. Та к этому времени уже успевала подоить корову Зою и тем завершить дневные свои труды. Вот Леня еще весной сдал быков, продал корову – Савельевна, узнав об этом, только и сказала: «Ну, все: зимой от безделья умом тронется!» Но он и прежде не много сил на скотину тратил: выгонит в степь и до самого вечера не вспомнит о них. Пасутся, где хотят, хоть в колхозное поле забредут. А это дело опасное – могут увести скотину в колхозный коровник, да еще штраф наложить. Савельевна по здоровой крестьянской выучке не может так обращаться со своим добром: таскает она быков и корову по степи на веревках, в одном месте вобьет в землю железный штырь, оставит до тех пор, пока скотина заленится траву щипать, чуть заляжет – уже спешит Савельевна на другое место перетащить, где травка посвежей – и так целый день мельтешит по степи ее сгорбленная длиннорукая фигура с веревкой через плечо, со штырем и молотком в руке. А в полдень непременно тащит быков к колодцу. От Арабатской стрелки до самого Заводского это единственный колодец на берегу. Глубокий, выложенный камнем, он хранит чуть солоноватую воду всегда прохладной. Отфильтрованная почвой она все-таки слишком солона, для чая, например, не пригодна, но картошку сварить в ней вполне можно. А быков уж, конечно, не привозной водой из бассейна поить. Но попробуй-ка вытяни руками из колодца восемь ведер подряд – бык только морду в ведро опустит, вздохнет – и ведро пустое. А еще и барашков надо поить, и курам корму дать, и цыплят в клеть загнать, и уж после всего Зою подоить. Теперь Зоя лежит на холме среди еще невыгоревшей травы так, что в том месте, где быстро меркнущее небо касается округлости земли, видны только ее кривые, отвернувшиеся друг от друга, будто навсегда поссорившись, рога.
Гул, весь день стоящий в долине, к вечеру смолк, можно даже лампу вынести и ее не задует ветром. Но чего керосин зря жечь, можно и так посидеть на лавке, посмотреть во все четыре стороны. И Петровна, и Савельевна любят, как стемнеет, усесться спиной к морю и смотреть в степь. Там, где-то на самом ее краю полигон, далекий, неслышный, но в кромешной тьме южной ночи занимающий воображение стрельбой по зависающей цели. Вдруг повиснет над горизонтом яркое, безмолвное пятно и кажется, что это не ракета вовсе, а черт знает что, но вот уже, оторвавшись от земли, летит ей навстречу другая и. если попадет, обе, ослепительно вспыхнув, гаснут; но иногда не попадает, куда-то проваливается и тогда первая, еще немного повисев в воздухе, сама собой тухнет.
– Да. Это ж сколько они денег зазря в воздух пущают, – негодует Савельевна. – Внучек мой Сашка, он же ж в Германии служит, так он, как на побывку приезжал, так он сказывал…
Но Петровну не устраивает такой прозаический поворот дела и, мечтательно вздохнув, она перебивает Савельевну:
– Ой, Савельночка, а я вам скажу: я видела настоящую летающую тарелку.
– Не знаю, шо ты там могла видеть. Я вот сколь ни сижу тут, такого не бачила.
– Так я не здесь же видела, а на Севере. Пошли мы раз за морошкой, идем и вдруг я вижу: я одна, никого нет! Только что было полно народу и вдруг я одна.
– Ну, хорошо, ты мне вот шо скажи: и шо ты в том Севере делала? Деньгу копила, чи шо?
– Ну, что вы, Савельевна, какую деньгу? Я бедная. А вот вы, вы почему к Людочке в Керчь не переезжаете?
– Ага! Вот тут все брось и переедь?! Не-е. Была я раз в той Керчи. У-у, буйный город! Ну, буйный! А поглядеть некуда!
– Как это некуда?
– Не-не. Некуда. Стены кругом.
– Но можно же телевизор посмотреть?
– Ну шо я в том телевизоре не бачила?
– А здесь-то вы что видите?
– Ой, да шо ты гуторишь? Здесь мне далеко видать:
там корова моя Зоя – мне видать, там волухи мои пасутся – мне видать, там кошару видать, там Валькину хату. Машины по-над долиной едут – мне видать. И на море все видать. Так что и не буровь мне…
– А у Люды хорошая квартира?
– Да. Она, как развод сделала, осталась одна с Сашкой, так мы им на одну только стенку полторы тыщи дали. Теперь Сашка с армии придет, я ему на машину дам.
– А говорите, я богатая?! Я-то бедная! Вот вы, Савельночка, богатая!
– Не. Это какое богатство?! Вот Марченко-кум – так тот богатый был: он как помер, так у него только в хате триста тысяч нашли! От это богатство!
– Да откуда же?
– А от как немцы-то тут колонны гнали, так он брыльянты из ушей аж с мочками рвал!
– Ой, Господи! Разве можно у людей, с мочками, Савельночка?
– Так, Петровночка, то ж какие люди? То ж жиды были…
– Так что ж по-вашему: жиды – не люди?
– Оно може и люди, а только ни те брыльянты, ни те ухи им зараз уж не к чему были.
– Ну, не знаю, какие вы страшные истории на ночь рассказываете.
– Ну, это чего страшного? Вот как его сын женку забил – от то да…
– Как это забил?
– А так, и матка евонная не отняла. Не заступилася.
– Да почему же?
– А потому! Склещились они. Она девкой-то гуляла с ним и вон там в лесозащитной полосе они и склещились. Чабаны нашли их. А куды денешься? Она ревет, народ гогочет, повалили их, как есть, на телегу и в поселок в больницу отвезли. Отмачивали их чи в ванне, чи хде…
– Ну, вообще это бывает, медицине такие случаи известны.
– Во-во. А я шо гуторю? Шо известны. Я брехать не люблю. А только пришлося ему жениться на ней. Куды ж девку после такого позору? Но он видать и не жил с ней, у них и детей не было. А как напьется, так орет «Лесозащитка проклятая!» – иначе и не звал ее. Это нашли-то их в лесозащитной полосе. И бил нещадно. А как батька помер, достались ему деньги-то, тут чего не жить. Батька-то не давал ему шибко по банку бить. Ну а тут, как зачал он убивать ее и орет: отойди, мать, лучше я отсижу за нее, «лесозащитку» проклятую, я из-за нее этим… ну, вовсе не мужиком, значит, стал!
– Импотентом, наверное?
– Не знаю, може им. Только, значит, не нужон ему нихто: ни она, ни хто. А все имел, значит, интерес, раз убил…
– Насмерть?
– А то как еще? А уж о третьем годе, как из тюрьмы вышел, да женился и деток нарожал. Люди видали, не будут брехать.
– Какой ужас!
– Не знаю, может, оно и ужас. а може, еще шо, но вот только ты скажи мне: как это ты, женщина такая самостоятельная, а сама в своем дому ночевать не можешь? Вот я, к примеру, ворочуюсь по ночам, топчан подо мной скрипит.
– Да ворочайтесь на здоровье.
– Ну храплю, да собаки у меня в хате навоняють…
– Мне храп ваш нисколько не мешает. А собачки – это хорошо, я собачек люблю! Правда, Балахайка? Хорошая собачка! – Анна Петровна только руку протянула, потрепать Балахая по загривку, как Жучок тотчас ревниво ощерился и издал первый предупреждающий рык. – И тебя, и тебя, Жучок, люблю! – переметнулась к нему Анна Петровна, хорошо зная его скверный ревнючий нрав. – Ты хорошая собачка, и Белка хорошая… А Балахайку я все равно больше люблю!

Насыр. Дети и коровы.
Большой, поросший медвежьей шерстью Балахай и в самом деле добродушней своего единоутробного братца и покрасивей его. А тот – сущий дьявол: гладкошерстный, как Белка, он от нее ни единого белого пятнышка не унаследовал, сплошь вышел черный, только как ощерит зубы, вздернет в злобе верхнюю губу – так сверкнет острыми клыками, а глаза от ярости наливаются кровью. И характер у него сволочной: хоть и младше брата, но случая не было, чтобы в чем-нибудь уступил ему. За каждым брошенным куском первый срывается и уж ни Балахая, ни Белку к добыче не подпустит. А главное, ни за что не уступит братцу место у ног Савельевны.
Старая Белка ляжет себе в сторонке и дремлет постариковски, а Балахаю еще хочется хозяйской ласки и он зорко выжидает момент, когда Жучок пружинисто вскочит и припустит в сторону – то ли за мышью пробежавшей, то ли за какой другой добычей – тут Балахай со всей своей бескорыстной любовью старается занять его место подле Савельевны. Жучок никогда этого стерпеть не может: с полдороги рывком бросается назад и, если только не отскочит Балахай, вцепляется в него с бешенной яростью. Зная нрав своего братишки, Балахай обычно сам уступает Жучку место у хозяйских ног, отползает в сторону, довольствуясь ласковым словом Петровны или кого-нибудь другого из приезжих на берег. Приезжих этим летом было больше, чем обычно.
Кто знает каким образом, но попало описание бухты Ялточки и подробное указание, как в нее проехать, на страницы специального журнала для автомобилистов. Вот по этому описанию с обещанием хорошего отдыха и потянулись на берег люди. С Украины приехало на двух машинах большое семейство. Поставили на берегу палатку, над машинами натянули тент, вбили глубоко в ракушник четыре кола, обмотали веревкой и по всем четырем сторонам навесили здоровенные палки домашней копченой колбасы. Дескать, пускай под морским ветерком проветривается. От мух жиденькой марлей занавесили и каждый день по колбасе снимали – так что можно было с уверенностью рассчитать, на сколько дней они свой отдых планируют.
Еще приехала пара пожилых молодоженов, тоже не на день, не на два, а как понравится, поскольку оба пенсионеры и могут свой медовый месяц справлять бессрочно.
Она, Антонина Филипповна, полная, животастая, вдо- ва капитана первого ранга, женщина веселая, общи- тельная, охотно сообщала всем, что хоть и есть у нее уже взрослые внуки, но доживать свой век по-вдовьи ей еще никак не возможно, а Николай Николаевич, хоть и дослужился только до боцмана, человек хороший, мужчина здоровый, тоже недавно жену похоронивший, вполне ей пара. Они приехали на стареньком «рафике», в нем и ночевали, и расположившиеся неподалеку от них ленинградцы жаловались Петровне, что «рафик» по ночам до невозможности сотрясается, прямо ходуном ходит и звучит абсолютно неприлично. Эти ленинградцы – муж, жена и двое детишек – люди интеллигентные, очень набивались к Петровне в друзья, рассчитывали, вероятно, что она хоть за деньги пустит их в свой дом, тем более, что сама не может одна в нем ночевать, но Петровна знала, что никакими деньгами здесь на берегу расход газовых баллонов, да пресной воды не возместишь, а, главное, не хотела терпеть беспокойства от детей. И вообще на свой бассейн замок повесила. Большой амбарный замок, издалека видный. Так что люди даже не идут к ней за водой, а все прямиком к Савельевне.
Савельевну такая наглость Петровны прямо-таки потрясает.
– Петровна, не криви Бога, – грозит она корявым пальцем перед носом феодосийской дачницы. – Не замыкай воды! Ты Бога за бороду не схватишь, сколь ни молись! Раз ты воду запираешь от людей, ты Бога кривишь!
– Да что это я всем обязана ее раздавать? – оправдывается Петровна. – Я за воду плачу! Я что ли богаче вас?! Вам ее может так, за байду привозят, а я свою в наем не даю. Мне за воду платить нужно.
Намек на редких теперь, но все же наезжающих еще ночных гостей смиряет гнев Савельевны, но не удерживает от нравоучительного рассказа:
– От ты послухай меня, я знаю, шо гуторю: было здесь на берегу семь колодезей – оно и место это звалось «Семь Колодезей» потому. И всеми ими один человек владел. Так он на все на них замки вешал и никому напиться без денег не давал. И разбогател и слуг завел и сынка своего, слабенького такого мальчишечку, в ученье отдал. А сынок, как вернулся домой, так сказал: отомкни колодцы, нельзя от людей воду замыкать. Отец его за такие слова прогнал от себя. Прошли годы. И шел берегом нищий человек. Остановился и стал просить слуг напиться. А те ему и говорят: нельзя, хозяин без денег не велит воду давать. Заплакал тот нищий и повалился наземь. Тут хозяин прибежал и видит – это ж сын его. Кинулся колодцы отмыкать, а уж поздно; умер сынок-то. И в тот же миг вода в колодцах вся высохла. Во всех шести колодцах ни капли не осталось. Только в одном, подле которого, лежал его сын, – из него успел отец зачерпнуть да сыну поднесть. хоть и поздно уже было, – в нем только и осталась вода. А как зачал отец над сыном мертвым страдать и слезьми обливаться, так сделалась в том колодце вода соленая. Так и стоит соленая по сей день. А на том месте, где помер сын, отец велел столб врыть, чтобы другим памятно было и чтоб никто больше воду не замыкал.
Высокий этот столб, единственная на всем берегу вертикаль – далеко в степи видное восклицание о том, что здесь на берегу еще обитают люди. Но хоть Петровна и знает, что просто-напросто стоял у колодца когда-то журавель, да в шторм обломало поперечину, что вода в колодце солона, потому что морская это вода не до конца от соли отфильтрованная почвой, история ей нравится, она взволнованно, чуть не со слезами говорит:
– Ой, Савельночка, и откуда вы это все знаете?! – однако замка со своего бассейна снять и не думает.
Это, наверное, и привело к тому, что, когда она вечером явилась к Савельевне со своим пуховиком, та опять настырно, прямо в лоб спросила:
– Нет, ты мне все ж таки скажи, пошто ты в своем дому сама спать не можешь? Я нагинаться не могу, у меня в хате не метено, а ты завалишься, метлы в руки не возьмешь, так оно почто мне твое ночеванье надо?
– Что ж я вам хату мести должна? – возмутилась Петровна. – Я сюда лечиться приезжаю.
– От чего лечиться-то? Ты ж баба здоровая, тебя в бричку впрясть по степу гул пойдет!
– В какую еще бричку? Что вы болтаете? Я совсем не здоровая и потом вообще, тут на берег кто угодно приезжает, а вы вот это видите? – и. оскалившись, Петровна подставила лунному свету два ряда золотых зубов. То ли от их сияния, то ли от мелькнувшей в голове догадки, Савельевна остолбенела на мгновение, и тотчас Петровна, довольная произведенным эффектом, эту догадку подтвердила:
– Да. А вы, что думали? Снимут с головой! – и ребром ладони она показала, как могут отсечь ей голову вместе с хранимым во рту богатством. – И унесут…
– От это да! Удумала! Это ж и мне зараз башку разнесут за твое золото. Шла бы ты к Леньке – у него ружье есть.
– Как же я могу к Лене? Он один теперь, я же женщина, вы сами понимаете. И потом: что ж, что ружье – он и стрелять из него не умеет?
– Умеет. У Вальки, як бешеная лиса подушила курей и собаке в морду вцепилась, дык он собаку ту прибил из ружья.
– Почему же он сказал мне, что не умеет?
– Так это ж тварь трусливая, на хера ему твои зубы боронить. Видать мне надо…
И видно, в самом деле решила Савельевна, в случае чего, защищать себя и Петровну, потому что теперь из ночи в ночь клала под кровать топор. И ощутила свою власть над Петровной и стала, как потом та утверждала, эксплуатировать ее. Из-за чего и вышел скандал, не выдержала Петровна этой эксплуатации. Однажды, загнав в клетку разбежавшихся цыплят Савельевны, она сильно задохнулась и с тяжелым придыханием брякнула:
– Прекратите, Савельевна, приспосабливать меня к своему хозяйству. Я вам не батрачка! Хозяйство ваше и вся выгода от него только дочечке вашей, а она и не думает маму проведать!
И вколотила гвоздь в самое сердце старухе. Та только рот открыла, а ответить уже ничего не смогла. Глаза вытаращила и навалилась на Петровну тяжелым одеревеневшим телом. Бывалая Петровна в миг поставила диагноз»? «Леня! – закричала она. – Леня! У Савельевны инсульт! Помогите мне кто-нибудь!» Прибежали на ее крики люди, затащили Савельевну в будинок. Кто-то из отдыхающих поехал в поселок за скорой и заодно сооб- щить дочечке.
Старуху уже забрали в поселковую больницу, и Люда могла бы не спешить на берега прямо к матери, но она явилась, при виде столпившихся обеспокоенных людей сдвинула черты своего могуче-красивого лица в плаксивую гримасу, и тут же принялась шарить, каждый раз плотно прикрывая за собой двери, в будинке, в одном сарае, в другом, в поисках припрятанных матерью денег. Наконец, выбрала все тайники и попросила Николая Николаевича отвезти ее в больницу..
Все искали на берегу дядю Леню – надо ж было подоить корову – но тот как сквозь землю провалился, то ли в степь ушел, то ли в море – никто не мог вспомнить, когда его видели последний раз, а корову доить вызвалась, справляющая на берегу свой медовый месяц, Антонина Филипповна опоясав свой выдающийся живот фартучком, при этом кокетливо оборонив:
«Мой живот, сама ношу, никого не прошу!» Подоив Зою с поразительной сноровкой, она принялась угощать парным молоком всех желающих и в ответ на «спасибо, бабуся!» – задорно выкрикивала: «Да какая ж я бабуся, если я еще ебуся» – первая при том рассыпаясь молодым смехом. А там где-то в поселке умирала Савельевна. Вернувшаяся на другой день Людочка рассказала, что мать в себя не приходила, глаз не открывала и только после ухода собравшихся над ней врачей, отчетливо произнесла: «Своих рук не подложишь…» – вздохнула и померла.
Людочка пообещала молодоженам продать будинок и за это Николай Николаевич мотался на своем «рафике» с ней по степи, причем, всякий раз, как та садилась в его машину, собаки набрасывались, драли краску когтями, жалобно визжа, а потом долго бежали вслед, но в конце концов отставали, возвращаясь в мыле, садились все трое на бугор и, задрав к небу обслюнявленные морды, надрывно выли по Савельевне. С того самого момента, как увезли ее помирать в больницу, ни Балахай, ни Жучок, ни Белка не облаивали Лениных собак, которые ввиду исчезновения хозяина болтались среди приезжих, развлекая их беспардонной тягой к умножению своего неказистого рода. Видно, стоило в предсмертных муках ослабеть и совсем умереть хозяйской ненависти, как она умерла и в псах. Или ничтожной показалась им перед истинным настигшем их горем.
Савельевиу похоронили на том же кладбище, где лежал и Харлампыч, и Надюша, поминальный обед устроили под навесом, где любила сидеть покойная. Из деревни пришли какие-то бабки, несколько мужиков. Вспоминали, как по возвращении Красной Армии шел через долину к хате Савельевны молоденький лейтенант с автоматом наперевес, а та стояла бесстрашно на пороге, держа на руках дочку Людочку. И плюнула в лицо лейтенанту, и хриплым от злобы голосом крикнула: «Ну, давай стреляй, в дите стреляй! Я тут голодом одним выжила и жданьем одним, вас родименьких! Я того молока не пила идите свое им не поила! Я под дулом его от баб собирала, а теперя ты мне дулом грозишь?!» Молоденький лейтенант только утерся и пошел мимо…
Людочке рассказы эти не нравились, но она их и не слушала – ходила вокруг хаты, да бывшей конюшни с деревянным метром в руках, обмеряла что-то и высчитывала. А на другой день Николай Николаевич возил ее по окрестным колхозам договариваться о сдаче быков, о продаже коровы и другой живности. Потом, прихватив с, собой мешок сушеных бычков, смоталась в воинскую часть, с парой бутылок водки на колхозные виноградники, и вот уже прикатил на берег здоровенный МАЗ, полный бетонных столбов. Работяги вбили столбы вокруг всего хозяйства Савельевны, а затем появился военный джип, с мотками колючей проволоки. В три ряда по столбам обмотали Людочкино наследство и как раз в это время объявился на берегу дядя Леня. Вернулся из Феодосии, куда по случаю всего происшедшего его увезли на своей «Ниве» полковник с полковничихой. Уговаривали у них на зиму остаться. Но он чувствовал себя в городе плохо, его тянуло на берег и не мог он собой людей обременять. А вернувшись, как увидел Людочкино сооружение, да еще с этими вот сидящими за проволокой на холме воющими в небо собаками, так только рукой махнул, ушел к себе в хату и, пока Людка не уехала, никому не показывался.
Незадолго до Людочкиного отъезда Петровна забеспокоилась: «Что вы с собаками собираетесь делать, Людочка?» – спросила и возмутила дочечку:
– Ну, до чего пустая женщина! – жаловалась она Антонине Филипповне. – У меня такое горе, а она про собак беспокоится! И еще ругает меня, что я участок огородила! Известное дело, чужого никому не жалко! Ей, видите ли, смотреть неприятно… – но от Антонины Филипповны участия ждать не приходилось, потому что Людочка тут же сообщила, что будинок продавать им не будет сейчас, а что собаки машину Николай Николаевичу ободрали, так она за собак не в ответе – известное дело: животные, к тому же теперь ничейные…
…Доев последнюю колбасину, укатили домой хохлы, кончился отпуск у ленинградцев, несолоно хлебавши собрались в дорогу молодожены, и Петровна напросилась с ними доехать до поселка. Там она пересела на автобус до Феодосии. Однако, вернулась через несколько дней и не одна, а с компаньонкой – маленькой, худенькой, рано увядшей хромоножкой. Теперь она могла бесстрашно ночевать в своем доме.
И странная, небывалая благодать вдруг разлилась над бухтой. Лето исходило последним теплом, мягко перекатываясь в прозрачную чистоту ранней осени. Леня снова выходил в море вместе с Петровной рыбачить, семейным уютом обволакивали душу совместные обеды с ней и хромоножкой – Петровна, как бы шутя, уговаривала Леню взять эту грустную женщину в жены, он иногда бросал искоса на нее тайный взгляд, примеряя к своей неудачной судьбе ее неудачную внешность. Петровна тотчас угадывала смысл его раздумий, смеялась заливисто, по-молодому, грозила пальчиком и кокетливо подначивала:
– Мариночка – что ж с того, что невзрачная, но она женщина… У нее трое внучат без папки растут – такая беднота! И жить негде! Она бы к вам переехала, им бы свою комнатку оставила! И хотела того или нет, но пугала Леню: его робкий интерес к Марине вспархивал, как птичка из травы и испарялся в высоком небе.
Тишь стояла над бухтой. Не кружили в долине ветры, не выли собаки. Странно они повели себя: умчались в степь за Людочкой, но вернулись под вечер и не пошли за проволоку, а прямиком к Петровне на двор и упали у ее ног, как подкошенные. Она не стала их отгонять. Еще и прежде носила им объедки, а теперь повела себя по правилам вовсе не известным на берегу: каждое утро варила большую кастрюлю овсяной каши, сбрасывая в нее все остатки, смывая с тарелок жир. «Что-то вы выдумываете, – удивлялся Леня. – Мне вот и себе-то варить лень, а вы собакам…» Но она, мало что варила им, еще завела для каждой по отдельной миске и разносила по углам так, что скоро каждая собака знала свой угол.
И все-таки как-то раз вышла у Жучка с Балахаем страшная грызня. Не из-за еды, а из-за места у ног Петровны. Точно как прежде дрались они из-за места у ног Савельевны. Но Савельевна быстро огреет их чем подвернется по хребтам, а тут как раз Леня отошел куда-то, Петровна с Мариной растерялись, испугались, так страшно грызлись псы. Грызлись не на жизнь, а на смерть, Белка в драку не лезла, только кружила вокруг, лая, что было мочи, но сынки не слышали, в их свирепом рыке тонул ее лай, вырванные с мясом клочья разлетались в стороны, окровавленные морды щерились, вгрызались, неразъемным клубком катались псы по земле. Леня прибежал, не думая долго, схватил первое, что попалось на глаза – ведро с водой и плеснул в катавшийся по земле клубок. И охолодил псиный пыл. Разбежались по степи в разные стороны, скрылись из глаз, только слышно было, как там где-то, скуля и повизгивая, зализывают свои раны.

Насыр. Собаки.
Петровна с Мариночкой от этого происшествия разнервничались, стали валерианку друг другу капать, Петровна к тому же огорчалась, что надо вот опять к колодцу идти, а у нее сердце болит и Леня, подхватив два ведра, пошел за водой. А на обратном пути увидел и аж замер – даже ведра на землю опустить не сразу сообразил: подлизывая с рваных боков кровь, сидел на бугре Балахай, а Жучок, еще опасливо, еще неуверенно полз к нему на брюхе, то и дело останавливаясь, проверяя, вздернутым носом чуя, остыла ли братнина обида. На последних метрах совсем к земле припал и дивно было смотреть, как они мирятся – эти твари – как старший брат Балахай внимательно и нежно стал зализывать рваную рану у самого глаза на морде Жучка, как тот подставляет ему то один бок, то другой, а потом и сам деловито, с пониманием – будто помнит, где рвал – осматривает старшего брата, подлизывает, где тому не достать. Тут подбежала к ним Белка и оказала свою особую материнскую ласку и они с невиданной щенячьей кротостью поддались ей.
Аж слезы набежали, и Леня еще долго стоял, собаки уже ушли с того места и, наконец вернувшись с ведрами, Леня застал мирную и вполне обычную картину – Жучок лежал у ног Петровны, Балахай в сторонке, а Белка, та вовсе на отшибе.
– Так вы что ж, – спросил Леня, – с собой заберете их?
– Куда это я заберу их? – возмутилась Петровна. – По-моему, я еще не сумасшедшая!
– Так что ж вы их кашей кормите? Я думал, вы их с собой забрать хотите.
– Да зачем они мне? А вы эту дрянь свою прогоните, они ж вас ни от кого защитить не могут, а я вам крупы оставлю и еще пришлю.
Ишь, как у нее все ладно получалось. И не объяснишь ей, что этими своими кашами обрекает она собак на голодную смерть. Леня вспомнил, как однажды увидела Савельевна, что Надя котятам в мисочку молоко наливает, ощерилась довольно:
– Котят кормишь? Ну, корми, корми, делай моим собакам консерв на зиму.
Надя потом все старалась всучить кошачий выводок приезжим. А ведь здесь на берегу так оно и в самом деле заведено: кошки летом птенцами откармливаются, собаки голодной зимой гоняются за кошками, ловят в степи сусликов, всякую мелкую живность… А какие ж они будут охотники после ее каш? Крупы она ему оставит. Ей не понять, он и сам еще не вполне понимает, что его ждет – как оно это будет, когда останется он здесь один? На всем берегу один… Но царящее в природе оцепенение и слабое человеческое тепло как-то сковывали мысли и располагали жить сиюминутной несложной жизнью, просто пользоваться дарованным покоем, не давая воли подползающему к горлу страху.
И вдруг разом сгрудились облака, почернели, набухли, вздыбилось и рванулось к берегу море, ветер сбросил со стола перемытые тарелки, подхватил клеенку и понес, закружил над пляжем, как невиданную гигантскую птицу, разметая перепуганных чаек.
– Ой! Ой! Как же мы выберемся отсюда? Мариночка, собирайтесь быстрей! – всполошилась Петровна, кинула топор за порог, чтобы отвести грозу, подхватила сумки, сказала: «Счастливо оставаться, Ленечка! Мы на Уварове пойдем. А вы не скучайте! Я приеду! Вот вам крест, приеду!» Леня хотел было проводить женщин, помочь сумки нести, но псы прытко вскочили на ноги и Петровна взмолилась: «Не надо, Леня, оставайтесь, за вами ваши увяжутся, свара начнется, оставайтесь вы! А собачки вернутся, куда ж они денутся?!» – нашла ему утешение.
Уже от дверей своей хаты Леня долго смотрел в степь, еще долго ему было видно, как спешит Петровна, как переваливается с боку на бок хромоножка, – верно Петровна подгоняет ее, как псы то забегают далеко вперед, то зачем-то кидаются в степь и снова возвращаются, и кружат вокруг женщин, и Петровна машет на них сумками. Он подумал, что, может, собаки, добежав до деревни, поймут, что самое лучшее для них в ней остаться, приманит их какая-нибудь загулявшая сука, прибьются ко двору. Хотя старую Белку, да и свирепого Жучка скорее пристрелят, а вот из Балахая, если его на цепь посадить, хороший сторож получится. Где-то еще в море загрохотало, отблеск молнии осветил край неба над бугром, и Леня с надеждой подумал, что пугливая Петровна уже наверное повернула назад – вошел в хату, смел со стола крошки, мышиный помет, окурки, услышал, как первые сорвавшиеся капли ударили по крыше, решил нагреть кипятку, протопить – вернутся женщины мокрые, прозябшие, а тут и чай, и тепло, и чисто. До часа ночи все ждал. Словно ребенок, в ожидании ушедших родителей, не раздеваясь прилег на кровать и среди плачевных мыслей не заметил, как уснул. А проснулся ночью от пробившегося в сон тягучего воя собак. Лампа выгорела до дна, гроза, пролившись, истощила тучу, луна жидким светом наполнила комнату – можно было понять, что идет второй час ночи.
Долина гудела чуть-чуть, и море ослабло – все звуки отступили перед наплывающей, протяжной, к самой луне устремленной тоской.
«Ой-ей-ей-ей-ей-е-е-ей! Ой-йй-ей-ей-ей-ей!..» Господи, куда денешься? Он проникает в тебя – этот вой – в живот, до самого горла. Не ушами оказывается, а животом человек тоску слышит. Ни лежать, ни сидеть она не дает, уж лучше выйти за дверь, только не надо смотреть в ту сторону, где за колючей проволокой воют собаки. Страшно смотреть.
С первого раза, как Леня увидел дочечкину затею, показалось ему, что это она специально для него на такую подлость пошла, чтобы ему было на берегу о чем вспоминать, от чего корчиться. То есть он, конечно, понимал, что всего менее Людочка о нем думала, она свое добро ограждала, но так уж, видно, судьба подстроила. Он даже смотреть в ту сторону не будет, ему казалось, что, если посмотрит, что-то лопнет в нем, жила, которая держит его на ногах, разорвется. А покуда все это: колючая проволока, бугор, собаки на нем – еще не явь, а только воображение его – еще можно вздохнуть, вобрать в легкие побольше воздуха и побежать в сторону от этого воя. Перевалить через холм – Леня знал, что холм преграждает дорогу всем звукам – растратить силы, вымотать себя так, чтобы потом свалиться замертво и уснуть. А на утро все не так страшно покажется. Ну, в конце концов, жил же он в лагере, пока не стал умирать. И потом, когда в Трудармии уже работал, что он лагерной проволоки не видел? Начальник не хотел его в Трудармию записывать. Это был такой заколдованный круг – без прописки никуда на работу не берут, а без работы нигде не прописывают. А Надя пошла к самому начальнику. Перед тем она на рынок зашла, буханку хлеба купила и под телогрейку ее засунула. Начальник ей отказал, а она ему говорит: «Нет, ты все ж таки запиши Ленечку, потому, что знаешь у меня что здесь? – и на буханку под телогрейкой показывает. – Я сейчас разнесу тут все к чертовой матери!» Он аж затрясся весь, уже кнопку тайную под столом нажал, а Надя буханку на стол выложила, нагнулась к нему через стол и ласково так говорит: «Ну, прошу я тебя, родненький…» – Охранники вбежали – ничего не понимают: начальник чуть не целует Надю и хлеб ей назьд пихает и от радости руками машет, дескать, «идите вы», Наде говорит: «Ну ты, чертова баба! Запишу я твоего дохлика…»! Ну и матом, конечно. А Надя – чмок его в щеку… Господи, какая ж она была! Ну, и что ему теперь эта проволока? Все равно на берег надо идти, надо за водой к колодцу – каждый день надо мимо ходить. Надо привыкать…
И привык. Утро начинал с зарядки: руки туда-сюда, Наклон из стороны в сторону – так только, чтобы размяться. А потом пробежка. Бегать решил всегда одной дорогой – тогда грязь ли, снег ли – все постепенно вытопчется, ноги не будут вязнуть. Вернувшись, спускался к морю, окунался, растирался, набирал из колодца пару ведер воды для баранов. Разделавшись с баранами и птицей, прибирал хату, потом включал приемник и садился плести сети. Это хороший промысел – вполне, правда, незаконный. Если рыбнадзор найдет у тебя сети – для первого раза конфискует и штрафом обложит. Зато спрос на сети всегда есть, не иссякает клиент. На осетра идет крупноячеистая сеть, на хамсу, тарань, камбалу, леща – мелкая. Человек из Керчи еще летом привез ему целый мешок шпулек. Он же привез Лене и танковый аккумулятор. Теперь можно смотреть телевизор. От Петровны Леня скрыл, что у него есть аккумулятор – пока на берегу были люди, ему вовсе не нужен был телевизор. Пользоваться и приемником и телевизором надо экономно: кончатся батарейки, сядет аккумулятор – все кончено: в Уварове, в магазине, кроме водки и соли, ничего не купишь. Хлеба и того нет, не то, что батареек. Но, как ни странно, он не видит в телевизоре большой радости.
Еще раньше, когда Надя была жива, им случалось доставать тракторный или танковый аккумулятор, но любой живой душе они радовались больше, чем безответному глядению на экран. Жизнь расположила их всего больше ценить возможность поговорить, услышать в ответ пусть корявую, но живую речь, а все, что показывали и говорили с экрана, особенно теперь, когда он остался один, казалось ему или пустым или нестерпимо выдуманным. Иногда ничего не удавалось посмотреть, начинало мелькать, ерзать изображение, иногда вместо фильма показывали хоккей или танцы на льду – этого он совсем не понимал: причуда какого-то совсем нереального мира, в котором должно быть царит вечный праздник, всего избыток.
Отпущенные ему на целую жизнь страсти все ушли на что-то другое, азарт его никак не вязался ни с музыкой, ни с шайбой. Вот и теперь, бегая, растираясь, он делал это не для того, для чего могли это делать люди с экрана, а только чтобы еще чувствовать себя живым.
Фильмы он, к своему огорчению, тоже не мог смотреть. Всякое геройство, всякая любовь с ее пустыми изменами – все ему казалось ложью. Всю судьбу, свою и Надину, он мог бы с легкостью уложить в несколько строк, но даже слабого отражения тех страданий, той борьбы за просто жизнь, которые выпали на их с Надей долю, он нигде не находил. И только тошнотная горечь воспоминаний подымалась к горлу. Он давно уже научился разговаривать сам с собой. Поймав себя на этом в первый раз, заплакал, попробовал не с собой говорить вслух, а с собаками, но не вышло. Раньше, когда на берегу были люди, он много ласкал собачат, говорил с ними, а теперь, молча, бросал лепешки, сало, молча потрепав по загривку, отгонял от себя – какой-то вредный голос внутри внушил ему презрение к единственной возможности – если говорить, так только с собаками.
До конца ноября он осе ждал, что кто-нибудь приедет на берег. Особенно в ясные дни, когда затихало море и серебрилось под прохладными лучами солнца. Такие дни выпадали этой осенью не часто и как-то внезапно, непродолжительно и так же внезапно сменялись штормом – верно, поэтому обычные посетители берега опасались оказаться застигнутыми непогодой на берегу. Или, думал Леня, постарели его клиенты, нет в них былой прыти, постарели, как и он сам. Однажды он увидел, как проехал мимо газик рыбнадзора, увидел, как не то Коля, не то Леня посмотрели в его сторону, но машину не остановили: дескать, жив дядька Ленька и ладно. Остановиться, спросить не надо ли чего, да просто поговорить не захотели, или некогда им было, но скорее всего, не к чему – и он себя, пустой берег, свой дом увидел со стороны и подумал как о чем-то постороннем: а и в самом деле, не к чему.
Чем дальше шло время, чем ближе двигалось оно к зиме, тем заметнее дичали псы. Днем они гонялись где- то в степи, голод заставлял их рыскать в поисках добычи, может быть, временами им и выпадала удачная охота – ведь и в прежние времена, стоило разъехаться с берега людям, приходилось пищу самим добывать – но в прежние времена они возвращались с охоты к хозяйским ногам, под сень обитаемого дома, хриплый хозяйский оклик одергивал их, возвращал им их природный собачий облик. Теперь они зверели и зверели с каждым днем. Дело не в том, что злобились, а как-то паршивели:
прежде гладкая блестящая шерсть на Жучке поблекла, как ржавчиной покрылась, свалялась и торчала клочьями на Балахае, старая сука стала лысеть, проплешины обнажили ее обтянутые шелушащейся кожей ребра. Иногда она возвращалась окровавленная и Леня понимал, что это Жучок, а может и Балахай погрызли ее, отгоняя от добычи. Более опытная, хитрая, выдержанная, она скорее всего была удачливее сынов в охоте, но вряд ли они допускали ее воспользоваться плодами своей удачи. Наверное от голода у нее выпали зубы и только два нижних клыка выползли на верхнюю губу, превратив ее в страшную, лысую старуху.
Однажды, после сильного шторма на берегу осталась лежать тушка молодого дельфина. Ее тотчас стали рвать чайки, запах крови привел к ней собак. Только голодная жадность мешала Жучку вцепиться в Балахая и отогнать его от падали. Давясь вырванным куском, он рычал, угрожающе вздергивал губу, но тут же вновь приникал к кровоточащему боку. А Белке все не удавалось пристроиться и хотя бы полизать крови – рвать мясо ей уже было нечем.
Как только наступали сумерки, собаки возвращались за колючую проволоку. Садились на бугор и выли. Лене казалось, что они рвут кишки из его живота, как только что рвали внутренности мертвого дельфина. Дельфин скоро завонял – ветер перегонял вонь из края бухты в край, разносил запах мертвечины по всему берегу. Взяв багор, Леня пошел к морю, чтобы столкнуть зловонные останки в воду. Он никогда не боялся этих собак, но когда подошел к туше, вернее к тому, что от нее осталось, псы ощерились, в их налитых кровью глазах он прочел волчью готовность к прыжку. Однако что-то другое остановило его, он не сразу понял что, но вдруг разглядел: за головой дельфина – почти единственно оставшейся ото всей туши, – лежала уже вспоротая клыками сыновей Белка. Загрызли они ее, отгоняя от пищи, или она сама околела, но теперь они пожирали ее и, пьяные свежей кровью, готовы были защитить свою добычу от Лениного багра.
Взрезаемый воем собак воздух долины все больше и больше наполнялся новым, прежде неведомым непокоем: не только собаки – казалось вся степь дичает и наползает на еще недавно обитаемое, а теперь опустевшее, обезлюдевшее место.
Снег еще не выпал, ливни смывали следы зверей, но Леня уже несколько раз среди ночи слышал куриный переполох в сарае. Утром он осматривал сарай, заделывал все щели и все-таки в один прекрасный день увидел разметанный за сараем окровавленный пух унесенной в степь курицы. А еще через несколько дней, войдя в курятник, сразу наткнулся на уложенные в ряд трупики сразу четырех молодых петушков с перекушенными шеями: ласка подушила птицу, напилась крови и так зловеще аккуратно уложила рядком. Леня знал, это ее повадка. От испуга ли, переполоха, или еще от чего, перестали нестись куры. А может кто-то крал яйца. Леня больше не находил ни одного. А еще через какое- то время случилось то, чего никогда раньше не случалось – пала укушенная гадюкой овца. Искать змеиные лазы, заделывать новые и новые подкопы под стены сарая – дело бесполезное, расползающееся по всему его существу оцепенение лишало Леню воли как-то оградить свою живность, оберечь то, что осталось от наступающей, все более чувствующей свое право степи. Раньше никогда ее обитатели не подступали в такую близь к жилью, а теперь чутьем угадали: кончилась жизнь на берегу и двинулись на разбой и захват.
Где-то в середине декабря море обрушилось на берег штормом невиданной силы. Но и долина не сплоховала: двинула ему навстречу такой шквал ветра, что, сидя в хате, Леня впервые за все годы жизни на берегу испугался, что хата может обрушиться. А что оно стоит – разнести эти стены? Камень к камню прилеплен глиняным раствором, давно постаревшим, кое-где высыпавшимся, расшатай стены покрепче – и вся постройка рухнет, как детская затея.
А гудело и било в стены не день и не два – Леня боялся дверь открывать, боялся, что не удержит и ее вырвет с петлями. Но выходить надо было: то выпустить, то впустить собачат, то самому на двор, баранов напоить. Вот так, отхлестанный ветром, ослепленный им вбежал он в сарай и всей грудью наскочил на бараний рог. Старый валух Борька, низко опустив упрямую голову в неумном раздумий стоял в самых дверях и рогом вышиб налетевшего на него Леню, отбросил его в лужу перед сараем. От удара так сперло дыхание, что показалось – все! Это конец. Превозмог все-таки жуткую боль в груди, дополз до хаты, влез на кровать и все дни, не считая их, что бушевала непогода, пролежал пластом. Давно выгорела лампа, пил протухшую в графине воду, думал о том, скоро ли найдут его мертвого в хате и станут ли, если провоняет, хоронить или побрезгуют.
Думал, как о чем-то постороннем, без слов, без всякого о себе сожаления. То впадал в забытье, а очнувшись, не понимал, который час – часы не завел и остался без времени: день смешался с ночью, все мглой затянуто, как тут определишь, который час? А встать, включить приемник – сил нет. Боль в груди притаилась и не тревожила, пока не шевелился. И приятно было лежать, чувствуя, как слабеет, без боли, без отчаяния, без всякой неприятности уходит из него жизнь. Он сначала не мог понять, откуда это давно забытое чувство покоя и вдруг понял: не слышит воя собак. Ревет море, трубно, надсадно гудит долина, а воя собак не слышно. И нет тянущей кишки из живота тоски. И потянуло в сон. И приснилось, будто приехали на берег какие-то люди, не то на танке, не то на вездеходе, но с треском, грохотом, и он, Леня, громким, свободным голосом объясняет им, что он потому не в зоне, что это и не зона вовсе и там, на бугре вовсе не часовой стоит, а суслик, но сам-то он видит, что это никакой не суслик, а кутающийся в огромный тулуп часовой. И кто-то говорит ему, что все равно, раз он не умер, он должен идти за проволоку, а не лежать в своей хате и голосом Савельевны кричит: «Ся! Ся, Жучок! Ся, Балахай!» И сразу ворвался в сон протяжный вой. Открыл глаза и в разлившемся по хате лунном свете увидел летящий за окном белый пух.
Пришла зима. Воздух в хате остыл, окошки до половины затянуло ледяными узорчатыми шторками. Зуб на зуб не попадал. Однако почувствовал, что боль в груди совсем притупилась, и без всякого усилия заполз между перин. Подумал, что раз уж пока не умер, надо будет снова начать жить. Вот только полежит немного, погреется в перинах, как следует подумает о чем-то важном, хотя думать мешает, как зубная боль, вой собак. Только один вопрос сливается с этим воем, продолжает его, когда дух перехватывает в собачьих глотках и длится по мере нарастания звука в пронзительном, безответном:
«Почему?» Почему он не может слышать этого воя? Почему его жизнь оказалась повязана им? Почему так отзывается в нем собачья тоска? Все другие вопросы казались неважными, какими-то вторыми, и вдруг нашелся ответ: да потому, что это его вой, это не псы, а он сам сидит там на бугре за колючей проволокой и, вздернув лохматую голову к небу, кричит о своем одиночестве, о своей, никому не нужной жизни, к которой нет сочувствия ни в ком, как нет в нем сочувствия к их собачьей доле! О любви кричит и ненависти, и у него и у них, унесенных смертью. О том, что ему так же невозможно уйти с этого берега, как им, хотя ни его, ни их никто и ничто здесь не держит – но только они одни знают, почему он не ушел. Вот то-то и ужасно, что он не ушел по тому же самому, почему и они остались. И они, так же как и он, ничего не умеют ни забыть, ни простить.
Но нет. Он встанет, соберется с силами, выйдет, достанет деньги из тайника и уйдет. Он никому ничем не обязан, он не сторож Петровниному дому, она нарочно пугала его городской жизнью, дескать, здесь его деньги – деньги, а в городе – тьфу! – он не пропадет, он еще может работать, все равно он теперь не хозяин своей жизни, степь теперь здесь хозяин.
И не заметил, как истекла эта собачья ночь. Еще прозрачная как медуза висела луна, а над горой уже озарилось нёбо восходом – пришел новый, ясный день его жизни, и Леня, слабый после болезни, но полный решимости встал. Затопил плиту, нагрел воды, побрился, накормил давно погрызших все валявшиеся на полу сухари, собак – щедро кормил, отрезая большие куски сала; вскрыл пару банок тушенки и, намазывая на печенье, то совал себе в рот, то бросал собакам. Дверь привалило снегом, открыл с трудом и ослеп от искрящейся под солнцем белизны. Голова закружилась, но все-таки собрался с силами, далеко в степь унес парашу. Потом, подхватив ведра, пошел на берег. Проходя мимо проволочного заграждения, вспомнил свой сон и усмехнулся – под снежным покровом все дышало таким благолепием, что совсем не казалось страшным ~ даже проволока, сливаясь с искрящейся землей, не вызывала раздражения.
Увидел свежую путаницу собачьих следов – где-то они рыскают, отпустила и их тоска, но вдруг что-то показалось ему странным, и он остановился: надо же, недаром боялся он, что ему разнесет хату – сорвало непогодой шифер с крыши хаты Савельевны с одной стороны начисто. Сброшенные листы побились, видно. и занесло их, и на перекрытия снега навалило – от того сразу и не понял в чем дело – теперь, как подтает, натечет вода в хату. Путного в ней, конечно, нет ничего. но все равно разорение полное. Он подлез под проволоку, спустился с бугра во двор и сразу увидел, что и на будинке шифера нет совсем, и сарай зияет черным провалом.
Озираясь по сторонам в поисках свалившихся осколков шифера, прошел двор насквозь, вылез из-под проволоки со стороны моря и сразу увидел поваленный возле колодца столб. «Вот оно – все, конец!» – резануло по сердцу: сколько лет жил на берегу, обламывали берег шторма, обрушивали каменные глыбы, а столб стоял. Когда-то сломило перекладину, не стало вроде бы смысла в этом столбе, а вот стоял эдаким знаком препинания. И чтобы крыши с домов сдирало – тоже дело невиданное. Не пошел к колодцу, решил сначала на Петровнин дом взглянуть и аж ноги подкосились: целиком с ее крыши содрало шифер. Надо думать в море снесло.
Странно, однако, что же это его-то пощадила непогода? Вроде не крепче его хата, а цела осталась? И тут увидел: вокруг дома Петровны, на уступе, нависшем над морем, ветер обнес снег и обнажил две широкие борозды, продавленные по земле гусеничным трактором. По ходу их Леня стал сапогом разгребать снег и больше уж не сомневался: столб у колодца, может, и свалило штормом, а вот шифер – дело рук человеческих. Приехали в непогоду, почуяли, что брошен берег, сняли шифер и увезли. Небось и в хатах пошарили. А шифер деревенским всегда пригодится – они ладят из него самодельные парники, поставят изгородкой и открывают то одну сторону, то другую – с которой солнце светит. Листу шифера – два рубля цена, а поди, привези его на берег – он тебе золотым встанет. А им, сволочам, трактор дармовой, отчего не взять, что плохо лежит? Вот тебе и танк!
Леня все разгребал, разбрасывал сапогом снег и шел вдоль колеи – он словно бы еще не мог до конца поверить, что все оно так просто, что пока он подыхал в своей хате, онемевший от безлюдия, – они, люди, приехали сюда, на берег, непогоды не пострашились, как раз прикрылись ею, и его дом обойдя – значит не сомневались, что он там? – а даже не помыслили справиться, что с ним, почему не вышел на шум?! – им это не интересно было, им только и надо было, что ободрать чужие крыши, да побыстрее смыться! Гниды, воры никем не судимые, не ловленные, твари, хуже всякого зверья! Жгучая, давно забытая ярость закипала в душе, захлестывала, как тогда, давным-давно, в той, канувшей в прошлое, но не забывшейся жизни на берегу. Тогда артель всем скопом выбрала его, Леню, своим завхозом.
Перед тем пропил непутевый мужик артельный провиант, муку, крупу, консервы – все променял на водку, оставил людей голодать, но сам повинился и еще тем оправдывался, что пил-то не один, а с ними же, с артельными. Простили его, но скинувшись на новые запасы, решили всем миром положиться на Леню – знали: этот не пропьет, не продаст, чужой копейки не прикарманит. Но только вдруг стали у него пропадать продукты: то ящик тушенки исчез, то мешка сахара недосчитался – словом, при всей бухгалтерии концы с концами не сходятся. Он молчит, из своих докладывает, а оно так и тянется. Тогда в самую путину он снарядил артель всем, чем положено, а сам в последнюю минуту сказался больным и в море не вышел. И укараулил вора, прямо у задней стены кладовой, когда тот сквозь раздвинутые доски уже вылез с мешком и доски на место прилаживал. А мешок тут же на землю положил. Такая ярость тогда захолонула Леню, кинулся он на вора и началась драка. Бандит тот из пещер на берегу приходил, здоровенный детина был, Леня перед ним сморчок, но бросала его на ворюгу злоба, и был у него за поясом обоюдоострый рыбацкий нож – еще бы секунда и вспорол бы человека, но тут с криком: «Засудят, Ленечка!» бросилась наперерез Надя – он успел, к счастью, руку отдернуть, а бандитский кулак как раз Наде по зубам пришелся. Упала она, Леня кинулся к ней, а вор убежал налегке. Мешок остался. И всему тому делу одна Савельевна была свидетельницей – глядела на их сражение из-за угла своей хаты, наслаждаясь злорадно, как ее соседей вор-чужак избивает, не пришла на помощь, да еще потом, когда, рассказывая артельным, как оно было, Леня стал ссылаться на нее, отнекивалась: «Не, не бачила, може брешет, сам, може, брал…» – хотела его бесчестным перед людьми выставить, завидовала, что ему доверяют. А он люто, до брезгливой тошноты ненавидел воровство – оно всегда из-за кого-то одного чернит других, рядом с воровством всегда навет, всегда напраслина, размазывается грязь и непричастных пачкает. Он в тот раз тоже всякие домыслы строил: то на одного подумает, то на другого, и всю жизнь потом себя перед этими людьми виноватым чувствовал, хоть и словом их не обвинил. Знал: нельзя, не поймавши, на людей говорить. Нет, свои деньги – это ерунда, его не беспокоили свои пропажи, а вот когда тебе люди доверили – это особая ноша, ее так, вдруг, за здорово живешь с плеч не сбросишь.
Сволочи, он один здесь на берегу, здесь нет свидетеля, который докажет, что дядя Леня не пропил тот шифер, не за бутылку водки позволил деревенским увезти его с берега. Петровна первая спросит: «Леня! Как же это вы не слышали, они же на тракторе приехали?» – поди расскажи ей, как это он не слышал. «А, падлы! Блядины сучьи!» – выругался он ото всей души, вдруг увидев ползущих ему навстречу псов. Прямо по следу, ведущему мимо колючей проволоки – здесь Леня уже не мог докопаться до колеи, здесь в низине снег густо прикрывал разбойничий след, но Леня всем нутром чувствовал его, а тут еще увидел, как на брюхе ползут навстречу ему собаки, вынюхивая колею прижатыми к земле носами.
– Вы почему молчали?! – вдруг заорал он. – Бляди вы после этого! – И с разбега саданул сапогом по морде одного, другого, а те, только коротко взвыв, не поднялись на ноги, а все норовили лизнуть бивший их сапог и тут такое невозможное нечто поднялось в нем, смешалось с недавней надеждой выжить, уйти отсюда, все прожитое здесь взболтнулось, перелилось через край, аж глаза залило, и, пока он бежал до своей хаты, пока шарил под кроватью и выхватил оттуда карабин, он как будто не видел ничего, только одна мысль гнала его:
«Убью, гады!» – мысль, что ни для чего, кроме как терзать его душу, эти псы не живут на свете и сейчас он убьет их и станет свободным, наконец, за всю свою каторжную жизнь станет свободным, вот только отпихнет их от себя, они побегут, он прицелится и пальнет по ним!
Но, почуяв нависшую над ними смерть, псы, сколько ни бил их Леня сапогом, только взвизгивали, только плотнее приникая брюхом к земле, тянули к нему виноватые, покорные судьбе морды. В их больных глазах стыли слезы и вдруг он понял, что на всей земле нет никого, кто молил бы его о прощении и кого мог бы он простить перед своей смертью. И коротко ухнул в прозрачном воздухе выстрел – одинокий, шальной, но точно в сердце пославший пулю. Над белой долиной пронеслось эхо и растворилось в долгом протяжном вое собак…
1998 Экванак, Нью-Йорк
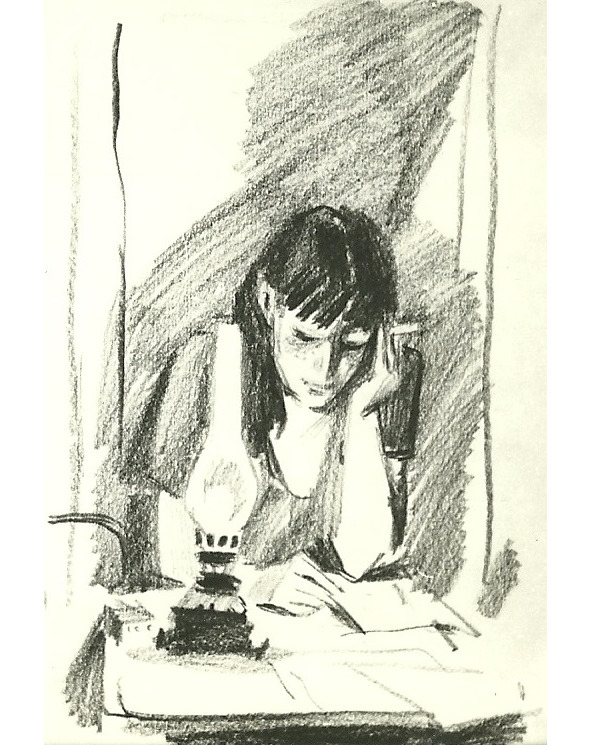
Вика Беломлинская пишет в Насыре. 80-е.
ВОЛЬТФАС
«Уо1tе-fасе» – фр. бук. поворот лица внезапный поворот лицом к преследующему».
Словарь иностранных слов
Я редко страдаю бессонницей. Сны тоже вижу редко, обычно сплю глубоким, как смерть, сном, а уж если мне что привидится, просыпаюсь разбитая, растревоженная дурным предчувствием, что непременно случится что-то – оно тут же и случается. Но в ту ночь я вообще не могла уснуть. С отчаяньем думала о предстоящем дне, в котором не может быть времени для дневного отдыха, но все безнадежней становились попытки привести в порядок разгулявшиеся нервы, отогнать страхи, тянущее душу чувство вины перед мужем, перед семьей, перед моим облупившемся, потрепанным домом. Перед тем, что называется домашним очагом, гнездом – и я его наседка, его хранительница, и у меня нет права на легкомыслие, на дурное настроение, на каприз, и уж, конечно, ничто в этом быту не предполагало этого бешеного поступка, лишившего меня теперь сна. Я и только я, виновата в том, что барахтаясь в темноте, неумолимо тону в мрачной бездне безвыходности – я втравила в эту безвыходность мужа, он пошел у меня на поводу, как слепая лошадь – ни собственной воли, ни собственного здравого смысла. И как мы теперь выпутаемся, неизвестно. Он должен был меня остановить, как мог он с глупым умилением потворствовать разгулу пошлейшей фантазии? Собственно, я и сама в какой-то момент подчинилась чужой воле, меня словно загипнотизировала эта Беллочка – моя зубная врачиха.
Пока я сидела у нее в кресле с открытым ртом, она, то сверля мне зуб, то что-то помешивая на стеклышке и вмазывая мне в рот, не смолкая ни на минуту, говорила, говорила и вмазала в самую мою душу всю свою совершенно непомерную, для меня неподъемную страсть к роскоши.
Я вылезла из кресла, заболевшая никогда прежде не томившей меня идеей приобретательства. Всю жизнь безразличная к вещам и оттого жившая достаточно беззаботной жизнью (ибо покупалось в доме только необходимое, и то без разбора), я вдруг оказалась во власти мистической жажды обладания совершенно не нужной мне, бессмысленно дорогой, не по мне роскошной вещи. Конечно, несправедливо во всем обвинять Беллочку – крупнотелую, выхоленную брюнетку, с тяжелой, красиво уложенной на затылке косой, с носиком, словно пришпиленным за кончик защепкой от белья, с маленьким, вычурным ротиком. Глупо, конечно, ее обвинять, но я ничего не могу поделать с собой, я думаю именно так: «покуда я раззявила перед ней свою, ничего хорошего не достойную пасть, она вмазала мне в самое нутро эти шкурки каракуля – двадцать штук. Набор на шубу по чудовищной, в мире не существующей цене».
«И думать нечего, – говорили ее пунцовые губки – Это же удача, просто везение: каракуль – это же всегда деньги! Да я только скажи здесь – схватят с руками! Я прихожу в шубе – на меня набрасываются; „Белла, где взяла? Белла, достань!“ Но я не хочу им отдавать. Пусть лопаются от зависти, а вам, моя золотая, сейчас, минуточку потерпите, ничего-ничего, я больно не сделаю… вам отдам, вы будете, как куколка, вы будете настоящая дама – без шубы дамы нет, а в нашем возрасте это уже вопрос: дама вы или нет?! А деньги – это тьфу! Вы мне еще сто раз спасибо скажете; ваши дети будут носить и ваши внуки (это же каракуль! Закройте рот!)»
Я закрыла рот и проглотила твердую убежденность в том, что мне необходимо достать две тысячи. Нет, я никогда не хотела быть «дамой», я знала, что даже, обернувшись каракулевым завитком, в «даму» не превращусь, но дети! Боже мой, внуки!
Меня сбила с толку зримая разрозненность шкурок – если бы они уже были сшиты в шубу, я может быть и сообразила бы, что и сейчас моим двум дочкам и одной внучке разом в эту шубу не влезть, придется по очереди, а ведь могут еще появиться внучки и даже правнучки. Но бред есть бред. Если бы я не была в бреду, я бы вспомнила о том, что никогда в жизни у меня не было своей парикмахерши, маникюрши, никогда я не покупаю отрезов, потому что у меня нет портнихи, я ненавижу ходить на примерки, мне пальцем лень пошевелить, даже языком, ради тряпки. Можно ли надеяться, что я когда-нибудь найду скорняка, что эти шкурки с лапками и хвостиками, маленькую отару, блеянье которой так и стоит у меня в ушах, я когда-нибудь смогу превратить в «вещь», которая в свою очередь пре- вратит меня в «даму», а моих детей и внуков в ее наследников?
Разумеется, этого и сейчас не случилось. Мало того, нынче, когда я вспоминаю ту бессонную ночь, каракуль катастрофически подешевел, а шубы из него, как похоронная процессия, мрачными рядами висят за спинами продавцов.
Однако, я говорю о скучных низменных вещах: купить-продать, шубки-шкурки – жизнь вообще состоит из низменного, каждый здравый человек это понимает, но можно ли так мелочно, так прозаично унижать свое перо, опускать в такие вороха свою пишущую руку, только для того, чтобы извлечь на свет божий истинную причину бессонной ночи! Низменное… Вот то-то и есть, что в дни, когда мы с мужем изыскивали невероятные способы добыть деньги, ничего низменного не было – была высокая мечта, было вдохновение!
Мне опять хочется все свалить на другого – с больной головы на здоровую – но именно мужем моим, едва я рассказала ему об этих шкурках, овладели мечта и вдохновение – я только позволила ему парить в их вихре. И вовсе не шкурки убиенных барашков составляли суть этой мечты – нет, тут надо обернуться и взглянуть на прожитое вместе бок о бок, плечо к плечу – иначе как бы мы пережили все то, что выпало на нашу долю в последние годы? А выпало много и все сразу.
Только к сорока годам мы стали обладателями отдельной квартиры, и я решилась рожать второго ребенка – я всегда хотела его, но не ко времени решилась: в одночасье умер отец. Умер в мае, а девочку я родила в ноябре, говорят, когда является на свет скорпи- он, кто-то близкий уходит. Бессонный поворот вины и боли… За смертью отца тотчас нагрянула безысходная болезнь мамы. Покуда я, как могла, тянула дни ее жизни, моя старшая дочь на минуточку сходила замуж и тут же, беременная, сбежала от мужа. Мама, беспомощная, полубезумевшая, прикованная к постели! Младшая моя еще тоже в штаны писает, а тут уж ясно, что надо забирать к себе внучку, если хочу, чтобы старшая продолжала учиться, чтобы не обкорналась ее жизнь и вернулась к ней еще не прожитая юность. А, главное, чтобы хоть пару часов в ночь спать совестливым сном, без тревог о появившейся на свет девочке. Ни сил, ни рук не хватило бы, если бы муж мой свои не подставил! Сколько угодно можно говорить о любви, но кто знает, что она такое есть, однако я хорошо знаю, что такое дружество, надежность в беде, преданность в испытаниях. С ним вдвоем, забросив всю остальную жизнь, мы выращивали две маленькие жизни и, как могли, длили ту, что уже была на исходе.
А потом были похороны и такая, все заслонившая усталость, что даже горе не обожгло, а только обдало холодом. И надо было отдавать долги, наделанные за время маминой болезни, благо муж мой художник, работает по договорам, а не по вдохновению, и, сколько может работать, столько и заработает. Зато я – ни копейки, и старшая дочь даже стипендии не получает – хорошо, что вообще учится. Он работает, как вол, ни от какой работы не отказываясь, чтобы всех нас прокормить – сквозь непроглядный бессонный мрак этой ночи я вижу его примученное вечной гонкой лицо. Из другой комнаты доносится до меня его похрапывание, и в нем слышится мне отзвук его сочувствия моим женским тяготам. Он благодарен мне за мир в доме, за старшую дочь, зато, что я заменила ее материнство своим, за то, что не раскисла. Он добрый и ласковый человек, мой муж, а я воспользовалась его добротой, задела в нем струну признательности и теперь корю его за то, что он пошел у меня на поводу, не проявил ни твердости, ни здравого смысла, не сказал мне: «Ты спятила, ну какая шуба, неужели ты не понимаешь: не по Сеньке шапка!» Нет, он даже слов таких, кажется, не знает. Это я теперь говорю: «Не по Сеньке шапка!»
Сначала он обзвонил всех, у кого можно было бы занять хоть пару сотен. Но, как знак судьбы, прозвучало в ответ абсолютное безденежье ближних, и тогда он позвонил одному типу – тот пообещал кое-что разузнать, и на лице мужа появилась загадочная уверенность. Вскоре он объявил, что все в порядке, нужно только придумать, что бы отдать в залог: деньги даст ростовщик под проценты – очень божеские – и под залог. Понятно, что если бы в это время на нас двоих пришлась бы хоть капля здравого ума, мы тут бы и остановились: драгоценностей у нас нет, в залог отдавать нечего. Но необыкновенный полет мысли разом бросил нас к столику – к маленькому антикварному столику, маркетри в бронзе – единственной ценной вещи в нашем доме, моей наследной реликвии.
И вот поздним вечером, уложив детей спать, мы погрузили столик в такси и через весь город повезли его в заклад. Мы едем и очень веселимся, нам смешно от мысли, что о этом городе, а может быть, даже в целом мире никто не возит столиков в заклад, уж во всяком случае никто, у кого ничего, кроме столика, нет, не стал бы закладывать его ради такой затеи.
И вот теперь я лежу без сна, у меня в ушах, в глазах, во рту, в легких гул тоски от стыда и безвыходности. И дико мне вспоминать о том веселье – так же, как дико вспоминать, о нашем притворном желании соответствовать церемонности и напыщенности ростовщика, об усилии ничем не выдать отдельности наших жизней от жизни его и его крокодильски-моднючей жены.
В Ленинграде все мало-мальски друг друга знают, или друг о друге, и я понаслышке знаю, что этому губатому, шепелявому бывшему плейбою капиталец достался в наследство от папаши, и к пятидесяти годам, женившись на молоденькой уродине, он вынужден к мизерной инженерной зарплате добавлять проценты. Я понимаю, он не виноват в том, что ни прокормиться, ни одеться на его зарплату нельзя; мы оба – и я и муж благодарны ему, мы ведь и сами затеяли жить не по карману – шубу нам. видите ли, подавай!
«Нет, – говорю я себе среди ночи – я дрянь, я тысячу раз дрянь!» Среди просеявшейся тьмы я отчетливо вижу, какая я дрянь, нахлебница, иждивенка, провокаторша! Ничем, никогда не помогла мужу, за все годы, что прожила с ним, этой осенью впервые заработала триста рублей – впервые напечатали мой рассказ – один-единственный из вороха исписанной бумаги.
Может быть, эти триста рублей вскружили мне голову? В самом деле, разве я не жду, что теперь, когда один из моих рассказов увидел свет, мне начнут звонить из редакций, приглашать, просить дать что-нибудь и для них? Жду, но ведь знаю же я, что у меня для них ничего нет – я пишу давно, написано много, но я никогда не знала нужды считаться с мнением редакторов и цензуры. Да, я была вольна в пределах своего дома. По заказам трудится он – мой друг, и товарищ мой верный. А тщеславие свое я надежно сковала, так что и не достанешь – но так ли уж надежно? Не оно ли прорвалось наружу, абсурдно и бессовестно обретя очертания ободранных барашков?!
Конечно, мы расплатимся, даже столик, может быть, не придется продавать, муж будет работать еще больше, он будет недосыпать, усталость навсегда врежется в морщины у глаз, я слишком хорошо представляю себе, как тошно ему делать сотню сухих букварных картинок для издательства «Просвещение», делать их без всякой надежды кого-нибудь просветить ими и без всякой надежды на просвет в подневольной работе…
Ночь, конечно, все преувеличивает, громоздит одно на другое, но разве днем я не испытываю стыда перед ним? Мыть, стирать, готовить, кормить, зашивать, гладить – это не стыдно; это труд, понятный каждому, но сидеть за столом и писать отсебятину, никем не заказанную и не оплачиваемую – этого не имеет права человек, в один прекрасный день решивший превратиться в «даму». То есть, именно «дама» и имеет право писать отсебятину – именно так и выглядит в глазах ее необстиранных ближних все, что она пишет. И я не подхожу теперь к столу, я стесняюсь его и сама себя. А между тем потребность писать никуда не исчезла. Только теперь мне кажется, что всю жизнь я писала не так и не то. Надо выдумать что-то такое, что сразу вдруг понравится всем – и редакторам, и цензорам, и читателям, и режиссерам, и композиторам. и хоть сколько-нибудь мне самой. Задача с тьмой неизвестных!
«Надо заработать немного денег, любой ценой, какой угодно работой, пусть даже безымянной», – уже смутно, сквозь предутреннюю, внезапно наплывшую на меня дрему, думаю я. Мысли мои растекаются, какие-то неясные фантазии утешают душу, и я уже не могу удержаться на краю дремы, мягко соскальзываю в бездну сна.
Разбудило меня нервно-настойчивое дребезжание телефона. Междугородный звонок, подумала я, еще не открыв глаза. Должно быть, мужу из московского издательства – я вскочила и успела схватить трубку вот-вот готового отчаяться телефона.
– Приношу извинения за столь ранний звонок. Вероят- но, я разбудил тебя? – Он всегда говорил мне «ты», но такой у него голос, таков строй речи, манера держаться, что я всегда отчетливо слышу «вы» – должно быть его жены, его любовницы, его партнеры по преферансу тоже слышат это «вы». Я взглянула на часы: ровно девять! В квартире тихо, наверное, муж, догадавшись о моей бессоннице, ушел и увел с собой детей, чтобы они не будили меня. Значит, эта историй началась в девять часов утра, со звонка из Москвы.
– Нет, что вы, – ответила я, сколько могла бодрым голосом.
– Тебя, должно быть, удивляет мой звонок? – Нет, он не слишком меня удивил: за четверть века нашего знакомства раза три-четыре ему случалось звонить в наш дом.
Это значило, что ему нужно навести справку, узнать чей- либо телефон. И всегда при случайных встречах он тоже говорил мне «ты», а я, всегда отвечая, сбивалась с «вы» на «ты» и, наоборот.
Вообще, голос его невозможно не узнать – это не просто голос, это часть облика, это инструмент, но вовсе не музыкальный, а скорее хирургический – от него веет холодом никеля, он проникает в вас так. как если бы он находился в руках опытного нейрохирурга. Он настораживает и вместе с тем импонирует вам – услышав его, вы тотчас же перестраиваетесь на некий, несвойственный вам лад, вы немедленно вступаете в какие-то еще не известные вам, но наверняка корректные отношения с этим голосом.
Мы знакомы очень давно, но как-то стороной. Впрочем, мы с мужем бывали пару раз у него дома еще в ту пору, когда он был ленинградцем. Уже став москвичом, он приехал в Ленинград с новой женой, и кто-то привел их к нам, но наше знакомство так и осталось опосредованным – через кого-то, через что-то, через его интерес не к нам, а к кому-то или чему-то. Очень возможно, что такое же ощущение возникало и у других его знакомых, может быть, даже у его жен, у его любовниц.
Помнится, в молодости я всегда завидовала его любовницам. Мне в моих романах всегда недоставало игры, условности, внешней формы; меня огорчала скоропалительность их развития, когда все ясно, но что ясно, когда ничего не ясно, но уже неинтересно. Мне не раз случалось наблюдать его невысокую подтянутую фигуру, увенчанную некрасивой головой пасхального болванчика, будто кто-то к яичной скорлупе приклеил немного волосиков, оставив лысину, перекатывающуюся в обширность лба; приклеил крепкий нос, наметил глаза да рот, но смешно не получилось, и бросил расцвечивать. Получилось уныло, зато многозначительно.
Его походка, манера держаться отличались той особой мышечной свободой, которая спортсменам и балетным – каждому на свой лад – дается как результат уверенности в своем физическом великолепии, в то время как человек, когда-то ощутивший себя некрасивым подростком, стремясь победить сковывающую его застенчивость, вырабатывает эту свободу движений умственным расчетливым усилием.
Наблюдая где-нибудь в ресторане Дома кино или на «Крыше» в Европейской, как он проводит к столику свою спутницу, как усаживает ее, всегда некрупную хорошенькую блондиночку, делает заказ официанту и тотчас уходит в беседу, я всегда с завистью думала: ну о чем же все- таки он с ней беседует? Блондиночка, конечно, славненькая, кажется актрисуля из третьеразрядных. Со счастливым обалдением в лице она норовит то привскочить, то помахать кому-то, озирается по сторонам, но в конце концов тупится в тарелку – должно быть, он объяснил ей, что это моветон – он ведь знает, с кем имеет дело, но знает так же, что властен это сырое и податливое лепить на свой лад. «Я могу из горничных делать королев!»
Мне почему-то всегда хотелось, чтобы кто-то что-то стремился сделать из меня. Я завидовала до тех пор, пока одна из мордашек, брошенная им с ребенком, не кинулась в лестничный пролет. Тогда много говорили об этой истории. И страшным холодом стало веять от одного его имени. Но странное дело: даже то, что он не только не усыновил осиротевшего ребенка, но никогда никакого участия в нем не принял – даже это осталось за чертой обсуждения, словно плавным жестом его долгопалой руки отведенное в сторону. Скоро он заставил говорить о другом – мне кажется, он всегда знал, что о, именно тот человек, о котором люди обязательно должны говорить, стало быть, ему только и остается срежиссировать, о чем им говорить, а что забыть намертво. В довольно короткий срок он дал обильную пищу толкам – вот только что вышел на экран фильм по его сценарию в соавторстве с одним очень крупным деятелем – как он до него добрался?
– А вы смотрели фильм? Ничего особенного, но занятно: о разведчике, да, о нашем шпионе…
А вот, едва увлекшись антиквариатом (на гонорар за фильм, должно быть?), он точас прослыл одним из самых удачливых коллекционеров, вот уж он не ленинградец, а москвич, нет, и жена с ним переехала. Немного позже пришли слухи, что он ее, уже немолодую, бездетную, бросил. Но, боже мой, она же ему никогда не мешала, кто бы подумал?
– А знаете на ком он женился? На дочке дипломата, она уже ребенка ждет!
– А как же та?! Вот бедняга!
– Ну нет, он с ней с прекрасных отношениях. Весь антиквариат оставил у нее!
– Неужели?
– В сущности живет на два дома.
– А как же та?
– Он обеих держит в руках: чуть что: «Цыц, не дам ни копейки!» И они обожают друг друга.
– Ин-те-ресно…
Время катило ком сплетен, он рос, то обретая вовсе легендарные очертания, то вдруг проглянет реальность, да еще тут же явится миру прямое подтверждение в виде много-много серийной телевизионной постройки из дав- но забытого комсомольского романа; тогда чье-то завистливое: «Он входит в десятку самых богатых людей!» вас не удивляет, даже внимания вашего не задело бы, кабы тут же не услышали: «А знаете, на ком он женится?»
– То есть, как? А та?
– Ни та – ни эта! Он на голландке женится!
– Интересно…
– Тихо-мирно, без лишнего шума: внушил, что это всем будет выгодно; будет ездить туда-сюда, шмотки возить… то-се…
– Ин-те-ресно…
Это было как раз последним, что докатил до меня ком сплетен, и поэтому, когда я услышала: «У меня к тебе деловое предложение» – мысль о том, что муки и упования бессонной ночи оказались вещими, как бывает вещим сон, выстрелила в мозгу, и я замерла у телефона.
– К сожалению, я сейчас болен, времени у меня мало, в ближайшие дни я уезжаю и надолго. Поэтому, если тебя интересует мое предложение, ты должна буквально се- годня-завтра выехать в Москву.
Я не спросила, что за предложение. Я могла спросить, и он мог мне ответить: «Это не телефонный разговор». Но я не спросила.
– Сейчас нет мужа, он придет, и я выясню, смогу ли я приехать.
– И сразу перезвони мне по номеру… Это квартира моей первой жены – болею я, естественно, у нее.
«Естественно» – с многозначительной усмешкой. Я повесила трубку и села. Я сидела так до самого возвращения домой мужа с детьми. Слышу детские голоса, понимаю, что надо идти, помочь им раздеться, но сижу, как села – у телефона.
– Что с тобой? – спрашивает муж.
– Знаешь, кто мне звонил? – говорю я. – Из Москвы… Да. И предлагал мне работу.
– Да ну? Дети, перестаньте орать, видите, нам с мамой поговорить нужно? Какую работу?
– Он же на голландке женился: наверное, у него есть договор, а он уезжает и, должно быть, хочет нанять меня, понимаешь?
– Он так и сказал?
– Нет, он ничего этого не говорил. Он сказал, что у него ко мне деловое предложение, и я срочно должна приехать в Москву. Но какое у него может быть ко мне, деловое предложение? Я не спросила конкретно – это не телефонный разговор.
– Да… В общем-то конечно; у тебя вышел рассказ, так что вполне может быть…
– Он сейчас болен и сам приехать не может. Мне немного понадобилось слов для того, чтобы через десять минут родной мой уже звонил приятелю и просил у него сто рублей в долг мне на дорогу – приплюсуем их к гигантской сумме, тяготеющей над нами. Но ведь я теперь заработаю, я соглашусь на все, я буду работать, я недрожащей рукой выполню любой заказ – ведь ездила я же на стройки, писала очерки, за жалкие, ничего не оправдывающие гроши – а тут пожалуйста, пусть даже авторство мое будет анонимно – это даже лучше, это поможет мне отстраниться, что угодно переделать во что угодно, выдумать то, что я сама выдумать не могу, исполнить чужой замысел, каким бы далеким от меня он ни был… Через каких-то полтора часа я уже могла перезвонить в Москву и сказать, что выеду завтра, значит послезавтра:
– С вокзала прямо сюда: тебя будет ждать великолепный завтрак и деловая беседа, – и он продиктовал мне адрес.
Тут я сделаю небольшое отступление. Когда-то я написала рассказ, так и оставшийся моим любимым рассказом. Имя его героя осталось моим излюбленным именем. Он вовсе не был хорошим человеком – этот герой – ущербный, с неполучившейся жизнью, с ничтожной мечтой, приведшей его к гибели, такой же убогой, какой была вся его жизнь, если бы только смерть не была всегда возвышена относительно любой самой жалкой жизни. Но все равно я, создавшая его, прошедшая с ним весь путь из детства к небытию, любила и жалела его. Я скорбела об уродстве его детских лет, видела, как неумолимая реальность вела его к концу – сам он был для меня только жертва этой реальности. Он погиб в конце придуманного мной рассказа, и я навсегда храню в сердце память о нем. И мне дорого его имя. И если бы я и теперь предавалась вымыслу, я никогда не назвала бы своего героя тем именем. Но здесь нет места вымыслу – это только хроника, запись реально происшедших собы- тий.
Я сама согласилась стать одним из главных действующих лиц этого рассказа, ради все той же неподдельной реальности – но мое имя неизбежно известно читателю, а вот что делать с именами других действующих лиц – не знаю. Ясно одно: я не имею права называть их настоящих фамилий, но с фамилиями как раз дело обстоит проще: я позволю себе по мере надобности позаимствовать их у любимого мной писателя, настолько большого писателя, что, будь он жив, он никогда не обиделся бы, только посмеялся бы над моей дерзостью. А вот с именами дело обстоит хуже. Кому-то можно дать какое попало имя, кто- то и вовсе обойдется, однако имя главного героя мне не измыслить. Вернее, мне не отторгнуть его от реального имени, тут все мое нутро протестует, как я ни стараюсь, какое бы ни пыталась прилипить ему имя – тотчас его голова отскакивает от туловища, и он получается уже не он. Остается одно: дать ему фамилию Шишнарфиев и избежать упоминания его имени, или нет, пусть будет имя, пусть оно останется тем самым, которым его еще маленького, с легким детским пушком на головке, с сопливым носиком, переваливающегося на нетвердых ножках окли- кала мама: «Саша! Сашенька!»
Итак, решено, Саша, завтра я сажусь в поезд – само по себе великолепно, что послезавтра мне не надо будет варить детям геркулесовый клейстер, караулить молоко – оно все равно всегда убегает из кастрюльки и пятном неудачи запекается на плите, мне ничего не надо будет мыть и скрести – мне обещан великолепный завтрак и не менее великолепная беседа.
…Я точно знаю, что это был субботний день, но сейчас не буду говорить о том, что не дает мне сбиться, это само собой станет ясно в дальнейшем; тогда же, войдя в его подъезд, я просто ощутила, что за всеми дверями еще спят, нежатся в сладком предутреннем сне, потягиваются – каким-то постельным теплом пахнуло на меня на этой безлифтной лестнице, как-то еще осторожно, боясь разбудить хозяев, тявкали на меня из-за дверей невыгулянные собачонки, а на последнем, пятом этаже я, здорово запыхавшись, позвонила и услышала шарканье, шлепанье, покряхтыванье, и неузнаваемый, а только что-то отдаленно напоминающий надтреснутый голос предупредил:
– Извини, я не одет. Дверь распахнулась, и я мгновенно и сильно обомлела: в болтающейся, просторной так, что можно в нее дважды обернуться, пижаме стоял передо мной желтый, ссохшийся, как старый пергамент, источенный болезнью, как- то оседающий на зыбкие колени Саша. Я так и уставилась на ушедшие в глубину придерживаемой руками пижамы желтые ребра, потупилась и увидела желтые беспомощные ступни, сунутые в стоптанные шлепанцы – чуть было не отпрянула, не убежала, но в это время услышала:
– Да заходи же! Вот, прости, хвораю, но, думаю, это не помешает нашей беседе… быть занятной…
Кажется, он понял, что потусторонним, ужасающим, как само явление гибельности, предстал моим глазам. Но уже знакомая ироническая улыбка скользнула, искривила рот, и прозвучало непременное, обязательное, как галстук – на сей раз вместо галстука;
– Меж тем, ты выглядишь замечательно, похорошела!.. Прости, я сейчас разбужу хозяйку, я должен лечь, ты пока приводи себя в порядок с дороги, чувствуй себя как дома.
Он все-таки нашел в себе силы принять мое пальто, повесить его и отправился о комнату, дверь которой выходила в прихожую. Не слышно распорядившись там, он прошаркал мимо меня в другую комнату, скрытую углом прихожей.
Я много лет не видела его первой жены – я назову ее Варварой, но ни ее скошенный и теперь вросший в раздавшуюся шею подбородок, ни брылями обвисшие щеки уже не произвели на меня ни малейшего впечатления. Кутаясь в стеганный нейлоновый халат, она мельком скользнула по мне еще мутными со сна, заплывшими глазами, сказала: «Ты пройди к Саше». И ушла на кухню. Но мне не хотелось к Саше! Я бы с удовольствием пошла с ней, я бы сама им обоим приготовила завтрак и подала бы в постель, я бы уж лучше целый день, пока не придет время бежать на поезд, готовила, мыла бы, подавала и уносила бы, а на кухне нервно курила бы сигарету за сигаретой, но только бы не сидеть там у его постели, не зная, как спрятать, чем прикрыть сквозящий ужас безнадежности. Но, призвав на помощь все свое мужество, я нарочито храбро, как-то даже по-военному, даже отмахнув желание попасть в уборную и ванную, вошла к нему и удивилась не меньше прежнего.
Да, пожелтел, похудел, и пижама на нем все та же, но совершенно непонятно, каким образом уже обрел всегдашнюю свою импозантность, и никакая потусторонняя тень уже не касалась его чела, отнюдь: выражение деятельной заинтересованности в сочетании с принятой им удобной и вместе с тем изысканной позой посередине огромной четырехспальной кровати – карельская береза, старина, Павел Первый! – все отражало уверенность и благополучие, призывало к спокойствию.
Однако, не так-то просто. Что-то такое я пробормотала вроде того, что, дескать, сейчас уже не так чтобы… И обволакивая меня, проникая в меня хорошо настроенным голосом, Саша объяснил, что у него болезнь желчного пузыря, что да, он потерял двенадцать килограмм. На днях его покажут известной целительнице и диагностке Джуне, но в смысле диагноза он ничего нового услышать не опасается, потому что ему уже лучше, а от операции. очевидно, отвертеться не удастся. Однако, мне должно быть известно, что он собирается в путешествие:
– Прикрой поплотнее дверь, извини, что пользуюсь правом больного и вынуждаю тебя ухаживать за мной. Видишь ли, ни Варя – человек мне очень преданный – ни Лиза! Кстати мы с тобой сегодня у нее обедаем, я собираюсь сегодня встать – само собой разумеется, никто другой не должен быть посвящен в содержание нашей беседы.
Эту преамбулу, как и все дальнейшее, я запомнила чисто механической памятью. Внутреннее мое участие в беседе шло совершенно вразрез всему произносимому, во всяком случае в тот момент, когда он говорил, что ему уже лучше – мрачная мысль о том, что все так говорят, и никто крепче безнадежных больных не надеется, про- вернулась во мне и затмила все прочее.
– Ты извини, – он еще ничем не затруднил меня и мог бы так часто не извиняться, но мысль эта осталась невысказанной. потому что последующая фраза успела исключить всякое высказывание с моей стороны.
– Я знаю, ты сама любишь и умеешь поговорить, но сейчас тебе придется совершить над собой небольшое усилие и по возможности терпеливо меня выслушать. Готова ты к такому построению нашей беседы? И легкая улыбка, и ей в ответ мой молчаливый кивок: мечтала же, чтобы кто-то из меня делал что-то, и вот – пожалуйста!
– Так вот, прости, я должен встать! – Еще одно извинение и улыбка, перекроенная в гримасу страдания, глаза, затянутые болью внутрь. Покряхтывая, он доплелся до стола и сделал несколько жадных глотков из горлышка большой аптекарской бутылки с прозрачной жидкостью.
– Новокаин, – объяснил он – болеутоляющее, сейчас пройдет… Лизкина сестра достала… – И я увидела, как быстро, готовая истаять, порция бодрости пополнилась и на моих глазах затвердела. Уверенно, вполне здорово он вернулся к кровати, принял прежнюю позу, по-турецки уложив ногу на ногу, а я вся превратилась в слух.
– Так вот: разумеется, тебе это неизвестно, но уже много лет я работаю, пишу эссе, статьи для западных издательств. Это не слишком трудно – дело только в несколько ином освещении, ну скажем, судеб русских модернистов – если это статья об истории русского модерна. – словом надо знать, что может интересовать западного читателя и соответственно подавать материал. И, как видишь, совершенно безопасно: конечно, я не подписываю статьи своим именем и, к сожалению, оно на Западе никому неизвестно. Но даже, если бы и было известно, совершенно очевидно, что там пробавляться такими статейками – это совсем не то, что писать их, сидя здесь. Теперь я (напоминаю: только тебя и никого больше!) хочу посвятить в свои планы на будущее. Ты знаешь: я женился на голландке и вот уезжаю, как предполагается всеми, в том числе и Варей и Лизкой, на три- четыре месяца. Варе я, правда, сказал, что если мне удастся там сделать операцию, то я продлю срок своего пребывания до восьми месяцев. Конечно, если уж делать операцию, так только там – здесь при всех связях, при том, что я могу лечь в самую лучшую клинику – шансов выжить после операции практически нет: все московские клиники заражены стрептококком. Можешь себя представить, если сыну лауреата Ленинской премии, героя Соцтруда и т. д. вскрыли чирей на голове и внесли инфекцию – через три дня он умер – что можно ждать после той операции, что нужна мне? Варя это понимает, и Лизка тоже. Но тебе я скажу больше – я, вообще, не собираюсь возвращаться. Во всяком случае, я хотел бы иметь возможность не возвращаться. Н, наверное, ты сама догадываешься, что мой брак, если и не вполне фиктивный, то и не вполне сложившийся в нерасторжимую семейную связь, с женщиной хоть и достаточно обеспеченной, но только по нашим нищенским понятиям богатой, не подает мне права рассчитывать на ее средства, необходимые на операцию, санаторий после операции, и вообще, на жизнь. Я не привык быть зависимым от кого-либо здесь и не хотел бы этой зависимости там. Одним словом, я должен обеспечить себе возможность безбедного там существования. И как это ни странно, я понял, что лучше всего мне решить эту проблему, находясь еще здесь. Из всего, что я на сегодняшний день имею, я ничего не могу вывезти. Единственное, что имеет смысл здесь продать со всей возможной выгодой, – это некоторые – я не склонен к преувеличениям – мои способности. Я имею в виду литературные способности. И представь себе: покупатель нашелся.
Покупатель, заказчик, продюсер – как угодно – но человек, готовый заключить со мной договор на многосерийный фильм для израильского, не будем стесняться этого слова, Тель-Авивского телевидения. Казалось бы, все устроилось, как нельзя лучше: я уезжаю, пишу первую- вторую серии, исполняю условия договора и в качестве нормального миллионера начинаю благополучное существование в любой угодной мне западной державе. Потерпи еще минутку – я вижу твое нетерпение: сейчас тебе все станет ясно.
Он ошибся: то, что он принял за нетерпение, было ошеломлением! Голодное нытье под ложечкой, надежда на приятную (вовсе не такую бесправную) беседу за завтраком, тоска по сигарете – все решительно растворилось и туманом окутывало мои ошеломленные мозги. Убийственно далеко Сашины планы лежали от моей маленькой надежды на легкою наживу путем экранизации романа «Жатва», «Битва», «Новь» или «Бровь» – все равно какого! Я молчала не потому, что согласилась молчать – я онемела!
А он продолжал:
– Сейчас ты поймешь, причем здесь ты и зачем я тебя вызвал. Видишь ли, я сказал, что мне удалось выгодно продать свои способности. Должен признаться, я их продал слишком выгодно: как человек, относящийся к себе вполне здраво, я признаю за собой профессионализм, умение кое-что делать. Но все это не стоит тех денег, на которые можно рассчитывать – такие деньги платят за талант. У меня его нет – он есть у тебя.
Вот слова, резко вытолкнувшие меня из оцепенения. … Этой зимой на выставке одной очень старенькой ленинградской художницы, уже побродив по залу и наглядевшись на смутно-грустные пастели, мы вышли куда-то под лестницу, где толпились курильщики, все больше восхищающиеся преклонным возрастом художницы, нежели ее работами.
Муж с кем-то стал спорить, говорить о «Ленинградской школе», о верности теме, и в это время к нам присоединился абсолютно некурящий молодой человек, живыми глазками, с большими ушами и широко растянутым ртом. Поклонник всех искусств, гость всех сколько-нибудь примечательных дней рождения. Обладатель великолепной памяти, он звонил, поздравлял и оказывался приглашенным – случалось и мной, но годы знакомства ни в дружбу, ни даже просто в расположение не превратились, а так и оставались только знакомством. Даже с легкой примесью неприязни.
При всем том он слывет большим интеллектуалом, знатоком чего-то такого, чего никто другой не знает. Но главное за ним числится какой-то поступок – в точности не известно какой, но доподлинно известно, что именно этот поступок прервал его блестяще начатую карьеру, помешал идти по дорожке, проторенной знаменитым, много преуспевшим отцом, и, более того, навсегда поссорил папу с сыном.
Это обстоятельство создало ему репутацию человека чрезвычайно порядочного, и она успешно уживалась с его «Жигулями» (при многолетней безработице), с его гастрономическими изысками и папиной дачей в одном из наиболее респектабельных ленинградских пригородов. Большеухого молодого человека с маленькой головкой и по-лягушечьи растянутым ртом я, как нетрудно догадаться, назову Аблеуховым-младшим, хотя в моем рассказе роль ему зримо отведена самая небольшая. Так вот, подойдя к нашей компании, молодой Аблеухов соединил в любезнейшей улыбке губы с ушами и, всем корпусом устремившись ко мне, сказал:
– Я о вас наслышан чудес! Вся Москва говорит о том, что вы замечательная писательница!
– Да бросьте вы! Какие глупости! – прервала я с тем ерничеством, которым всегда старалась скрыть горячую волну прихлынувшей к голове радости, едва услышу похвалу своим практически не видным миру трудам. Эти выхлопы придушенного тщеславия всегда смущают меня до полного помутнения в глазах, и я панически стараюсь скрыть, смазать, но только не выдать свое состояние. Но когда рядом стоит мой муж, друзья, привычная обстановка, сигарета в руке – отчего ж тогда не найтись? И я, все так же ерничая, отвечаю:
– Чем всякие глупости говорить, уж лучше, миленький, пригласили бы меня погостить на дачу.
Я знаю, что после ссоры с отцом он съехал с ленинградской квартиры и постоянно живет в огромном загородном доме, комфортабельном двухэтажном замке.
– Что может быть проще и вместе с тем приятнее для меня!
«Миленький» как-то еще определенней сломился в корпусе, и я уже готова была отмахнуться от его на самом деле вовсе нежданного гостеприимства, как вдруг услышала:
– Тем более, что я уезжаю в Москву, и дом будет пустовать недели две-три.
Это решило дело – слишком долго у меня перед тем болели дети, слишком они были серенькие, блекленькие, как те пастельки, что мы только что рассматривали.
По договоренности, наш приезд совпал с его отъездом. Он спустился со второго этажа, муж помог ему отнести о машину множество каких-то коробок, и он передал мне ключи со словами:
– Убедительная просьба: никогда не оставляйте дверь открытой. Даже если вы дома. Обязательно держите ее на цепочке. Кто бы из каких бы организаций, то бишь органов, ни стал ломиться – ответ один: хозяина нет, я вас впустить не могу! Вообще я очень рад, что мне не пришлось оставлять дом пустым.
Помнится, я механически подумала о том, что уж если придут из органов, вряд ли мой домработницкий ответ их остановит, но точно, что наставление показалось мне шуточным, однако двери справно запирала, и две недели прошли дивно: дети перестали кашлять, порозовели, мы надышались на весь остаток зимы и благополучно разминулись с хозяином, оставив ключи и благодарственную записку в условленном месте за два часа до его возвра- щения.
А зачем, собственно, я рассказываю об этих случайных каникулах? Ах, да! Вот что: я вспомнила о них потому, что в то субботнее утро, с трудом разомкнув слипшиеся связки, хриплым, не своим голосом спросила:
– Откуда ты знаешь о моем таланте?
Чудная, смущенная улыбка человека, говорящего от глубины души приятные сокровенные слова другому, осветила Сашино лицо, и даже румянец пробился сквозь пергаментную желтизну щек,
– Ты меня удивляешь! Я читал сам, кроме того, знаю мнение двух наших едва ли не лучших писателей. Поверишь ли, я человек, нелегко поддающийся очарованию дамской прозы, но ты обладаешь магической властью вести за собой. В том, что ты делаешь, есть та самая способность видеть изнутри, одним точным штрихом нарисовать живой мир из плоти и крови, есть та щемящая нота – словом, все то, что совершенно недоступно моему скромному дару и без чего нельзя создать маленький, тесный и теплый мирок еврейской семьи: разочарования, бушующие страсти – осуществить ту часть замысла, которую надо писать только так, как это можешь ты! Разумеется, это только часть общего – остальное я возьму на себя. Все, что касается чистой публицистики, исторически достоверного материала, крупных общественных фигур, не говоря, конечно, обо всех организационных делах. Но мне нужен твой талант!
– А им? Что им нужно?
– Конечно, это всего лишь схема, но примерно это должно выглядеть так: черта оседлости, маленькое местечко, отсюда, из тех предреволюционных лет начинается история одной семьи, клана, история разрушения патриархального быта, революционного бунта, возвышений и падений. Мы должны провести наших героев через гражданскую, через коллективизацию, через тридцать седьмой год, через войны, через дело врачей- вредителей – вплоть до отъездов, до Исхода и увидеть уже даже не внуков, а правнуков тех, кто когда-то начинал взрывать мир. У меня есть идея; их будут играть одни и те же актеры, но уже в джинсах, уже у стоек баров, снова бунтующие, снова стремящиеся все поджечь, взорвать. Общая идея такова: не надо! Вы уже один раз породили гидру, железные челюсти, которые вас же перемалывали! Вглядитесь в страшный опыт своих отцов и дедов и поймите – больше ничего взрывать не надо! Причем самые разнообразные судьбы: кто-то был расстрелян, а кто-то расстреливал, кто-то превратился в так называемого «государственного еврея», но рано или поздно и он оказался обречен. Есть такой великолепный тип идеалиста, полного идиота: я знаю потрясающую историю человека, который до войны сидел, во время войны получил Героя Советского Союза, но после войны опять сел, вышел в пятьдесят шестом, ничего не поняв, точно таким же фанатичным идиотом.
– Да. У меня самой семнадцать лет отсидела тетка, вышла и первым делом спросила меня: «Ты комсомолка?» Я говорю: «Тетя Лена, сейчас только порядочные люди не комсомольцы, а я как все» – мне было восемнадцать лет, и я была очень беспощадна. Она в крик: «Я не верю, что тебя воспитал мой брат!»
Саша задел во мне одну из самых звучных струн, его замысел взволновал меня.
– Вот: ты сама все это прекрасно представляешь! Каждая серия – одна законченная новелла.
– Ты знаешь, у еврейских мальчиков совершеннолетие в тринадцать лет: в этот день старший брат моего отца перед всей мишпухой произнес речь на древнееврейском языке, в которой он должен был изложить свою жизненную программу. Это была его первая революционная речь. Он клялся посвятить свою жизнь борьбе с эксплуататорами. Можешь себе представить, какой произошел скандал! Родственники разбежались, а дедушка кричал: «Вейзмир! Что ты со мной сделал, разбойник!»
– Великолепно! – Неподдельное удовольствие озарило Сашино лицо, его желтые, вялые руки, прогибаясь наружу, будто они лишены суставов, беззвучно аплодировали мне. – Это центральный эпизод целой серии!
О голоде я забыла совсем, но курить от возбуждения хотелось еще сильней. Вообще эта невозможность при нем курить действовала на меня как-то странно, словно бы не давала способа овладеть собой, чем-то пригасить возникшую взвинченность. А он продолжал:
– Как видишь, я не ошибся: ты именно тот человек, который сможет скомпенсировать мой сухой профессионализм. Это будет широкое эпическое полотно, и в нем должны действовать крупные исторические фигуры – к примеру, Троцкий – но ты не пугайся: это как раз я беру на себя. Ты будешь делать только то, что лучше тебя никто не смог бы сделать. Конечно, работа потребуется большая – я имею в виду подготовительная работа – тебе придется много ездить, побывать во всех еще сохранившихся провинциальных местечках, придется знакомиться с людьми, как-то входить к ним в доверие, расспрашивать – словом собирать материал.
– Саша (в эту минуту мне показалось, что я овладела своим взбудораженным сознанием), Саша, скажи мне, как же при том, что ты уезжаешь и даже не собираешься возвращаться, тебе представляется возможность совместной работы?
– Ну, это как раз самое простое: мы в общих чертах оговариваем объем твоей работы, и ты начинаешь собирать материал. Что-то небольшими порциями ты пишешь – пусть это будут совершенно разрозненные куски, неважно, но все написанное ты пересылаешь мне. А уж остальное – моя забота.
– Как пересылаю?
– Разумеется, не по почте. Есть три канала, которыми ты будешь пользоваться: небезызвестный тебе Флейш, Аблеухов и Морковин. Он, кстати, будет служить для тебя основным источником информации. Ты знакома с ним?
– Да нет… Только понаслышке от Флейша… или от Аблеухова… – странная мысль шевельнулась в голове и на минуту замедлила происходившее в ней кружение. Жить в бешеном темпе скачущей, возбужденной фантазии было в тысячу раз приятнее, и я отогнала ее. Уже отлетая от меня. она, видно, все-таки коснулась Саши и потребовала от него кое-каких объяснений:
– У него есть доступ к любому закрытому материалу, одно время он работал в Ленинской библиотеке, у него остались там связи. Ты сможешь получать через него и любую выходящую на западе литературу. Но думаю, что поездка в Биробиджан для тебя будет гораздо полезнее, чем вся литература вместе взятая.
– Саша, – опять маленькая заминка в трепещущем сознании, – я же очень прикована к дому…
– Ты все-таки не поняла, как должна измениться твоя жизнь с того момента, как ты дашь согласие на наше соавторство! Прежде всего – полное финансовое раскрепощение! Кстати, поскольку я тебя вызвал, все связанные с поездкой расходы мы делим пополам. Варя!
– Сейчас, завтрак уже готов, я только переоденусь, – отозвалась Варя, но дело было не в завтраке.
– Варя! – с настойчивостью дрессировщика повторил Саша, и она тотчас появилась в дверях.
– Пожалуйста, принеси двадцать пять рублей,
Сердце мое в это время проделало несколько болезненных скачков. Но к тому моменту, когда Варя вышла из комнаты, успело занять свое место:
– Это невозможно. – сказала я, глядя себе в колени, – Я приехала потому, что хотела приехать…
– Не говори ерунды! Что за провинциальные ужимки; я деловой человек: вызвал тебя, считай, в командировку и, как минимум, обязан оплатить тебе дорогу. И имей в виду: когда я уеду, ты будешь у Варвары получать все требуемые суммы, включая расходы на бонну для детей, а после первых же переданных мне материалов, твой муж сможет навсегда расстаться с заказной работой, перейти на твое иждивение и заниматься свободным творчеством.
Четвертак уже лежал у меня на коленях. Почему я не смахнула его? Просто твердой рукой не вернула Варваре? Может быть, потому, что в моем мозгу метались, налетая друг на друга, долги, шкурки, заложенный столик, сотня, занятая на дорогу, – и все это вперемешку с развалившейся на куски надеждой хоть что-нибудь заработать своим трудом.
Что-то грубо-глупое было в этом четвертаке. И я не понимала, почему Саша с такой убежденностью говорит:
– Вы, провинциалы, поразительно умеете создавать мелочные, неловкие ситуации, в то время как всего-то и требуется: понять суть деловых отношений и спрятать деньги в сумочку.
Чувствовала, он зазря меня шельмует, но не нашла в себе сил не то что превзойти, а хоть как-то уравновесить его барственную уверенность и свою нищенскую суетливую добропорядочность. Я принесла ее ему в жертву и положила четвертак в сумку.
– Сашу нельзя волновать, – донесся из кухни голос Вари. – Кончайте торговаться и идите завтракать.
Положив деньги в сумку, я достала наконец из нее сигареты, но надежда на то, что сигарета вернет мне ощущение комфортности, не оправдалось, так же как и надежда на приятный завтрак. По тарелкам была разложена пшенно-тыквенная каша (о, если бы просто пшенная!), а посередине стояла литровая банка, наполовину наполненная зернистой икрой.
– Сделать тебе бутерброд? – спросила Варя, достала из банки столовую ложку икры и протянула ее Саше. – Икра – это кровотворное, – объяснила она. – При его гемоглобине необходимо две ложки в день,
– Нет, спасибо. Мне бы чашечку кофе и, если можно, я закурю.
– Кури, конечно, только в форточку: Гарри не любит дыма. Да, Гарри? Ты не любишь дыма?
И Гарри – большой, с локоть величиной, цветастый попугай (как я могла говорить о тыквенной каше и умолчать об этом чуде в клетке, занимающей всю середину кухни?) ответил хозяйке из утробы вырванным криком, будто я не курить собиралась, а пытать его калеными щипцами. Потом он еще несколько раз издавал этот адский вопль, очевидно желая мне доказать, что он, единственный среди обилия вещей в квартире (пусть даже более ценных!) – живой. Словно его мучила мысль о том, что его, так неуклюже выставленного посреди кухни, сочтут просто имуществом, Но в то же время крик этот призван был объявить, что полноценным собеседником он быть не может и что бы ни услышал, никому не выболтает. Поэтому, как только Варвара вышла, Саша сказал:
– Разумеется, все должно делаться под «крышей»: я могу снабдить тебя официальной бумагой, скажем из Центрнаучфильма о том, что мы с тобой собираем материалы для сценария об истории Госета. И ты и я понимаем, что фильм о еврейском театре сейчас никому не нужен, но никто не может запретить нам – я ведь не лишен права здесь в Союзе работать – заниматься этим фильмом. Правда, для Варвары и Лизки я попрошу тебя твердо придерживаться иной версии: я предложил тебе работать над сценарием о русских модернистах начала века. Так нужно. По поводу этой версии тоже можно оставить тебе официальную бумагу, и она тебе тоже может пригодиться, – все, что ты будешь делать, должно делаться под официальной крышей.
Он говорил, я, безусловно, слушала – ведь запомнила же совершенно дословно. Но вместе с тем воображение уводило меня в даль невозвратных лет: я видела себя девчонкой-продавщицей книжного магазина и похожего на попугая книгоношу Яшу: крючился оседланный очками нос и сквозь чудовищные линзы испуганно ширились зрачки почти слепых глаз. Он должен был стать гениальным математиком – с четвертого курса инженеров водного транспорта, где учился в одной группе с моей сестрой, он ушел и был принят на третий в МГУ; экзамены профессорам сдавал в их домашнем кругу за чашкой чая, очков тогда не носил, и глаза его излучали какое-то светлое смущение от необъяснимой удачи родиться с мозгами специально устроенными для теории и абстрактного мышления. Но эти мозги прикрывали слишком хрупкие кости – они дали трещину, когда здоровенный верзила с какого- то, забыла с какого, но совсем с другого факультета, однажды подошел к нему сзади, и с двух сторон обхватив, сжал его голову огромными лапищами, оторвал от пола, подержал в воздухе, а когда опустил – Яша упал без сознания. Была такая шуточка: «Хочешь, Москву покажу? А то все в Малаховку ездишь!» – это он говорил уже ничего не слышавшему Яше. И больше Яша нигде и никем, кроме как книгоношей у нас в магазине подписных изданий, работать не мог; у него была старенькая мама, и он с каждым годом слеп все больше, и голова болела все чаще, а потом он совсем ослеп.
О том, что он умер, я узнала от своей сестры уже через много лет после того, как ушла из магазина. Но я всегда помнила про эту Малаховку – Яша много про нее рассказывал: те два года, что он учился в Москве, он жил не в общежитии, а на квартире в одном из пригородов Москвы, где вокруг синагоги, под сенью ее теснилась таинственная заповедная патриархальная жизнь. Здесь ходили в лапсердаках и камилавках, мальчики до четырнадцати лет носили косичку, здесь соблюдали субботу и на гортанном, как камни перекатывающиеся в стремительном течении ручья, языке толковали Талмуд. И все это – Малаховка.
– А-а! – истошно заорал попугай и дико расхохотался. Было отчего, потому что как раз в это время, вырванная его криком из тумана воспоминаний, я сказала:
– Саша, ты знаешь такое место: Малаховка?
– Вот именно! Мы с тобой завтра… нет, завтра я сдаю анализы… Послезавтра мы туда съездим. А сегодня я хотел бы, чтоб ты посетила один очень интересный дом. Впрочем, ты не сказала самого главного?
– Да, – ответила я. – Да, Саша, не знаю, получится ли у меня, но я согласна.
Однако, мне не хочется, чтобы кто-нибудь подумал, что, едва произнеся эти слова, я могла бы тотчас отречься от них, напротив: в ту минуту мысль моя работала как нельзя трезво. В одно угодливое мгновение я оглянулась и увидела всю свою прошлую жизнь: увидела своего отца, умершего, так и не узнав, что я пишу (я все надеялась, что хоть один из моих рассказов о Залмане Риккинглазе когда-нибудь напечатают, и я обязательно сделаю посвящение отцу, и это будет для него настоящий сюрприз), но он умер; мама, всегда считавшая, что если женщина пишет, так это наверняка про любовников, и очень из-за этого сердившаяся на меня, – тоже умерла.
Когда-нибудь кончится время сидения за столом, моего ночного труда, и я умру – сюрприза не будет! – и мой умный снисходительный муж, умирая, будет думать, что все-таки я была немножко сумасшедшей: жизнь, прожи- тая в страсти писать и твердо усвоенной привычке написанное складывать в стол, – это жизнь безумца! Нет, я сопротивлялась; однажды прочла в газете «Московский писатель» статью, автор которой на Красном знамени присягал, что вес талантливое и пронизанное гуманизмом на самом деле находит путь в печать. Я поехала в Москву, пришла к нему, большому начальнику, и положила перед ним свои рассказы и два отзыва двух хороших писателей.
Были времена, когда четверти того, что в них написано, хватило бы на то, чтобы сотворилась чья-то писательская судьба. Я сказала, что за гуманизм свой я отвечаю, а в талантливости моей расписываются вот они – прочтите! «Ведь не под пистолетным дулом вы писали свою статью, вы – критик, литературовед, вы сумеете мне, по крайней море, объяснить, почему меня не печатают». И еще я попросила его, если дороги в печать для моих рассказов нет, переслать мне их. Через несколько месяцев я получила бандероль с запиской: «По вашей просьбе рассказы высылаю». Я храню эту записку. Ни одному критику, ни одному литературоведу еще не удавалось быть более лаконичным. И вот что я скажу: ни одному писателю, может быть, не случалось получить такую весомую похвалу – пуды чиновничьего страха, груда бесстыдства, тонна жира, которым он обмазал в себе все щелочки, чтобы ниоткуда не просочилась струйка совести, – вот на что тянет эта записка!
А из редакций мне иногда шлют дружеские письма, не только на бланках, а просто так – ободряют в частном порядке. Но что они могут, эти редактора и завы отделом, если они сами только зубная боль для своих начальников? Я всегда испытываю к ним слезную нежность за то, что среди вороха рукописей они находят мою, находят время и силы вчитаться в нее и написать мне теплое письмо, в конце приписав что-нибудь вроде: «… но журнальная ситуация такова… увы, все высказанное носит пока чисто платонический характер».
И вот нашелся заказчик, нашелся человек, который говорит мне: пиши о том, что знаешь, что волнует тебя, и тебе будут платить за это, так или иначе твой труд будет реализован – надо ли мне раздумывать? И я соглашаюсь.
– Безусловно получится, – говорит Саша. – В этом я не сомневаюсь; ты ведь ничем не ограничена, если что-то тебе не нравится в замысле, то можешь предложить встречный вариант. А сейчас организуем твой визит, – и он, придвинув к себе стоящий тут же на кухонном столе телефон, набирает номер…
Да, мне не все нравится в его замысле, собственно, он мне вообще не нравится. Мысль о том, что это евреи взорвали мир – гнилой и шаткий мир дореволюционной России – навязла в зубах и мне претит, но раз я могу предложить свой вариант, не сейчас, конечно, сейчас это трепыхание в груди и кружение в голове мешают мне думать…
– Алло! Флейш? – слышу я. – Да, ты не ошибся, дорогой. Приехала. Да, пожалуйста, позвони профессору. Хотелось бы сегодня. Ты все-таки попробуй. Да, вот что: скажи, что это замечательная еврейская писательница! Нет. русскоязычная разумеется, ну, словом ты сам понимаешь… Хорошо?
В мгновение ока он возвел еще одну «крышу» над моей головой – я стала похожа на пагоду – и повесил трубку, Я даже не успела поздороваться с Флейшем.
– Он сейчас перезвонит, – объяснил Саша. – Маленькое, непредвиденное затруднение: сегодня суббота, и юный талмудист, к которому я хочу тебя направить, не снимает трубку.
Заметно приободрившись, то ли от икры, то ли от тыквенной каши, а скорее всего, от того болеутоляющего, что он все прихлебывал из прихваченной на кухню бутылки, Саша поручил мне договариваться с Флейшем, а сам удалился в ванную. На кухне тотчас появилась Варвара.
– Ну, что? Как? Тебе понравилось Сашино предложение?
Боясь что-нибудь перепутать или выболтать, я ответила, сколько могла сухо:
– Вроде бы да.
– Вот и хорошо! Ты понимаешь, ему необходимо уехать: он должен прооперироваться там.
– Но здесь… – я хотела сказать, что здесь после операции его выхаживали бы близкие, любящие люди, но она перебила меня:
– Нет, здесь это безнадежно! По любому блату! Все больницы заражены стрептококком. Мальчику девяти лет вскрыли чирей на голове и все – барсик! Внесли стрептококковую инфекцию!
Тошнота не успела подползти к горлу от этого мальчика с чирьем на голове, как Варвару, словно ледком, прихватило от страха: по-жабьи клокотнул в ее горле торопливый вопрос:
– А что он тебе сказал: на сколько он едет? – кругло в отекших подглазьях ее глаза пытливо уставились в мои.
В эту минуту, к счастью, зазвонил телефон. Другу моему, Флейшу, наверняка не часто удавалось выступать в роли более благородной: его звонок избавил меня от необходимости путаться в словах.
– Привет, дорогая, надеюсь мы увидимся, – услышала я его густой, как черный бархат, голос. – Тем более, что к этому сумасшедшему еврею ты сможешь пойти только через два часа, его брательник сейчас уходит и, пока в доме не появится кто-нибудь другой, некому будет открыть тебе дверь – сегодня суббота! Это мы с тобой, грешники, можем ездить в поездах, говорить по телефону, открывать гостям двери, а порядочные евреи, которые верят в мстливого еврейского бога – ты знаешь, что еврейский Бог мстлив? – ну вот, тогда имей в виду, что верующие евреи ничего этого не могут позволить себе в субботу. Они могут только беседовать – ты представляешь: беседовать он может, а дверь открыть не может! А с кем же беседовать, если не можешь открыть дверей гостю? Вот я могу открыть тебе двери и потому надеюсь через полчаса видеть тебя у себя!
О, надо знать Флейша так, как знаю его я, чтобы, ни разу не прервав, выслушать весь этот рокот, этот переливающийся через край души монолог. Флейш для себя одного говорит, сам себя слушает, сам себе отвечает – ты хочешь, присутствуй при сем, а хочешь положи трубку и сходи пописать. Заметит он твое отсутствие, только если услышит гудки в трубке, и то не сразу…
Сашу, которому я вкратце изложила суть услышанного, все устроило. Меня тоже: минут через пятнадцать мы уже ехали в такси – я к Флейшу, Саша дальше, к своей средней жене. От Флейша я должна через полтора-два часа направиться по растолкованному мне адресу, а затем меня ждал обед в кругу поклонников моего таланта.
– Да-да, ты напрасно улыбаешься, – сказал Саша. – С тобой безумно хочет познакомиться одна литературная дама, сама недурная сценаристка, ты знаешь, она просто напросилась на обед, узнав, что ты будешь.
В эту минуту мне показалось, что шофер пытался в зеркальце рассмотреть меня. Однако, стоп – я приехала. Дальше тебе, шофер, без меня ехать, можешь расспросить своего пассажира, кого это ты вез и с кем это все хотят познакомиться.
Я не успеваю перебрать в памяти все сказанное Сашей по дороге – вот она в конце лестничной площадки- дверь нужной мне квартиры. Звоню и вижу на пороге одетого в пальто Флейша.
– Ты уходишь? – спрашиваю вместо приветствия, удивляюсь.
– Бог с тобой! Я оделся, чтобы ты оценила мое новое пальто. – Именем Бога врет Флейш. – Представь себе: я был провинциальным поэтом, потом стал москвичом, жителем столицы, но совершенно бездомным нищим скитальцем, и вот теперь, когда у меня появился дом и завелись кое-какие деньжата, мне повезло немыслимо: лучший в Москве магазин уцененных вещей, магазин, в который поступают вещи из ломбарда (ты понимаешь, вещи, не выкупленные разорившимися богачами!), так вот, именно этот замечательный магазин находится непосредственно в моем доме! Думал ли я когда-нибудь, что смогу приобрести пальто из настоящего английского коверкота за какие-то ничтожные пятьдесят рублей! – врет Флейш.
Его массивная двояковыпуклая фигура с круглой спиной и круглой грудной клеткой, как-то по-бабьи подпоясанная, облаченная в долгополое пальто с накладными карманами, занимает все пространство маленькой прихожей. То так, то эдак он поворачивается перед зеркалом и врет собственному отражению. Может быть, он отдал за эту довоенную хламиду четвертак, а может быть, все сто – не знаю, но Флейш не может не врать, и единственное, в чем я не сомневаюсь, так это в том, что сшито пальто из настоящего английского коверкота. Друг мой Флейш – истинный поэт, и в этой же мере неподдельный потомок мануфактурщиков. Он пробует жизнь на ощупь, не кончиками пальцев, а всем беззащитным нутром касаясь ее. Но одного беглого взгляда ему достаточно, чтобы отметить в толпе пиджак из твида, костюм от Кардена, брюки из натуральной шерстяной фланели – и уж если он говорит, что это английский довоенный коверкот – значит это коверкот. Ну, может быть, не английский. Ну, может быть…
– Ты ничего не понимаешь в элегантной одежде! – говорит он в ответ на мою безмолвную возню с сапогами. Молнию заело, я боюсь ее порвать и в конце концов решаю остаться в сапогах. – Ты никогда не одевалась красиво: дорого – еще не значит красиво! Дорого каждый дурак может одеться! Но прости: я не хотел тебя обидеть! Ты, кстати, прекрасно выглядишь. – Наконец-то я попала в поле зрения его черных, как потухшие угли, глаз. – Ты надолго в Москву?
Он снимает пальто, и мы идем в кухню, но у меня не проходит ощущение, что он спешит. Не то, чтобы ему непременно надо было уйти, спешка внутренняя, ему не остановиться на одной теме, на одной минуте – так, будто мы разговариваем на перроне и поезд сейчас отойдет… И только настойчиво спрашивает;
– У тебя обратный билет есть? Покажи!
– Да зачем тебе? И быстрая неправда:
– Я поеду с тобой в Ленинград. Мы поедем с тобой в одном купе.
– Врешь, не поедешь. И потом – в одном купе?
– Тоже мне проблема! Даешь кассирше лишний рубль. Я клянусь тебе: мне действительно нужно в Ленинград: покажи билет!
Он не спрашивает меня, зачем я приехала, что за дела у меня с Сашей. Это не озадачивает меня. Где-то на периферии сознания мелькает мысль, что он в курсе дела и знает, что можно спрашивать, а что нельзя. И, должно быть, от этого я подчиняюсь его настойчивому желанию своими глазами посмотреть мой обратный билет.
– Господи, – облегченно вздыхает он, беря его в руки. как будто это и было все, что ему от меня нужно. – Тоже, велика сложность, дать человеку билет посмотреть. У меня великолепная зрительная память: вот я вижу – поезд номер два, четырнадцатый вагон, место… Кстати, тебе нужно поторапливаться. Чашечку кофе выпьешь?
Выпью, Флейш. И буду поторапливаться. Но еще успею послушать стихи. Еще коснутся моего сознания строчки: «За два года до собственного полувека невозможно изображать полубога, если не вышло из тебя человека». И врежется в память: «Я попробую обойти Фортуну и пристроиться за ее спиною».
И уже в дверях, в последнюю минуту он вдруг говорит о самом главном, потрясающем событии – о нем бы только и говорить, да не с тоской, а ликуя; «Вот, наконец-то со мной подписали договор на книгу…»
О, Флейш! Если б ты знал, как я за тебя рада! Но мне уже не выговорить своей радости, я бегу, ловлю такси и еду. Я тоже, можно сказать, подписала договор – я еду работать.
Странно начинается моя работа. Шишнарфиев по дороге к Флейшу сказал:
– У меня есть идея – титры фильма пустить на фоне старых дагерротипов. Когда ты будешь ездить по маленьким еврейским местечкам, ты должна интересоваться семейными альбомами, в средствах ты стеснена не будешь, так что сможешь покупать то, что тебе покажется пригодным, но я уверен, что тебе охотно будут дарить фотографии. Ты обаятельная, ты должна вызывать доверие…
…А как же все же в Законе сказано о том, что по субботам нельзя говорить по телефону? – вспоминаю я вдруг Флейша.
– В нем сказано – спокойно и терпеливо объясняет мне тоненький, длинноногий мальчик в комбинезончике и ковбойке, в камилавке на пышноволосой голове, сидящий передо мной на диване в комнате, погруженной в полутьму.
– В Законе сказано: нельзя в субботу раздувать искру, посланную соседом через тростниковую трубку. А знаете, почему в субботу нельзя летать на самолетах? – его не раздражает моя непосвященность, он призван учить, и он старается придать учению занятную форму – он мудрый учитель:
– В Законе сказано: в субботу нельзя летать ни на крылатом крокодиле, ни на крылатом тигре.
Но как же он не замечает изящной уловки светской собеседницы, когда я, вспомнив наказ Шишнарфиева, выуживаю у него адреса ленинградских единоверцев. Он только просит меня подождать, пока он совершит молитву: вот уже взошла звезда, окончилась суббота, можно зажечь свечу и, опустившись перед ней на колени, беззвучно произнести благодаренье Господу и пророку его Моисею, передавшему людям закон добра и зла. Окончена суббота – теперь можно взять в руки записную книжку и карандаш и на листок бумаги выписать для меня несколько ленинградских адресов!
…Но кажется мне: стоя на коленях перед свечой, он не забыл попросить у Господа покоя и моей грешной душе.
Вдруг унялось дрожание и кружение сегодняшнего дня, неизъяснимая еще мысль вытолкнула из темной дремы инстинкт самосохранения, и к званому обеду в обществе поклонницы моих талантов я пришла с полной мерой равнодушия к своей сомнительной славе.
Маленькая квартира средней жены Шишнарфиева в новом кооперативном доме, в так и оставшемся неуясненным мной районе – я ведь туда-сюда на такси, благо расходы оплачены – хранилище ценностей второго разбора, уютное гнездышко маленькой востроглазой птички пахнуло мне в нос аппетитным запахом жареного и печеного, от порога обволокло ласковым щебетом:
– Мы уж заждались вас, все остыло, скорее к столу, у Саши посетитель, ему все равно ни есть, ни пить нельзя, так что уж мы сами…
Я тотчас с удовольствием подчинилась этому милому щебетанью, светясь улыбкой, быстро сошлась с гостьей, пришедшей якобы меня ради, про себя нашла ее симпатичной, только немного нудной с тем непоправимо тоскливым взглядом, что раз и навсегда приобретают женщины моего возраста, внезапно брошенные мужьями. Роль веселого клоуна я взяла на себя, и она прекрасно стала мне удаваться, едва я допила стакан вина. Как-то лихо я перевернула начатый было моей визави разговор о безысходности нынешней литературной ситуации на смешные анекдотические случаи из жизни пишущей братии и с наивно преувеличенным восторженным ужасом стала рассказывать, как у нас в Ленинграде эти, не попавшие на ковчег, в котором и без них уже всякой твари по паре, мытари от литературы, добившись собственного клуба при музее Достоевского, первым делом завели своих вышибал. При всяком случае те кричат: «А вы не член! Вам не давали слова!» – я изгилялась, как могла, и лишь краем глаза, кончиком уха, сама того не желая, примечала и прислушивалась к происходившему за матовым стеклом закрытой кухонной двери. Я сидела за столом боком к ней, и в какой-то момент мне показалось, что кто-то из темного коридора, оставаясь невидимым, на меня смотрит. Но через мгновение хлопнула дверь, и тут же в кухню вошел Саша:
– Ну как вы тут? Ты прости: у меня посетитель за посетителем. – И точно: звонок в дверь снова лишил трех сидящих за столом дам мужского общества.
– Это Морковин, – сказала Лиза. Беседа Саши с Морковиным оказалась недолгой, и вскоре оба появились на кухне.
– Я спешу, меня жена ждет, – стоя на пороге кухни, отнекивался от Лизиного гостеприимства Морковин. – Я только хотел познакомиться с вашей гостьей – он принял позу человека, ожидающего протянутой руки, и я ее протянула. – Счастлив с вами познакомиться, так много слышал о вас удивительного!
– От кого же?
– От любимейших своих писателей, от людей, мнению которых я не могу не доверять (он назвал тех двух, чьи отзывы я храню), они говорят о вас…
– Нечто неправдоподобное! – ерничая, перебила я. – Ну. самому мне трудно судить: я к сожалению не имел возможности сам ознакомиться.
– Да выпейте вы с нами водки! – присоединилась я к призывам хозяйки – мне искренне надоело сидеть меж двух женщин, пить в обществе одних женщин я вообще не люблю, а надежды на то, что Саша выпьет, быть не могло.
– Но разве что рюмку… – и присаживаясь к столу напротив меня, так напрямки и спрашивает:
– А где, скажите, можно прочесть ваши рассказы?
– Там, где вы о них слышали, – говорю, – там и можно!
– Ну там это как-то не совсем удобно. А вы не можете дать?
– Вы мне не поверите, – говорю я очень искренне, доверительно, – но у меня совершенно нет экземпляров:
я вечно все теряю, сама печатать не умею. То есть я печатаю, но то, что я печатаю, читать невозможно, а машинистки теперь берут дорого.
– А почему невозможно читать то, что вы печатаете?
– Ой, господи! Я пишу с такими ошибками – это просто невероятно, но я же высшего образования из-за этого не получила: вы представляете я два раза писала вступительное сочинение, и оба раза – двойка! Да давайте выпьем, что ж мы так-то сидим! – раздухарилась я необыкновенно, но из рюмки своей отпила не более Морковина, а он едва пригубил свою и, полагаясь на мое возбуждение, аккуратно спрятал ее за стаканом с водой.
…Э, Морковин! Человек с плакатным лицом отличника по стрельбе не компануется ни со старинной мебелью, ни с людьми, занимающимися искусством. Особенно, если он не пьет – делает вид, что пьет, а сам не пьет! И свободы в движениях нет, выправка у вас какая-то, я бы сказала, не такая. И эта манера бросить глаза в глаза и тут же свои убрать, будто толкнуть человека. Вам же говорили, что я талантливая – значит, приметливая, выходит, вы не поверили, если задаете мне, прямо скажем, бестактные для первого знакомства вопросы, вроде вот этого:
– А вы все-таки не хотели бы напечататься, ну хотя бы…
– Что вы, – говорю, – кто ж меня там будет печатать?! Это ж надо что-нибудь такое эдакое написать, а я ничего такого не писала никогда, я вообще еще очень мало написала, так что даже считаю, что и говорить не о чем, у меня и претензий-то никаких нет.
Говорю, а сама замечаю, как неприметно из-за стола словно не вышел, а вытек Саша; вернулся, минуту-другую посидел, давая мне закончить фразу, но едва возникла пауза, мягко влагая слова в душу, обратился к своей соседке:
– Я давно тебя не видел и страшно рад, поверь. Мне хочется подарить тебе что-нибудь на память, – он вроде бы поискал глазами это что-нибудь на себе и тут же нашел: – возьми вот этот перстенек! – И серебряный перстенек со своего мизинца – к ней в ладонь.
– О. Саша! – она неподдельно тронута. – Ну, что ты! Такой подарок! – и примеряет перстенек и любуется, и все это рождает какую-то заминку, будто никто не знает, как реагировать на сей пассаж и будто эту неловкость надо разрушить чем-то. И Саша тут же спохватываемся:
– Нет, что ж я! Одной даме сделал подарок, а другой нет?! Немедленно исправить! – И нарочитой прытью в комнату.
Дам за столом очевидно три, но жена, даже бывшая, в подобных обстоягельствах в расчет браться не может, это понятно. Однако какая-то неловкость есть, мне кажется, она ощущается всеми. Я подумала, что она исходит от меня, от моего неумения просто, естественно принимать нежданные подарки, но не только от меня – еще от чего- то, неопределимого. И словно предчувствуя мое сопротивление и сразу желая одним жестом его отмести, Саша еще из коридора кричит:
– Закрой глаза!
– А теперь открой! – я открываю и вижу припавшего передо мной на одно колено Сашу. На столе передо мной лежат пять книг в одинаковых обложках,
– Тебе подарок иного рода, – со значением, вкладывая какой-то льстящий мне смысл в слова, произносит еще с колен Саша, – Выбирай любую!
Передо мной лежат пять книг в серийных обложках одного и того же западного издательства с сельскохозяйственным названием, пять книг, не знаю, как каждая в отдельности, но вместе, спокойно тянущих на пять невыносимых лет без отягчающих обстоятельств. Мысль эта так резанула по мозгам, что я не все названия прочла, а минуя то, одно, что само по себе наверняка двух лет жизни стоит – честь тебе и хвала, мой любимый писатель, прости, что от тебя я отдернула руку! – потянулась к самому безвинному – к простаку Джойсу.
– Великолепно! – говорит Саша, подымаясь с колен: – «Портрет художника в юности»! Выбор интеллигентного человека.
– Ах. Саша. что за подарок! – повторяю я вслед за окольцованной дамой, и мы пьем – она и Лиза вино, а мы с Морковиным поднесли к губам рюмки с водкой. Но на этот раз номер не проходит:
– А вы не пьете, – замечает Морковин.
– А вы?
– Меня дома жена ждет, она манты приготовила, их надо под рюмку есть, мне нельзя напиться.
– Что приготовила?
– Манты. Это, знаете, узбекское блюдо, вроде пельменей.
– Узбекское?
– Да. Мы же в Ташкенте жили.
И тут я вспоминаю; мне о нем когда-то, года два назад, рассказывал Флейт. Но Саше завтра утром в клинику, к знаменитому профессору, – вставать рано. Морковина манты ждут, и мы прощаемся. Даму они прихватили с собой, меня Саша оставил у Лизы. Перед выходом, зазвав в комнату, в которой я должна буду провести ночь. Напомнил: «Лизе ни слова! Послезавтра едем в Малаховку. Ты понравилась человеку, о котором я тебе говорил». Его позвали из передней, и возникший у меня вопрос остался невысказанным.
Едва за ним закрылась дверь, как Лиза заговорщицки повторила:
– Ну, все хорошо. Вы понравились тому человеку.
– Кому?
– Ну, продюсеру. А вам нравится Сашино предложение? Я едва не спросила: какое? Но спохватилась.
– Да, очень.
– Вот и прекрасно. Знаете, ему необходимо уехать: он должен сделать там операцию. Конечно, мы могли бы здесь положить его в любую клинику, но это какой-то ужас: в Москве буквально все клиники заражены стрептококком! Мальчику девяти лет вскрыли чирей на голове, внесли инфекцию, и он умер! Какой-то ужас!
Ужасом действительно наполнились ее маленькие острые глазки, но мне почему-то стало смешно: над огромным городом нависла тень мальчика с чирьем на голове!
Она постелила мне в комнате, где Саша принимал посетителей, на роскошном дивана мастера Гамбса. Голосом бывалого экскурсовода она пыталась просветить меня: «Это Лентулов, это Кузнецов, а это Сомов. Здесь у меня Саша держит живопись начала века – как раз то, о чем вы будете писать». Ах, вот о чем мы будем писать! Я делаю вид, что всматриваюсь, но до чего же я все-таки вздорный человек: почему навязчивая мысль о том, где, когда, у какой старушки за какие гроши куплены эти натюрморты, пейзажи и портреты, мешаст мне вглядеться и насладиться. А может быть, я просто смертельно уста- ла, я хочу спать. Пусть мне приснится гамсуновский сон на гамбсовом диване.
Но снов мне не снилось. На спине, вытянув руки поверх одеяла, я уснула и в той же позе проснулась. И настолько глубок был сон, что ни руки, ни ноги не затекли, не поломило спину от неизменности позы. Так, вероятно, расслаблена была каждая клетка моего существа, что мозг и тело получили за ночь полный и такой необходимый отдых. Вот уж точно, что рюмка водки перед сном бывает целительной. Но вытолкнуло меня из этой безмятежности отчетливое воспоминание. И сразу вселило тревогу и сбросило с дивана: я вдруг отчетливо увидела руки Саши, его руки до того момента, как он первый раз незаметно, не обращая на себя внимания, встал из-за стола – руки, на которых никакого кольца не было! Ни там, в квартире первой жены, когда сидя на кровати он аплодировал мне, ни здесь, когда он с Морковиным пришел на кухню и сел за стол, – кольца на его руке не было! Оно появилось у него на пальце после его возвращения из комнаты, он за ним ходил, но не принес его в руке, а надел на палец и, выждав паузу, преподнес свой подарок как бы по внезапному порыву. Мысль снять с пальца кольцо пришла ему в голову как бы мгновенно, как бы в минутном душевном порыве от полноты чувств захотелось что-то оставить на память о себе доброй приятельнице. Но это было не так. Он только старался изобразить этот минутный порыв, он даже обыскал себя глазами, чтобы от себя оторвать, но сделал все это, как плохой актер, за которого сидящим в зале стыдно. Вот отчего над столом нависла та неловкость, которой я не могла найти объяснение.
Роль еще не была доиграна – это была только преамбула: подарок одной вызывал необходимость преподнести подарок второй гостье. Я оглядела комнату. Так же, как в квартире его старой жены, эта комната тоже была не обставлена, а заставлена мебелью самого разного назначения: сказать кабинет это или гостиная, столовая или спальня, при всем желании никто не мог бы. Ну, разве что, точно не спальня – в ней не было ни кровати, ни шкафа, ни туалета. Обитает здесь мужчина или женщина, тоже неопределимо, как неопределим и род занятий обитателя.
На стенах картины, много разнообразной мебели, много фарфора – ваз и ваз, превращенных в настольные лампы, часы стенные, напольные и настольные, очевидно требующие починки, молчаливые, ценные той внешней оболочкой, в которой умерла их живая душа. Но не было разбросанных по креслам и диванам вещей, не было ни бумаг, ни книг на столах, и понять, откуда он извлек, второй раз выйдя из-за стола, те книги, было невозможно.
Я даже встала и подошла к секретеру: крышка его заперта, как, вероятно, заперты и ящики какого-то замысловатого комода. Даже если книги лежат где-то в ящиках столов или комодов, они были приготовлены, нельзя было так мгновенно извлечь их – все пять – для того, чтобы предоставить мне выбор. И непонятно, когда он убрал оставшиеся. А не Морковин ли принес их с собой? И не унес ли те, что остались, в том объемистом черном портфеле, что был с ним?
Я не стала ни о чем думать дальше. Странное чувство, что не сейчас, а еще вчера, по дороге в этот дом, я уже нисколько не верила ни в замысел Шишнарфиева, ни в продюсера, ни в истинность своего соавторства – это странное чувство поразило меня. Мысль, что я должна немедленно уйти из этого дома, сделалась главной.
В квартире стояла тишина. Я вышла из комнаты и тотчас увидела на кухонном столе записку: «С добрым утром! Я ушла в магазин, приду, будем завтракать! Лиза».
Нет уж, никаких завтраков. Скорее отсюда, но куда? Ни к кому из знакомых ехать не могу и не хочу. С людьми надо разговаривать, а я сейчас не могу ни слушать, ни говорить ни о чем, что лежит вне прожитого накануне дня. Где-то я должна остаться одна, совсем одна. И я вспомнила о своей приятельнице, у которой есть все, что нужно современной, самостоятельной женщине: прекрасная профессия, отдельная однокомнатная квартира на Звездном и постоянный любовник на другом конце города. Она иногда проводит у него несколько дней кряду. Он живет, на мое счастье, вблизи от места ее работы, и я знаю с ее слов, что обычно у себя она бывает лишь по пятницам и субботам, а в воскресенье уезжает к нему, на всю рабочую неделю.
Если в ее жизни ничего не изменилось, я смогу к ней поехать – только бы сейчас застать ее дома!
Помолившись об ее женском счастье, я набрала номер, и все сложилось, как в сказке: часика через полтора она как раз собиралась покинуть свой дом до следующей пятницы. Ключ она мне оставит у соседки и я, уезжая, оставлю его там же!
Она удивилась, когда на вопрос: «а ты не хочешь со мной увидеться?», я сказала «нет!»
– У тебя что-то случилось? – должно быть, моя тревога передалась ей, и она велела мне записать телефон ее друга. Если она понадобится мне, она приедет немедленно. Спасибо, но сейчас мне лучше побыть одной.
Я стала собираться, подошла к дверям и проверила. смогу ли выйти до прихода хозяйки и захлопнуть их. Заглянула в ту, другую комнату, Она точно так же была заставлена и завешана. Только разбросанные на полу среди старинных кресел и столов детские игрушки напоминали о том, что обычно в этой комнате живет ребенок. Вчера, в связи с приходом детолюбивого папы, девочку отправили к бабушке. Но и в этой комнате, кроме неприбранной Лизиной постели и очень заграничных игрушек, никаких примет живой человеческой жизни. С Лизой я все-таки столкнулась в дверях.
– Вы уходите? – Мне даже жалко стало ее, такой ужас округлил ее глазки. – Но это невозможно! – лепетала она, и я в ответ буркнула что-то вежливое про заболевшую подругу, про врача и лекарства. Я чувствовала, что сильно подвожу Лизу, должно быть Саша велел ей кормить меня на убой – в руках у нее были набитые сумки – и занимать приятной беседой.
Метро, автобус, небольшая прогулка пешком как раз поглотили те полтора часа, через которые квартира на Звездном опустела, и вот оно, вожделенное одиночество. так нужное мне, чтобы спокойно перебрать в памяти все происшедшее со мной. Собственно событий не так уж много – много сказанного – вот это сказанное, я и должна наконец обдумать.
Но прежде я с облегчением оглядываю свое укрытие. Правда, я не раз бывала здесь, но сейчас на все смотрю новыми глазами, как будто в поисках аленького цветочка, пережив грабеж и бурю в океане, я наконец попала в замок невидимого мне, доброго, гостеприимного хозяина. На столе свежезаварснный чайник, еще горячий, сахарница, масленка и баночка открытых шпрот, на плите сковородка и в миске десяток яиц; день пасмурный, но в комнате светло. Шторы – простой серый холст с вшитыми в него квадратами и кружками рукодельного нитяного кружева – отдернуты, пыль только что вытерта, цветы политы, по стенам удобно и красиво прилажены застекленные полки с книгами, развешаны старинные фотографии.
В изголовьи тахты, покрытой необъятной шамаханской шалью, ветхой от времени, но все еще прекрасной, сложено чистое белье для меня и даже ночная рубашка. «Господи, как хорошо, вот он, покой и отдых!» – думаю я, и в это время раздается телефонный звонок. Я снимаю трубку, уверенная почему-то, что это моя хозяйка хочет узнать, приехала ли я, попала ли в квартиру, но едва услышав голос, сразу поняла, как я чудовищно ошиблась – это был голос Лизы. Как же я могла забыть, что они знакомы! Не дружны, а только так знакомы, как бывают знакомы те, кто встречается на одних и тех же обедах, премьерах, вернисажах.
– Ее нет – механически, еще ничего толком не сообразив, ответила я на вопрос и собственного голоса испугалась и уже с чувством идущего ко дну, ответила еще на один вопрос:
– Не могу вам сказать. Я посторонний человек. И резко повесила трубку. Я же не сказала Елизавете, к кому иду. Она меня вычислила. Она позвонила наобум, но голос мой узнала наверняка. Вранье о враче и лекарствах стало очевидным. Но с другой стороны – какая разница? Это ли самое главное, разве она может быть на сто процентов уверена, что слышала именно мой голос? И точно: телефон снова зазвонил. Но дудки, больше не подхожу. Должно быть, ей крепко влетело от Шишнарфиева, что упустила меня, должно быть под страхом лишения наследства, он приказал ей найти меня. Но он зря волнуется: я сама позвоню ему – только несколько позже.
А сейчас мне надо выстроить по порядку толпящиеся в голове вопросы и постараться найти на них ответы. Но по порядку не получается – получается все сзаду наперед: меня всю от головы до пят, рождая страшную ломоту в суставах, заполняет уверенный ответ на один самый главный вопрос.
«Никакого кино нет и не будет, сценария не нужно. Не нужно никому моей писанины – это все блеф, это ловушка!»
Зачем Саша сообщил мне то, что тщательно скрывает от людей самых близких, самых преданных? Варвара предана ему так, будто ее несли в мешке топить, а он за рваный рубль ее выкупил. Он доверяет ей кассу – не только свою, но как выяснилось, и нашу, общую – кассу предприятия, стало быть, она во многое посвящена, но и от нее скрывает свое намерение не возвращаться и с бухты- барахты сообщает о нем мне. Зачем?
Единственный вопрос, который я все-таки умудрилась ему задать, – откуда он знает, что я именно тот человек, который ему нужен? Он видел – он не мог не видеть, как удачен его расчет, как быстро под шквалом обрушившихся на меня похвал я млею и таю и лишаюсь здравого смысла. Заметьте: это был первый вопрос, который мне было позволено задать, но к этому моменту я была уже подготовлена, он полностью сделал меня, завел, раскрутил мысли мои в заданном направлении и тут заговорил о необходимости поездок по стране! Вот оно! Минуточку, надо сделать перерыв. Есть еще один вопрос, на который нет ответа: если есть действительно сюжет и действительно есть заказчик – тот самый, что оставаясь невидимым мне, меня видел! – то, позвольте спросить, о какой свободе решений может идти речь?
Мне страшно в пустой квартире, меня колотит дрожь. Я иду на кухню, зажигаю газ под чайником, я пытаюсь крепчайшим чаем унять эту дрожь, но только начинает бухать сердце – оно слишком колотится в груди, мешает мне думать. Я шарю по полкам, по каким-то затейливым резным шкафчикам и наконец натыкаюсь на аптечку: три таблетки валерианки должны вернуть мне покой.
Интересно, к каким это людям я должна буду входить в доверие? К евреям, подавшим документы на выезд? К отказникам, который год, сидящем без работы? К тем, кто еще не решил, ехать или не ехать? Зачем мне вообще входить к кому-либо в доверие? Так. Ну, а теперь о каналах, которыми я должна буду пользоваться, передавая свою писанину, вам, Саша, туда, где никто не умирает от чириев на голове. Я, Саша, знаете ли, происхожу из семьи революционеров, конспираторов. Мне, Саша, известно, что затевая что-либо противозаконное, лучше не пользоваться услугами сомнительных людей. Я помню этот тогда насмешивший меня наказ Аблеухова дверь держать на цепочке и никому, «даже органам не открывать» – это был нешуточный наказ; раз он может служить «каналом» – какие уж тут шутки?
Поехали дальше: Флейш. Флейш мой друг. Флейш поэт. Жизнь его никогда до сих пор не была легкой. Но в последнее время что-то изменилось в судьбе Флейша – ведь сказал же он мне, что с ним заключили договор. Сказал как-то наспех, в дверях, как мне показалось с грустью, но эту грусть я легко объясняю чудовищной запоздалостью договора. А вот чем объяснить мне его настойчивый интерес в моему билету в Ленинград? Я уверена, он не поедет ни в одном купе со мной, ни в одном поезде, ни даже в любом другом – ему не надо в Ленинград (и чтобы эта моя уверенность не показалась абсурдной, сразу скажу: и не поехал!)
Но зачем он должен был точно, на память слуха не надеясь, запомнить номер вагона и место? Нет, вы только начните об этом думать, и никакая валерианка вам не поможет! Я возвращаюсь в комнату, вырываю из блокнота страничку с адресами, которые дал мне помолившейся за меня юноша, и жгу ее. Я ясно вижу себя в купе поезда, медленно причаливающего к ленинградской платформе, вижу входящих в купе двух стройных – Боже, до чего на Морковина похожих – мужчин и слышу спокойный голос одного из них: «Вам придется пройти с нами…»
Мальчик! Мальчик, читавший книги Пророков, мальчик, стоявший на коленях перед зажженной свечой в час, когда взошла звезда, и возносивший молитву к Господу Богу за всех грешных, неспокойных душой, ты все-таки верь мне: я сожгла все адреса, я не помню их и не смогу назвать, даже если меня будут пытать каленым железом!
А вот и сам по себе безобидный Джойс – это другое дело; Джойс-то он Джойс, а вот настоящий «ой-с!» немного пониже фамилии автора, впрочем случайно выбранного и заголовка книги – мелкими буковками название западного издательства с сельскохозяйственным уклоном, вполне оправдывающим пословицу: «Что посеешь, то и пожнешь»…
«Откуда у вас эта книга?» – слышу я вопрос, на который «откуда-откуда? от верблюда!» – не ответишь.
Неплохо придумано!
Да. Мне надо вам позвонить и сказать. Надо сказать, что в Малаховку мы завтра не поедем. Но встретиться надо. Я хорошо помню, что никто меня за язык не тянул – я сама дала согласие. Правда, я дала согласие писать сценарий, а тут… Я не знаю, что тут, но что-то другое… Нет, этого я не должна говорить. Я просто должна отказаться. И конечно, не по телефону. Сейчас я позвоню и смогу спокойно думать дальше. Номер занят.
«Но, минуточку – слышится мне ваш, Саша, голос, – с чего ты взяла, что Морковин? Что ты вообще о нем знаешь?»
Да, действительно: что я знаю о Морковине? Только понаслышке от Флейша.
– Это потрясающий человек! – говорил Флейш. – Полтора года назад он приехал в Москву из Ташкента и уже знает полгорода!
Он всем нужен! И можешь себе представить, у него уже есть в Москве квартира, ты помнишь квартиру оставшегося в Швеции.?.. Ты можешь себе представить: через полгода жизни в Москве получить трехкомнатную квартиру и центре города!
Потрясающий человек, – восторгался Флейш. – У него колоссальные связи!
– Но чем же он занимается?
– Он человек энциклопедических знаний. Невзирая на свою молодость. В наше время редко встречаются люди энциклопедических знаний, учти! Некоторое время он работал Ленинской библиотеке, но потом послал к черту это заведение с его нищенской зарплатой и теперь занимается книгами.
– В каком смысле?
– Ты задаешь глупейшие вопросы! Ну если бы я сказал: он спекулирует книгами – ты поняла бы меня? Но интеллигентные люди об интеллигентных людях так не говорят. В наше время многое изменилось, вы, жалкие провинциалы, не способны уследить за происходящими в жизни стремительными переменами… – тут я некоторое время не слушала Флейша, пустившегося в пространные и уже надоевшие мне рассуждения о том, насколько мы тут погрязли в тине провинциализма, в то время как они там…
Вот и все, что я знаю о Морковине. Нет, еще, мелочь, пустячок: он сказал, что Морковин женат, у него есть ребенок, нет, он женился не в Москве, он привез жену из Ташкента, а мать его жены – не отец, а именно мать – главный прокурор Ташкента. Вот теперь все.
«У него есть доступ к любому закрытому материалу… Ты сможешь через него получить любую выходящую на западе литературу…»
Спасибо, Саша, уже получила! И я снова, на это раз удачно, набираю номер. Голос Саши слаб, он утомлен процедурами. Интересуется, куда же я пропала. Он и сам думал, что в Малаховку завтра поехать не удастся – вряд ли он будет в состоянии сесть за руль. Но что произошло? Ничего? Вот и прекрасно, тогда завтра мы просто можем встретиться часов в пять. Нет, не раньше. Да, конечно, у Варвары.
Я пью валерианку, я хожу, как загнанный зверь, по комнате, снова и снова перебираю в памяти каждое сказанное вами слово.
Я вспоминаю почему-то горькосмешной рассказ друга моего отца о том, как в одной камере с ним сидел темнее чернозема крестьянин, от которого следооатель добивался признания в том, что он немецкий шпион. Крестьянин приходил с допросов с разбитым лицом и кто-то из сокамерников ему присоветовал: «Да признайся ты! Ну, пошлют тебя в лагерь, ну, будешь ты там вкалывать – так ты и так всю жизнь вкалывал, а все лучше, и бить не будут…»
И крестьянин согласился – действительно лучше. Но со следующего допроса он пришел битый пуще прежнего, и тут выяснилось, что признаться-то он признался, но на вопрос обрадованного следователя, как его завербовали, ничего лучше не придумал, как сказать: «Ну, значит пашу я у поле… А тут летак – у-у-у-у! – летыть и садыться у тут же на моем поле и выходыть из него маленький, черненький з вусиками – Гытлер! – и говорыть: «Будишь ты, Понас, у меня шпиеном!»
Ну тут следователь и не сдержался!
В самом деле: кто ж так вербует?! Чистая выдумка! Нет, вербуют иначе. Пришлось интеллигентным сокамерникам сообща придумать Панасу хорошую, настоящую версию о том, как его завербовали.
Так вот что, Саша, это я знаю: так не вербуют. Тем более интеллигентных людей. Интеллигентного человека, самое малое, надо сначала скомпрометировать, подловить на чем-нибудь, запугать, потом уж можно с ним разговаривать в открытую…
…А сейчас я лягу спать – вот приму димедрол, он на меня как снотворное действует – и буду спать завтра хоть до трех, просплюсь и к вам, любезный Шишнарфиев, и шиш вы меня получите!
И проспалась-таки! Влезла под душ и струей теплой воды вымывала из себя все лишние мысли. Мне сейчас единственное, что нужно – это твердо назубок вызубрить все, что я должна сказать – ни больше, ни меньше и ничего лишнего.
Перед выходом из дома я позвонила своей подруге. Я хотела поблагодарить ее за приют и сказать, что постараюсь сегодня же – все равно каким поездом – уехать, свой билет на завтрашнюю «стрелу» я решила сдать. И вдруг уже попрощавшись с ней, я сказала;
– Послушай, часа через два, самое большое, я выйду из дома, в который иду. Если я не позвоню тебе через эти два часа, подожди до утра и организуй розыск тела.
Я говорила это почти шутя, слова отлетали от моих губ легко, как лепестки шиповника, но по мере того, как длилось ответное молчание в трубке, смысл произнесенных мной слов доходил до меня во всей своей страшной нелепости.
Так же, как в прошлый раз, Шишнарфиев открыл мне дверь в пижаме и шлепанцах на босу ногу и слабым голосом сказал:
– Извини, я страшно устал, – но признаюсь, сквозь мою сосредоточенность не пробилось ни капли сочувствия. Единственная мысль стучала в виски; «Спокойно! Только спокойно!«Но на это раз все благоприятствовало тому, что я бы могла отдышаться, взять себя в руки и совершенно подготовиться к беседе; в квартире никого кроме меня и Саши не было. В момент моего прихода он разговаривал по телефону. Я прошла в ванную, оттуда слышала, как он кому-то называл содержание гемоглобина в крови, сказал, что белка в моче нет, эритроциты в порядке – словом я поняла, что на первый взгляд анализы его вполне благополучны, и это мне понравилось: больше всего на свете я боялась, что плохое состояние помешает ему уехать, навсегда исчезнуть из моей жизни.
Но когда я вошла в комнату, Саша уже лежал и совершенно непонятно зачем, делал вид, что читает журнал «Нева» с моим рассказом. Откладывая журнал, он сказал:
– Я далеко не сентиментальный человек, женскую прозу вообще воспринимаю несколько иронически, но черт возьми, тебе удается что-то такое задеть в душе, что я каждый раз не могу удержаться от слез!
«Так, – думала я, – еще одно доказательство, что он никогда никаких моих рассказов в глаза не видел, иначе не попросил бы кого-то (Морковина?) раздобыть ему уже не свежий журнал с моим единственным опубликованным рассказом».
Тянуть было нечего.
– Саша, – я подняла глаза и больше уже их не опускала: я сказала, что дала ему ответ, не воспользовавшись правом подумать, но я все-таки подумала и поняла, что я решительно не могу взяться за эту работу.
И тут я увидела, как багрояые пятна, выступив сначала на его яйцеобразной лысине, медленно расползаются по лицу. Если бы он сам увидел себя в эту минуту, он на всю жизнь дал бы себе зарок никогда ничем сомнительным не заниматься.
– Что случилось? – спросил он. Пожалуй, это был испуг.
– Ровным счетом ничего не случилось, кроме того, что я все обдумала и поняла, что не имею права связывать себя никакими обязательствами, тем более финансовыми. Ты уж прости, но тс двадцать пять рублей лежат вон там в прихожей, на столике, вложенные в книгу, которую я тоже принять не могу.
Что-то вроде ужаса мелькнуло в его глазах, улыбка не получилась иронической, я видела, что он пытается выправить ее и тут помог задребезжавший телефон.
– Видишь ли, я уезжаю, буквально через неделю и естественно нуждаюсь в средствах. Да, уж будь добр. Желательно все… – говорил он, как я поняла какому-то своему должнику. – Вот и хорошо, прекрасно.
Повесил трубку и, уже вполне владея собой, сказал:
– Итак, завтра у меня на две тысячи станет больше. Плюс твой четвертак – я богатею с каждой минутой! Но это безумие – ты меня просто режешь. Объясни все-таки…
И я объяснила. Я сказала, что никогда не умела работать по заказу, все равно какому. Потом я сказала, что я вообще очень скованный домом человек, пишу вообще очень мало из-за детей (я уже говорила ему об этом, и он снова напомнил мне об обещанном миллионе и своре гувернанток). Я объяснила ему, что с гувернантками жить не умею, что домработницы не держу не из-за крайней бедности, но не могу никем управлять, и всякая домработница быстро становится человеком, мной обслуживаемым, – и все это чистая правда – говоря только правду, я могла говорить убежденно и это как раз то, что нужно. И наконец я сказала:
– Есть еще одна причина, Саша. Видишь ли, я ужасно болтлива – и, видя как он опять покрывается этими жуткими пятнами, поспешно добавила: – Нет, чужие тайны я могу хранить, я просто о них забываю, но свои решительно не могу удержать в себе. Мне было бы очень тяжело жить такой таинственной жизнью.
Пока я говорила – на этот раз не вполне правду – я подумала; а ведь Саша ни на какую мою способность к конспирации и не рассчитывал, максимум, что ему нужно – это молчание до его отъезда, а потом сам род моей деятельности не будет требовать от меня уж очень большой тайны – ибо от кого же она, тайна? Те, кому надо, будут знать, чем я занимаюсь. Иначе он на меня не положился бы!
– Твое решение окончательное? – спросил Саша. – А не могла бы ты просто присылать мне без всяких условий, ну, все, что захочешь, все, что будешь писать, или уже написано?
Ей-богу, он так сказал.
Я ответила:
– Нет, это уж совсем бессмысленно. Решение мое окончательное.
И Саша встал.
– Рюмку коньяка хочешь? – он спросил так недобро, что впору было отказаться, но мне смертельно хотелось выпить, как никогда в жизни.
Он ушел в комнату Варвары, я слышала, как там открываются какие-то дверцы, звякает хрусталь – очень тихо было во всем доме; ни с улицы, ни из-за стен не доносилось ни звука, какой-то холодный зеленоватый полумрак разливался по комнате, освещенной только маленькой настольной лампочкой у кровати.
– К сожалению, – сказал Саша, все еще позвякивая чем-то там в комнате, – мне нельзя выпить, придется тебе одной.
– Да, конечно, – отозвалась я, но совершенно не ожидала, что он появится только с рюмкой в руке. Бутылка осталась там, в комнате.
И вдруг мне стало страшно. И тут же я почувствовала, что Саша знает, что мне страшно, что по его расчету мне и должно сейчас стать страшно, и теперь он холодно и недобро ждет: выпью я эту рюмку или вдруг откажусь? И что отказаться нельзя; он тотчас поймет, что я знаю больше, чем мне следует знать. И я выпила и, выпив, зажмурилась, и мысленно спросила свою подругу: помнит ли она о том, что если?..
И Саша тотчас расслабился. Он легко встал с края кровати, прошел в глубь комнаты и сказал откуда-то у меня из-за спины:
– Бывают же такие сумасшедшие люди, безумцы, для которых ничего не значат в этом мире материальные блага! – я обернулась и вдруг увидела: тот тревожный зеленый свет исходил от стоящего у стены электрического камина с искусственным костром. От дверей его загораживало кресло, но, повернувшись на придвинутом к кровати стуле, сразу можно было увидеть: Саша простер над неживым огнем руки и зябко потирал их, и они светились холодным мертвым светом.
И зеленоватый отблеск снизу ложился на лицо, искажая его, придавая ему шутовское сходство со всеми, кто перешел черту…
Все в комнате говорило о своей подлинности, сумрачным блеском старинной бронзы, массивностью, гармонией форм, бархатно и глухо говорило, что сотворено для вечной жизни, чуждо всему сиюминутному, преходящему, всему, что невсерьез. А этот искусственный костер и Саша над ним – они оба были откуда-то не отсюда, как из дурной постановки. И глухо, голосом уставшего актера Саша дочитывает кем-то плохо написанный монолог:
– Я никогда не мог вот так легко отказаться от любой возможности обогащения. Бедность унизительна, только деньги дают свободу. Но завидую безумцам, которым ничего в этой жизни не надо – им чужд мир материальных благ.
Не так уж и чужд, Саша, однако пора уносить ноги. И я встала. Мы очень трогательно прощаемся в прихожей, я желаю ему счастливого пути и полного выздоровления – я очень искренне желаю ему благополучно отбыть и, когда он будет там, откуда я стану недосягаемой для него, пусть он будет здоров и счастлив.
Что-то все-таки в нем есть, какая-то игра воображения… наверное в жизни такие люди тоже нужны, что-то они в нее вносят, какую-то острую ситуацию.
В последнюю минуту он напоминает мне:
– У меня к тебе одна просьба: кто бы, когда бы не интересовался, зачем я тебя вызывал, что предлагал…
Я хотела сказать; «держи дверь на цепочке». Но промолчала.
– … помни, я предлагал тебе работать над фильмом об истории еврейского театра… или над фильмом о русском модерне – словом, все что угодно.
– Конечно, Саша, – говорю я и сама открываю французский замок. Толкаю дверь, и она упирается в грудь стоящего за ней Морковина.
– Здрасте! – говорю я. – То есть прощайте! – и бегу вниз по лестнице.
Розыск тела отменяется. Я спешу к поезду, номер которого, час отбытия и прибытия мне и самой неизвестен…

Михаил и Виктория Беломлинские и Герогий Ковенчук в ркдакции «Невы». Середина 60-х.
СИЛА
На берегу неширокой реки, тихо несущей свои воды куда-то за пределы города, строители возвели большой, но несколько странный дом. Странность его заключалась в шестом, сплошь застекленном этаже, имевшем двойную высоту и по внутренней своей отделке, неподходящем под обыденное жилье.
Разузнав о назначении этого помещения, поставленные на отделочные работы столяры и штукатуры, бурно обсуждали, действительно ли разумно пускать такую огромную площадь под мастерские художников, в то время, как многие семьи в городе остро нуждаются в жилье. Одни говорили, что кроме баловства да безобразия это ничего хорошего не сулит, но другие с ними рьяно спорили. Их аргументы в споре были вескими, в них сказывались патриотизм местного жителя и тонкость чувств любителей искусства.
Большая часть жителей города повседневно трудилась на двух больших заводах.
На одном изготавливали телевизоры, а на другом настенные, настольные, мужские и женские часы разных фасонов.
Остальная же часть населения была занята тем, что создавала для этих тружеников жизнь полную смысла, удобств и развлечений. В центре города стоял большой вместительный театр. На его сцене, согласно расписанию, шли репетиции классических опер и оперетт и драматических пьес зарубежных и отечественных авторов, а балерины множество раз отрабатывали сложные партии намеченного к постановке балета. Спектакли шли в очередь, сменяя друг друга, и по вечерам театр всегда был полон людьми, проведшими день в тяжелом труде, а теперь спешащими утолить свой духовный голод.
Имелась в городе и телестудия. Подготовленные ее коллективом совместно с актерами и музыкантами, передачи смотрело каждый день множество людей, как в самом городе, так и в прилепившихся к нему колхозах и совхозах.
И уже вполне понятно, какое количество зрителей всех возрастов привлекали к себе кинотеатры, перемигивающиеся между собой неоновыми рекламами.
Конечно, для жизни каждого отдельного человека, созданный в этом городе Союз художников не имел такого значения, как театр, кино или телестудия.
А между тем, в городе жило несколько десятков художников: объединенных в Союз, разместившийся на одной неглавной улице, в первом этаже не очень уютного дома. Члены Союза художников тоже вливались в армию тружеников города, всесильно созидая его быт.
Посреди городского парка стоял памятник поэту – прославленному земляку.
Его вдохновенно глядящая голова виднелась еще из ворот парка, а подножие памятника утопало в цветах.
На главной же площади уже в послевоенное время был установлен памятник вождю трудящихся, окруженный вечно-зеленой растительностью. И тот и другой памятники были созданы местными скульпторами, и жители города не могли не ценить усилий
своих земляков влить красоту и вдохновение в их будничную трудовую жизнь.
Вот поэтому при окончательной отделке дома с шестым этажом под мастерские художников ворчунов удалось убедить в напрасности их ворчни. А что касается жилплощади, так еще много старых полуразвалившихся деревянных хибар предстояло снести, и на их месте выстроить высокие, удобные, каменные дома.
Жилую площадь кропотливо, по справедливости, соблюдая очередность, распределял между жителями Горисполком, а распределением мастерских между художниками ведал их Союз. Один шестой этаж одного дома не мог удовлетворить всех желающих, поэтому в Союзе было много споров и шума. Повседневно заседающая комиссия правления, в первую очередь стремилась предоставить мастерские наиболее заслуженным членам Союза. Получили их, например, и те два скульптора, один из которых создал памятник поэту, а другой вождю трудящихся. Правда, они были уже совсем старые, почти нетрудоспособные люди, но правление Союза считало себя обязанным воздать им должное за их несомненные заслуги, тем более, что оба они были люди многосемейные, имели женатых сыновей, замужних дочерей и шумливых внуков, а в старости хорошо бывает отдохнуть в тишине и полном покое.
Намеривались также выделить мастерские наиболее способной и обещающей молодежи, причем тут кто-то заметил, что особая потребность в мастерских у скульпторов, ибо лепить в жилой комнате невозможно, а писать прекрасные пейзажи еще даже лучше прямо на природе, и портреты передовиков сельского хозяйства тоже можно писать, выезжая непосредственно на поле. На это замечание живописцы отвечали очень резко, утверждая, что живопись входит в каждый дом и каждое учреждение, что в силу этого у живописцев работы по горло, от договоров нет: отбоя, а вот скульпторам – им попросту нечего делать: новых памятников в городе воздвигать как будто бы не собираются… Но эти споры прекратил председатель Союза, заявивший, что в этом году намечено и уже начинает осуществляться централизованное распределение заказов, и их будет очень много, в связи с надвигающимся всенародным праздником – юбилеем. Многим осталось непонятным выражение «централизованное распределение», и тогда председатель объяснил, что все имеющиеся на производстве монументальных скульптурных работ заказы, как-то; заказы: на надгробья павшим солдатам, памятники героям революции, коммунистического строительства и Отечественной войны, а также вождям трудящихся; и не только памятники, но и мозаики, барельефы, украшающие Фронтоны зданий театров, городских рынков и прочее – все эти заказы будут распределяться сначала в Москве, в Союзе художников СССР по всем отделениям,
и в частности, их городское отделение Союза будет получать свою часть заказов, и в свою очередь распределять их между художниками. После этого заявлениия председателя волнений поднялось еще больше. В прежние времена правление только для того и собиралось, чтобы разобрать какой-нибудь эдакий скандал, в коммунальной квартире, да распределить между собой творческое пособие и несколько путевок в дома отдыха.
И то сколько всегда было хлопот! А теперь и мастерские, и заказы со всех концов страны («Петр Самсонович, скажите, это что, например, и из Ташкента может придти заказ?» -«Может, ясное дело. Вот ведь пришел же из Сибири, почему же из Ташкента не может?» – «Вот это да-а!») и уж путевки-то по-прежнему надо распределять.
Да что говорить, и Союз вырос, каждый год идет пополнение, взять хотя бы сына преподавательницы музыкального училища Шустовой! Все думали, что он вообще помрет, до того был тщедушный мальчик, а он, поди ты, отправился в Ленинград, окончил институт Репина при Академии художеств, отделение скульптуры, и вот уже год, как вернулся в свой город и стал членом Союза.
Так или иначе, но распределение мастерских окончилось. Получили мастерские, как уже известно, два старых скульптора, несколько живописцев, и среди них одна женщина, создавшая много прекрасных, ласкающих глаз своей красочностью, натюрмортов из овощей, фруктов и всяческой другой снеди: свежей рыбы, бараньих туш, ощипанной домашней птицы и цветов. Получил мастерскую горлопан, напористый мужик, ему попробуй только не дай, скульптор Озеров.
Получил мастерскую и Андрюша Хаустов. Он оказался ближайшим соседом по мастерской с Озеровым, по одной лестнице, стенка в стенку.
Это и определило их дальнейшую творческую судьбу.
Теперь, когда с мастерскими было покончено, председатель Союза решил незамедлительно приступить к следующему распределению – распределению заказов, тем более, что сроки подпирали. К тому же кое-какие заказчики прислали своих представителей с тем, чтобы проследить, достаточно ли квалифицированы будут исполнители, и предостеречь их от желания пойти по пути халтуры, так как комиссия по приемке заказов будет состоять исключительно из московских и ленинградских мастеров изобразительного искусства.
Петра Самсоновича это все несколько раздражало. Он был человеком уравновешенным, уверенным в себе, в своем заслуженном авторитете, не нуждался в советах, умел сам принять решение.
Поэтому, охватив мысленным взором количество членов Союза, он отделил, опять же мысленно, скульпторов от живописцев, подсчитал количество скульптурных заказов, прикинул гонорарную стоимость каждого из них, и ничуть не смутился превосходством числа членов Союза над числом заказов. Он пришел к мгновенному решению, поразившему впоследствии всех своей справедливостью, создать творческие коллективы по выполнению заказов из двух-трех художников. А для того, чтобы не вызывать бесконечные, подчас бестолковые разноголосые прения по поводу того, кто с кем, кто что, Петр Самсонович мысленно же всех и все распределил.
По его соображениям, незачем было бы Звонцеву с пятого подъезда мотаться каждый день в первый к Крутову, когда Звонцов прямой сосед с Пряхиным и Сусловым, вот они и могут прекрасно взяться за барельефы для Пензенского городского рынка. Крутов, правда, по подъезду имеет соседкой даму – мастера натюрморта, но зато во втором мастерская его дружка Сахарова, так что надгробье павшему солдату прямо им. «Только бы не запили… ну да черт с ними… А этот..» – Петр Самсонович скривился, вспоминая, как настойчиво представитель неизвестного ему по картам, строящегося на Северо-Востоке страны, города, требовал, чтобы их заказ выполнялся непременно выпускником института Репина или Суриковского училища «…как будто это гарантирует талантливость исполнения?..».
– Ну что ж, пожалуйста: Хаустову и, – тут Петр Самсонович слегка передернул плечами, как бы отметая последние сомнения, – и Озерову. Ради бога, вот вам и Репин и Суриков – оба сразу! Опять же, соседи…
Там, где возвысилось новое шестиэтажное здание, берега реки одеты в бетон, украшены, чтобы преодолеть их с кучность железобетонными фонарными столбами, заканчивающимися затейливо изогнутыми металлическими стержнями, на концах которых сквозь плоские плафоны светят лампы дневного света. Холодно освещают они расставленные вдоль набережной скамейки, тоже от скуки, раскрашенные в разные цвета, и сиротливый ряд кругоголовых лип. Но зато дальше течет река, ничем не стесненная, в ее ласковых водах свободно отражается зелень то отлогих, то обрывистых берегов. Густо сбившийся непроходимый ивняк распустил по воде тонкие длинные прутья, как бы не довольствуясь влагой, обильно питающей его корни, а стараясь всей ненасытной плотью своей вдохнуть мягкую речную прохладу. Сочные покосные травы радуют глаз городского жителя, напоминая ему о плодородии здешних земель, внушая покой и уверенность в будущем. И хотя все понимали, что надо бы и дальше от моста, тоже бетонного, тоже украшенного загогулинами фонарей, одеть набережную в асфальт и бетон, как-то это все оттягивалось, и все радовались этому замедлению…
Из окна своей мастерской Андрюша Хаустов наблюдал по вечерам, тревожащий душу, закат на реке. Солнце уходило в излучину реки, как бы нехотя, как бы отчаянным своим гореньем споря с уже появившимся призрачным очертаньем луны.
– Слабая! Не можешь! – кричало солнце луне. – Не можешь!
А я могу, посмотри, я полный день светило не жалея сил! А сколько их еще у меня| Гляди, сколько у меня еще жару: все от меня полыхает – и зелень горит, и воды зажглись, и людям я могу еще дать тепла… могу, слышишь, могу!.. – вскрикивало оно последний раз, но ничего не могущее более, пустое и легкое, опускалось в излучину.
Андрюша стоял еще у окна, прижав лоб к разгоряченному стеклу, а потом ощутив духоту, распахивал его, жадно вдыхал прохладу внезапно смеркшегося дня.
Ушедшее до нового дня солнце уносило с собой все дневные думы, и в наступившей тишине Андрюша еще немного любовался видом расцвеченного новыми огнями города. Вот там, за мостом, на другом берегу, тянется прямая широкая улица, и от нее разлетаются в разные стороны переулочки, как от сильного ствола разметавшиеся сучья и молодые побеги.
В одном из этих переулков среди невидных из окна мастерской приземистых облупившихся домишек, притулился и его, с какого-то не младенческого, но раннего возраста ставший родным дом. В доме всего два этажа; в нижнем расположен магазин канцелярских товаров, в котором маленький Андрюша покупал свои первые цветные карандаши и коробки с разноцветными палочками пластилина, а во втором, в коммунальной квартире, одной из семи квартиросъемщиков, является Лидия Николаевна Фаустова.
Вплоть до самого возвращения Андрюши из Ленинграда Лидия Николаевна преподавала в музыкальном училище игру на рояле. Но к тому сроку, когда Андрюша защитил диплом, застаревшая катаракта на обоих глазах окончательно застлала от нее божий свет, и работу пришлось оставить. Этому минуло уже больше года, но ослепшая мать все продолжала радоваться, что все-таки дожила, осилила, преодолела недуг, на все время пока учился ее сын, и сумела поддержать его материально в студенческой жизни.
Теперь, когда слепота оградила ее от множества повседневных, суетных дел, она подолгу просиживала у раскрытого рояля, время от времени перебирая одряхлевшей рукой клавиши и предаваясь воспоминаниям.
Отнявшая у нее, на все оставшееся время зрение, жизнь, ни в какие сроки
не была к ней ни слишком ласкова, ни слишком добра. Лидия Николаевна минутами искала этому объяснение, пытаясь уличить себя в какой-то большой вине перед жизнью, но мысленно перебирая содеянное, такой вины не находила. И тогда она говорила себе:
– Нет, я ни в чем не виновата. Да, жизнь вовсе и не хотела меня наказать…
Если бы все, что падает на долю человека в его долгой жизни, он принимал бы, как наказание, откуда бы он брал силы вытерпеть и пережить?.. И откуда бы он брал силы радоваться еще, смеяться и растить новую жизнь?..
– Если бы я верила в наказание, разве я смогла бы жить, когда не стало
Мирона и Ярослава?
– Нет, не смогла бы…
…Андрюша хорошо помнил своего отца. И старшего брата тоже…
Мирон, отпрыск бродячего цыганского рода, дал жизнь двум сыновьям: старшему Ярославу и, за три года до войны – Андрюше.
Любовь студентки Ленинградской консерватории Лидии Николаевны и медика Мирона, вырванного из жизни табора революцией, для всего лучшего в этом мире, слилась в единый звук старенького рояля в Лидочкиной комнате, где-то на Подьяческой улице, и цыганской скрипки, с которой не расставался Мирон, и которую по сей день хранит Лидия Николаевна, Эта скрипка – вот все, что мог получить в завет от отца Андрюша, да еще смуглость лица и огромность глаз.
Сын Ярослав, росший подле отца, был и лицом и характером больше в мать, но в отца – рослый и плечистый. Они погибли в один год, и отец и сын. Уже эвакуированная в город, в котором живет и поныне, Лидия Николаевна одну за другой получила две похоронки. В одной говорилось, что майор медицинской службы Мирон Константинович Хаустов, делая под огнем противника свое геройское дело, пал смертью храбрых, а в другой сообщалось о том, что оборвалась как скрипичная струна, самая тонкая и нежная, жизнь славного солдата Ярослава Мироновича, девятнадцати лет от роду.
А Андрюше шел шестой год.
Голосу не хватало силы для крика, и слезы перегорели в глазницах, жгучей солью разъедая веки.
Мать растила сына, вырывая его тщедушное тело, то из желтого огня кори, то из мучительного скарлатинного бреда, и только поставит на ноги, порадуется первым шалостям живого сына, как тут же свалит его дифтерит, а за ним свирепый сыпняк. Самыми светлыми были дни, когда болезнь оставалась позади, и, сидя на постели, по-турецки подогнув голенастые ноги-прутики, Андрюша с первым аппетитом проглатывал две-три ложки бульона из, чудом как, раздобытого цыпленка. Окрепнув настолько, что переставали дрожать ручонки, Андрюша просил мать перед уходом на работу положить ему у кровати бумагу и карандаши. Потом, с возрастом, Андрюша, все так же много болевший, занимал долгие часы материнского отсутствия, вырезая из подобранной возле печки деревянной колобашки, подаренным матерью перочинным ножом разные фигурки, то человека, то какой-нибудь другой живой твари.
Годам к тринадцати Андрюшино умение резать по дереву принесло ему первую славу, а матери новую жестокую заботу.
Только что расцветающая послевоенная жизнь еще мало давала себя знать в этом, захолустном тогда, городе, а текла какое-то еще время, по-прежнему заполняя его главную площадь сутолокой стихийного базара и барахоловки. Здесь-то с утра до сумерек и толпились городские мальчишки, всегда готовые обчистить чужой карман, подобрать, что плохо лежит, затеять свару, а в запальчивости ловко вывернуть припрятанный в рукаве нож. Нож должен был иметь каждый, раздобывались они всякими, известными только одним мальчишкам путями, а вот рукоятки к ним из ольхового сука резал, как никто другой, худосочный Андрюша Хаустов, по прозвищу «Цыган». Его умения и фантазии хватало на десятки таких рукояток, снабженных то затейливым орнаментом, то изображением двух сцепившихся в схватке барсов, или кого-то вроде барсов, то вдруг рождалось очертание головы коня, а по всей рукоятке заплеталась его разметанная грива.. Выросшие в безласковости войны дети, легко добирали сказочность детства, и тянулись ко всему, от чего веяло загадкой и непостижимостью вымысла.
Искусство Цыгана придавать простому ножу подобие настоящего пиратского кинжала, снискало ему почет и уважение. Он стал своим человеком на базарной площади, и даже враждующие между собой ватаги оставляли за ним право соблюдать нейтралитет И хотя Андрюша был одним из немногих мальчиков, регулярно посещавших школу, у него хватало досуга, между занятиями и обязательной резьбой ножевых рукоятей, мотаться по базарной площади в свите отчаянных огольцов, извергая цветистую брань, сплевывая сквозь зубы, горланя разудалую воровскую припевку. Его узкоплечая фигурка по-блатному сутулилась, шея как бы в поисках добычи вытянулась вперед, а в лице обострились цыганская горбинка носа и резкий разлет ноздрей.
Глядя на своего сына Лидия Николаевна сжималась от страха, не радуясь, узнавала в его чертах молодую свою любовь – Мирона, и еще больше пугалась, ощущая всей плотью, цыганский стремительный бег сыновьей крови.
В городе уже открылось к этому времени музыкальное училище, и Лидия Николаевна, всю войну работавшая воспитательницей в детском саду, с первых дней открытия училища перешла туда на преподавательскую работу.
Но не ее благоприобретенные познания в педагогике подсказали ей путь к спасению сына, а только материнское скорбящее сердце…
Андрюше шел четырнадцатый год, когда однажды мать изловила его на базарной площади, приволокла за руку домой, бухнулась пред ним на колени и, простирая к его ногам, выхваченные из сумочки, заработанные деньги, умоляла брать их у нее, и только у нее, брать все, ни о чем не думая, сколько ему захочется, сколько есть, но только не брать чужого. В жестокости четырнадцати лет нет ни разумного, ни закоренелого, и поэтому она беспредельна и непоследовательна. Теперь, когда мать, уходя на работу, оставляла все деньги на обеденном столе, Андрей спокойно проходил мимо них к входной двери, но когда ему однажды пришла идея купить продававшееся по случаю охотничье ружье, он взял со стола всю месячную зарплату, все, на что надо было жить им двоим, и ушел из дома.
Исчезновение денег для Лидии Николаевны не было неожиданным ударом. Она все время ждала, что это случится, но не думала, что сын возьмет сразу все, и не придумала загодя, как же в таком случае существовать. Пару дней они перебивались как могли на домашних запасах.
По ночам, уставившись в потолок, Лидия Николаевна тихо переговаривалась с Мироном. Память души никогда не разлучала ее с мужем, и во всякую минуту жизни она могла говорить с ним, требуя помощи, советуясь и делясь. Так, обсудив с ним положение, она собралась наутро, когда Андрей уже ушел в школу, обтерла бережно сырой тряпкой футляр, еще раз приложилась к нему осунувшейся щекой и печально вынесла из дома скрипку. Больше во всем их с Андрюшей хозяйстве продавать было нечего.
По базарной площади Лидия Николаевна шла, вся съежившись от стыда и боли. Она все не решалась остановиться и раскрыть футляр, предлагая свой товар вниманию публики.
Наконец, на дальнем, почти пустынном углу площади, она остановилась, ругая себя за робость и нерешительность… И в этот самый миг она услышала хриплый, не по-детски, но до отчаянья родной зов:
– Мама! – Андрюша стоял перед ней и смотрел на скрипку напряженно, не то соображая что-то, не то вскидывая в своем мозгу какую-то давно забытую память.
– Мама! – сказал он еще раз и положил руку на скрипку.
Где и когда он усёк ее взглядом и сколько он шел за ней по пятам, и почему он не в школе, а здесь – все это пронеслось в ее голове и смерклось тут же. Завороженно они оба глядели сейчас на скрипку, каждый вымеряя свою вину перед памятью отцам, и в кровной любви мать выгородила сына, приняв всю вину на себя. Как смела! Как могла подняться ее рука?
Слабая, жалкая, глупая мать!… До чего же ты дальше-то дойдешь?! – кричало ее сердце, и она склонила голову, не удержав в глазах большие горючие слезы…
Они медленно шли домой не через базар, а другими улицами шли медленно и молча, и только дома Андрюша, выкладывая из кармана почти не растраченные деньги, с мужским мужеством и прямотой, сказал:
– Мам, я на десять рублей дроби купил, а ружье – не успел… Ты больше не оставляй денег на столе – мало ли, пожар случится…
Зарожденное в тот день ее отчаяньем, сознание ее женской слабости и его мужского долга разросталосъ в Андрюше, отрывая от мальчишеских ватаг, и все ближе родня с матерью. Это было сознание равенства и дружества, и оно вернуло матери сына, и сколько светлого принесло ей в остатке жизни!
По-прежнему сутулый, до невозможности худой, он мужал духом, с каждым годом все более раскрываясь ей и становясь понятней. Его душа теперь уже целостно отданная искусству, находила в сердце Лидии Николаевны полный отзвук.
Долгими вечерами они могли говорить о любимых поэтах, и открывая Андрею тревожную тайну поэзии ее молодых лет, споря с сыном о музыке, о родственности мышления образного, звукового и пластического, Лидия Николаевна вновь и вновь переживала вдохновение своей молодости…
Нет, она не могла, старая теперь и слепая, думать о жестокости жизни, ибо и тогда, раньше, многие годы назад, радостно променяла бы реальное очертанье предметов на счастье созерцать незримое: жизнь уже утраченную в будущей – себя в сыне своем, отца в сыне своем, брата в брате; на счастье познать слияние духа, на счастье познать природную цель жизни…
……………………………………………………………..
Где-то на Дальнем Северо-Востоке страны строился и хорошел, город.
В климате, неуютном для шумных радостей и бурных страстей, жители этого города решили воздвигнуть наперекор всему большой стадион. В зимнюю непогоду, в его обширном зале, будут они меряться силой в борьбе и беге, в ловкости и бесстрашии.
Стекло и бетон оградят их нагие тела, упругие и пружинистые, от злобности стужи, а мягкий, не здешней теплоты, воздух, будет ширить легкие, а глаз радовать созданные вдохновеньем неизвестных им доселе скульпторов Андрея Хаустова и Геннадия Озерова барельефы протянувшиеся вдоль всей стены зала…
– Нет, – думал Андрюша, глядя на расставленные доски, – они не должны быть скучными. Они должны быть для людей легких и веселых, чтобы глядя на них, люди еще больше любили бы крепость и красоту своего тела. Экое создание – человеческое тело: чем оно прекраснее, гармоничнее, тем больше ловкости и силы в нем заложено. Как это все замечательно понимали древние.., как они умели это воспеть!.. А теперь все больше прячут художники человеческое тело под разного рода одеждами. Вон Озеров Генка, так тот успокоиться не может, каждый день, как приходит, так сразу в истерику: «Давай, Андрей, оденем их, к черту!”… Не пройдет так…» Почему? Разве, когда лепит человека художник, или рисует, для него важно, что на этом человеке надето? Или, может, только он сам, его душа, жизнь в нем заложенная – важна!
В нем и в тебе – художнике! А ты, Озеров, не трусь, примут… Я секрет такой знаю, что примут…
Андрей вспомнил про «секрет» и усмехнулся. Это он, конечно тогда, уговаривая Озерова, лишку хватил, уговаривал, как ребенка. Но с другой стороны, выхода не было: Озеров начал такое загибать поначалу! Они долго спорили, потом решили представить на утверждение худсовета оба эскиза: каждый свой делал самостоятельно.
Глядя на эскиз Озерова, Андрюша мучительно щурился.
– Чего щуришься, Хаустов, – огрызнулся Озеров, – думаешь не пройдет?
– Да, нет, Гена, я так… Смотрю вот и понять не могу; ну, пройдет, ну, не пройдет, а тебе-то самому нравится, а? Или, может и самому не нравится, а просто уже привык к такому…
– К чему «такому»?
– Да вот к этому – звонкому и пустому, а главное ведь что: не человеческому, не искусному… Ты вот подумай: конечно, с одной стороны, ты можешь вроде как бы изобразить труженицу полей, бабу со снопом колосьев, и добытчика черного золота, шахтера, якобы, это по его одежде будет видно… Но с другой стороны – человека нет, а есть только его амуниция да причиндалы – сноп, да бурильный молоток. И то мертво, и люди не живут… Вот я и боюсь: может они-то свое дело хорошо делают, а ты как бы плохо…
– Даешь, Хаустов! Я плохо, а ты хорошо?
– Не знаю. Вернее, я-то уверен, что хорошо и так думаю, это и людям понравится. Как-то верю, это понравится…
– Ладно, замнем, пока. Нас с тобой худсовет разберет…
Худсовет разбирал долго и нудно. Кто-то говорил, что безобразно и непростительно выставлять советских людей в голом виде, как будто у них нет одежды, и потом, совершенно непонятно, куда они стремятся, эти голые, летят, парят, в каком-то уму непостижимом сплетенье?.. Говорили, что бессюжетно и даже, если хотите, абстрактно это все, тогда как у Озерова – конкретная реалистическая композиция, правда, надо еще поработать, найти, решить, главное – в самих фигурах что-то нащупать. Но, во всяком случае, если думать о дальнейшей совместно работе, то уж, конечно, за основу надо брать эскизы Озерова..
Но раздались и другие мнения, тоже уверенные и бесповоротные. Их авторы убедительно и с наскоком говорили о высоком назначении искусства воспитывать эстетически, сеять вдохновение, подымать человека в его собственных глазах, а не унижать недоверием к возможностям его восприятия. Искусствовед Консовский (тайная гордость с Союза – еще бы свой, знаете ли, критик, имеет в Москве изданные брошюры»…), говорил о работе Хаустова так красиво и страстно, что невольно захватил аудиторию, и многие почувствовали в себе немедленную потребность вот сейчас же безотлагательно начать творить прекрасное, высшее, во веки веков, для человечества. Минуту такого духовного подъема пережил и Петр Самсонович. Находясь всем сердцем сейчас на стороне Хаустова, он с раздражением взглянул на понурившегося Озерова, перевел взгляд на его эскиз и с болью подумал: «да, дал же я маху: не надо было их вместе-то. Надо было Озерова третьим к Нряхину с Сусловым» – но тут Петр Самсонович вспомнил, что к Пряхину с Сусловым он подключил уже Звонцова, и вообще, нечего всякие пepемены тут устраивать: Хаустов тоже, чего доброго, зазнается…»
И Петр Самсонович сказал:
– Ну вот что, друзья! По моему вся ясно, – хотя полной ясности он сам не ощущал, – мы все знаем наших молодых коллег и верим им. Но можем кое-что и посоветовать: надо работать, работать и еще раз работать. Андрей Миронович в свое время блистательно защитил диплом в Ленинграде. Мы имели удовольствие читать о его дипломной работе в центральной печати. Гордимся тем, что сделанное им, как дипломная работа, надгробие великому русскому композитору установлено в городе, который весь мир считает сокровищницей русской культуры, – Петр Самсонович говорил, увлекаясь все больше, а тем временем в нем прояснилось и крепло решение. – Он уже, так сказать, показал себя зрелым мастером. В свою очередь, в тебе, Геннадий Михайлович, зреет тоже не малой величины художник. И не зазорно будет вам друг у друга поучиться, тем более, что работа в коллективе воспитывает. Думаю, мы окажемся правы, приняв эскиз Хаустова, с учетом того, что в дальнейшей совместной работе он наполнится дыханием реализма, свойственного творчеству Озерова. И пожелаем нашим молодым художникам большой удачи!
Петр Самсонович, ты хотел только хорошего и, в сущности, тебя не в чем винить…
Незаметно для Андрея отгорело и погасло бабье лето. Пошли удручающие душу дожди, но и их Андрей не заметил. Ему некогда было чувствовать перемену в природе. Солнце еще не успевало вползти на небо, как он уже поднимался на ноги,
Кое-как перекусывал и шел через мост, в мастерскую. В осенней прохладе
ненаступившего утра, его щуплая ссутулившаяся фигура казалась не то детской, не то вовсе старческой. Его одежда давно уже требовала полной замены, волосы отросли и спутались на концах, но все, что не касалось работы, откладывалось им напотом, когда работа будет закончена.
Единственные минуты отдыха и то не полного, не мысленного, а только физического, наступали, когда е мастерскую невзначай забегала Галочка.
Она звонила два коротких раза, и каждый раз Андрей на секунду вздрагивал сердцем, но тут же упрекал себя в этом, делал над собой усилие, обчищал с рук глину и шел открывать.
Когда-то Галочка была маминой ученицей, и часто наведывалась к Лидии Николаевне то за нотами, то за советом, а то и просто в гости. В последний год перед Андрюшиным отъездом в Ленинград, эти визиты участились и когда Андрюша шел ее провожать, Лидия Николаевна с особой теплотой целовала нежный лоб девочки, приглашая непременно заходить и завтра и послезавтра. И она непременно приходила, и только один раз не пришла – в день отъезда Андрюши.
Его отъезд показался ей несправедливым, обидным для нее. Эгоизм проросшей в ней женской любви требовал для себя первого места в сердце любимого человека, порождал неосмысленную ревность, несуществующее соперничество, и обидность поражения.
Вернувшись в свой город, Андрей встретил как-то Галочку неподалеку от своего дома. Она по-прежнему имела вид юный, и если Андрей за эти годы загрубел и окончательно сгорбатился, то она не утратила ни стройности фигурки, ни нежности лица, несмотря на то, что за руку ее держал двухлетний карапуз, переваливающийся на толстых растопыренных ножках. Вт встреча смутила обоих, хотя каждый из них впоследствии признался, что ждал ее и по-своему к ней готовился.
Поскольку тогда, перед отъездом, Андрей не произнес каких-то важных для любви слов, каждый из них мог теперь сделать для другого вид, что ничего кроме юношеской дружбы их не связывало, а значит, не было ничего, что могло бы эту дружбу нарушить.
И вот теперь иногда, правда, очень редко, Галочка коротко нажимала звонок у двери мастерской; и Андрей встречал ее с лицом, озаренным какой-то особой ласковостью.
– Ты только, Андрюша, не отвлекайся, – смиренно говорила Галочка, свыкшаяся с пережитым поражением, – я на антресоль пройду и просто посижу там…
– Я устал, мне отдохнуть надо. – И действительно, он ощущал в эти минуты усталость и потребность в отдыхе.
– Ну, посиди со мной…
По шаткой деревянной лестнице друг за другом они подымались на антресоль, устроенную в части мастерской заботливыми строителями для отдыха художника или для какой-нибудь другой нужды.
Там они усаживались друг подле друга на старый, поставленный на ножки матрас, и некоторое время в стеснении молчали. Всякий раз Галочка, не зная, что ей еще делать, брала в руки одну из разбросанных по матрасу и на полу книг и начинала задумчиво перебирать страницы. Иногда это оказывалась книга знаменитого путешественника о диковинных морских животных, иногда рассказ о последних днях фашизма, иногда что-нибудь из созвучной времени художественной литературы, а чаще всего это оказывались стихи. Бывало, заработавшись далеко заполночь, Андрей и вовсе не шел домой, а забирался на антресоль, чтобы остаток времени провести на ничем не покрытом диване, а так как сон не всегда приходил сразу, Андрей еще некоторое время читал, и поэтому множество уже прочитанных им книг было разбросано по антресолям. Его любимые поэты, вмещенные в однотомные издания, находились здесь постоянно, и когда Галочка брала один из этих томов в руки, Андрюша, отвлекаясь от своего волнения, вспоминал любимые стихи, и тихим голосом с хрипотцой начинал читать, только изредка перебивая свое чтение словами: «А вот еще…»
Он читал стихи прекрасно, не нарушая их поэтического строя, всей душой откликаясь на каждый музыкальный тон стиха.
В эти минуты Галочке казалось, что из мира обыкновенного и скучного она чудесным образом перелетала в мир, полный прекрасного, таинственного и необычного.
Сквозь тонкие перильца антресолей она разглядывала воспарившие в прыжке, устремленные в беге, то натянутые струной, то изогнутые, чтобы взвиться, прекрасные тела на установленных в работе досках, а слух ее ловил высокие слова, воспевающие все человеческое: непознанную страсть, сокрушающую душу тоску, земное место радостей, горестей и надежд…
Более всего Андрей боялся в эти минуты прихода Озерова. Открыв своим ключом дверь, он входил размашисто, по-хозяйски останавливался посреди мастерской, оттянув резинку тренировочных брюк, звучно хлопал себя ею по животу и нарочито громко кашлял, будто полагая, что только этим дает о себе знать.
– Пардон, – говорил он затем, -я, кажется, не вовремя.
– Что вы, что вы, Гена! Здравствуйте, – лепетала подскочившая к перилам Галочка.
– Я ухожу, мне пора… – И мелко перебирая ногами, сбегала вниз.
Проводив Галочку, Андрей снова принимался работать, мысленно поругивая Озерова и удивляясь ему.
Удивляться было чему.
С этого самого худсовета, на котором им, в конечном итоге, пожелали больших успехов в работе, Озеров, с одной стороны, как бы сник, проявляя нарочитое равнодушие и предоставляя Хаустову полное право работать, как ему хочется и сколько хватит сил. Появляясь в мастерской время от времени, он добровольно принял на себя кое-какие тяжелые обязанности подсобника в работе скульптора – то глины натаскает и приготовит ее, то доску сколотит и зальет, оставляя за собой при этом некий хозяйский тон, как будто он нанял Хаустова и заказал ему сделать работу хорошо.
– Смотри, Хаустов, скотиной будешь, если провалимся, – говорил он, усаживаясь на табурет позади Андрея, – сам будет расхлебывать, если не примут…
Охваченный вдохновеньем, Андрей радовался свободе и не раздражался на его слова, а легко шутил в ответ:
– Со скотины, Гена, какой же спрос? Спрос с того, кто погоняет…
– Ну, ты это брось…
Со временем в жизни Озерова произошло событие, которое вовсе отвлекло его от работа: от него ушла жена.
Два года назад он женился на балерине из здешнего театра но что-то не сладилось в
их совместной жизни, и вот она его покинула. Все, что знал об этой истории Андрей, он знал из путанных слов Озерова, который, приходя теперь в мастерскую, только об этом и говорил, начиная, впрочем, иногда издалека:
– Вот, Хаустов, смотрю я на тебя и понять не могу: и что это бабы в таких, как ты, находят? И сам-то ты весь крючком, и нет в тебе этого, знаешь, ну, мужицкого, и е голове у тебя все наперекосяк. Ну что, ты мне скажи, что может в таком, как ты, привлечь женщину?
– Гена, ты что! Таня ведь не ко мне ушла. Ты что на меня тянешь?
– А! Тянешь?! Нет, я на тебя не тяну. Мне на тебя плевать. Я о другом думаю…
– Озеров вымерил тяжелым шагом из конца в конец мастерскую и вдруг, остановившись подле Андрея, закричал ему в ухо:
– Я о ней, суке!.. Она… еще пожалеет! Ты помяни мое слово: пожалеет! По ночам зубами скрипеть будет! Вспомнит меня… Локти кусать будет… Но нет, поздно… поздно! Озеров не простит.
– Чего ты орешь! Еe-то здесь нет. И потом, почему ты думаешь, что она будет исключительно «по ночам зубами скрипеть»? Может, она как-нибудь днем по тебе заскучает…
– Почему по ночам, говоришь, – совсем обалдевший Озеров вдруг схватил Хаустова за грудки, отвернул от станка и, уставясь ему в лицо бешенным глазом, дохнув перегаром, сдавленно за шептал:
– Потому, что я баб знаю, натуру их знаю: днем им разговорчики подавай, там всякое… стишки наподобие… да ладно – я тебе, говорю, знаю! Только мне не к чему это… А вот ночью ей мужик нужен, да чтоб… – тут Озеров совсем приник к Хаустову и выдохнул ему в лицо всю грубость своего жизненного убеждения.
– Нет, скажешь? Я знаю, ты-то «нет» скажешь… – он отпустил Хаустова, и тот сразу же повернулся к станку. – И чего я с тобой говорю, когда ты сам стишками пробавляешься…
– Заткнись, Озеров, – через плечо огрызнулся Андрей, работая стеком, – По-моему, у тебя сексуальное помешательство. Эротомания. То, что ты говоришь, ненормально, ты обратись к врачу. Этим вопросом занимаются сексологи.
– Чего? Чего ты мне мозги пудришь?
Озеров, выдохнувшись, снова уселся на табурет, – И нравится же вам словами человеку душу мотать, ей-богу. А я художник, понимаешь – художник! А художник, известно, как собака…
– «Все понимает, а сказать не может»?
– Точно! А ты вот только и можешь тары-бары разводить. Это в тебе от слабости, весь твой выверт от слабости. Плевать я на это хотел…
– Ну, Озеров, однако, собаки обидятся, сколько ты наговорил сегодня…
– Ну тебя… Хаустов… Пошел ты…
И откинув в сторону табурет, Озеров закончил этим свое изнурительное для Андрея присутствие в мастерской.
Тяжело вынашивает скульптор замысел, сладостно и запойно воплощает его в жизнь, по-деловому мастеровито переводит в гипс. И может быть, только когда начинает работать над камнем, постигает он величие своего назначения. В тяжелом труде каменщика познает веками утвержденный пафос содеянного им.
Камень есть вечное, не подверженное течению времени, и если ты не уверен в принадлежности твоего детища другим временам, не берись за него.
Слишком тяжела эта работа для бесплодного усилия.
Но в камне, ваятель, величие твоей жизни, твоя слава в веках…
С восхода солнца до заката рубит Андрей розовый искрящийся гранит. Рубит исступленно, заматерев в тяжести своего труда, забыв о том, что есть воздух слаще того, смешанного с гранитной пылью.
Где-то в других безрадостных временах остался заказ для сибирского города, щедрая похвала приемной комиссии и подлое предательство Озерова. Пожалуй, только едкое недовольство собой разъедает временами душу. Но Хаустов не знает толком, отчего оно просочилось: отчасти оттого, что работа ушла, непоправимо сбыта с рук, а теперь вот кажется, что-то не так в ней, не дожал, не сумел преодолеть себя; отчасти, просто остался осадок от пережитых волнений, от того, как сдавали нервы, как просил в последний день Озерова помочь, не предать, а тот предал…
К тому дню, на который была назначена приемная комиссия, почувствовал Андрей крайнюю усталость и полное нервное изнеможение. И за все время единственный раз обратился он к Озерову с просьбой:
– Гена, – сказал он жалко и бессильно, – ты уж будь человеком, завтра не пей, а давай как-нибудь помоги сдать-то. Поприсутствуй хоть…
– Ну а что ж я, не приду что ли!? – отвечал Озеров, но что-то в том, как говорил Хаустов смертельно испугало его. Не душевной усталостью, не слабостью нажитой в утомительном труде, а неуверенностью и сомнением отозвались в нем слова Андрея.
«Ну нет, заварил кашу, сам и расхлебывай!.» – пронеслось в его голове.
Два молодых, коротко стриженных, крутолобых, с хорошими лицами, представителя сибирского города (один из них оказался архитектором стадиона, а другой из горкома партии) прибыли в сопровождении большого худсовета из прославленных московских и ленинградских художников. Имена их до крайности взволновали Хаустова. Особенно благоговел он перед женщиной-скульптором из Ленинграда. Он высоко ценил ее творчество и нервно переживал свой предстоящий экзамен перед этим, не могущим простить ни малейшей фальши, художником.
Вошли в состав приемной комиссии и Петр Самсонович, и доброжелательный искусствовед Консовский, и два уважаемых городских ваятеля.
Хаустов пришел в мастерскую спозаранку и непрерывно нервничая, ждал, как утешения, прихода Озерова.
Работа была закончена, доски расставлены для обозрения, и не подымая до них рук, Хаустов все ходил по мастерской, то взглядывая на часы, а то взбирался на антресоль и в изнеможении бросался на диван, устремляя в потолок бледное осунувшееся горбоносое лицо. Он все ждал, что вот сейчас придет Озеров и тоже будет волноваться, а ему, Хаустову, придется говорить спокойные утешительные слова, и тогда на самом деле он успокоится и вернет себе необъяснимо утраченную уверенность.
Но Озеров не пришел.
На лестничной площадке раздалось множество голосов, и в дверь позвонили. Хаустов сбежал с антресолей и впустил в мастерскую прибывших судей. В тот момент, когда они переступили порог, вежливо здороваясь и представляя друг друга, вернулось к Андрею спокойствие. Но это спокойствие не было равнодушным или отчаянным. Оно пришло вместе с вдохновением, которое, должно быть, испытывает актер, мастер своего дела, наконец, вступив на сцену и представ перед открытым лицом зрителя…
А в это самое время Озеров, долго колеблясь между слабым желанием исполнить свой долг и отчаянным предчувствием провала, оказался за столиком в подвальном ресторанчике при Союзе художников.
Напротив него сидел удручающе длинный, худой человек, в обтрепанном, болтающемся, как на вешалке, зеленом костюме, непрестанно улыбающейся беззубой щелью рта и воспаленными от пьянства глазами. Это был некто скульптор Косов – личность, понаделавшая в свое время немало переполоху в Союзе.
Он начал свою деятельность, как способный художник, к тому же обладающий недюжинными административными способностями. Его страсть к организации художественной самодеятельности, умение произнести речь на собрании, вникнуть в суть какого-нибудь запутанного дельца, многих приводили к мысли, не пора ли заменить им Петра Самсоновича на ответственном посту председателя? Но то ли ему все это однажды надоело, то ли жило в нем постоянно и рвалось наружу некое озорство, но только он сам оборвал внезапно свою карьеру, выйдя приветствовать иностранную делегацию художников в одних подштанниках, сиреневых, самого низкого качества. Скандал был невообразимый, тем более, что в составе делегации присутствовали женщины.
Из всех обсуждений и нареканий Косов ничего полезного для себя не вынес, а наоборот, ударился е беспросветное пьянство и непрерывное озорство.
Вот и сейчас, уже совсем плохо соображая, он ежеминутно прерывал жалующегося ему Озерова, тыча пальцем в выставленную на стол бутылку, наполненную водой, в которую чудесным образом загнал деревянный крест. Крест был большой, его перекладина в самом широком месте упиралась в стенки бутылки, и это вызывало упоительный восторг в Косове самом, содеявшем это чудо:
– Ген, а Ген! Ну, ты посмотри! А!? Ты так сможешь, я тебя спрашиваю?.. Вот то-то и есть, что нет! А кто смог, спрашиваю? Косов!
Уже много выпивший Озеров, соображая тоже только чуть-чуть и про свое, отвечал ему невпопад, но с известным приемом хитрости:
– Вот я и говорю: кто может? Юрка Косов может! И я могу! А он? Разве он, цыганская харя, может1? Он лошадей воровать может, а лепить – нет уж, извините… Но подлый, до чего подлый, Юра, ведь как оттер!..
– А ты меня спроси «как»? А я тебе секрета не выдам! Ни-ни! – растянув от уха до уха узкую щель рта, слегка прищурившись и склонив набок голову, Косов водит перед носом Озерова пальцем. – Тут самому соображать надо! – и он любовно глядит на бутылку с крестом.
– А если они заодно были? Тогда что? Одному на них переть?! Нет уж, извините! Я так и решил: ладно, пусть делает. Все знают: я рук не приложил. Вот и на приемную не пошел, сижу здесь с тобой. Пожалуйста, принимайте, – Озеров опрокинул рюмку, утерся и добавил: – Сами свой позор принимайте, мать вашу… А я еще покажу! Мы, Юра, еще покажем! – и он навалился грудью на стол, жарко дыша, а в это самое время Косов, оттянув двумя пальцами книзу красные веки, скосил к переносице зрачки, одним пальцем вздернул нос и втянул щеки. Сочтя секунду достаточной для впечатления, он отпустил веки и устало отвалив челюсть, сказал:
– О! Видал? То-то…
– Иди ты! – Озеров гневно откинул стул, и тут в ресторан вошла компаниях из трех человек: Яряхина, Суслова и Звонцова.
Тяжело переступая, набычившись, Озеров пошел к ним…
Неизвестно, кто впоследствии рассказал Озерову о том, что происходило в это время в мастерской у Хаустова и в точности ли так, как оно все было на самом деле, но одно определенно, что кто-то рассказал и потряс тем самым его душу до основания. Но только не сам Фаустов. Он разговаривать с Озеровым избегал, и не потому, что зазнался, и не потому, что ему, в свою очередь кто-то услужливо передал разговоры в ресторане, а просто отпала надобность.
Каждый из них, со своей заботой на сердце, получил причитающуюся по отдельному договору долю гонорара, и приступил к дальнейшей жизни.
Большую часть гонорара Андрей сразу же истратил. Он приобрел своей матери добротную теплую одежду: шубу из прекрасной выделки мутона, сапожки на меху, красивую шерстяную шаль. Все это было куплено за один раз и больше ничего в тот раз не попадалось, а то бы он и то купил. Делать покупки ему дружески помогала Галочка, украдкой ушедшая из дома», и Андрей еле удержал себя от желания сделать ей какой-нибудь от душевной щедрости подарок, но грустно подумал о сложности ее семейной жизни и подарил только маленький букетик слабых подснежников.
Он приобрел железный ящик для глины и наполнил его до краев; он приобрел много других материалов, оплатил намного вперед натурщика, а главной его радостью был вознесенный при помощи приятелей наверх большой красивый кусок гранита.
Остальных денег было немного, и они с матерью рассудили тратить их мало-помалу на жизнь, добавляя к ее пенсии.
Хорошая шла весна. Работалось легко и жадно; просторная мастерская впускала в окна много, жаркого, через стекло, солнечного света; горячилась кровь, рождая шальную жажду любви полной и безраздельной.
Но все неистовее вгрызаясь в гранит, Андрей знал, что наступит минута, и его прикосновения к камню станут чуткими, рассчитанными до того невероятия, когда рождается искусство большое и единственное…
Прерывая, иногда, чтобы передохнуть, работу, Андрей слышал доносившийся из мастерской Озерова нестройный гул разгулявшейся попойки: женский зазывной смех, грохот падающих предметов и все перекрывающее пение заезженной пластинки на полную мощность.
Озеров гулял шумно и безнадежно, потому что как только он трезвел, его снова начинало мучить предчувствие всех его обид, так, будто они не прошли уже, а только должны случиться. Если бы подле него была его жена Ъаня, он мог бы высказать ей свою тоску, заставить ее еще даже раньше себя поверить в то, что скульптор, приехавшая из Ленинграда принимать творение Хаустова, просто старая потаскуха, недаром она слюни распустила: «Это поразительно: какая сильная пластика, какая мощная динамика, как все взвешено в пространстве и какое бесконечное обаяние и лиричность, и вместе с тем, это напряженно, темпераментно»… Подумать только, чего наговорила! А этот старый дурак Консовский тоже распустил свой павлиний хвост: «Эта работа послужит не просто украшением здания, она будет существовать как самостоятельное произведение подлинного искусства и, кто знает, может быть пройдут годы…» и пошел нести свою околесицу.