Рассказы

Новое о Мате Хари
В ненастный день 1876 года в бедной деревенской усадьбе родилась никому не известная девочка Мотя Харитонова. На нее никто не обратил внимания. Подрастая, она часто смотрела на далекие звезды и мечтала о будущем. Девочку заметил известный в то время купец по прозвищу Афанасий.
Однажды он собрался поехать за три моря. Тайком он захватил с собой Мотю. До Индии купец не доехал: его арестовали во Франции, а Мотю Харитонову выслали как немецкую шпионку. Голод гулял по Франции. Надо было работать, а у девушки не было никакой специальности. В детстве она много читала и по самоучителю, без музыки, разучила индийские ритуальные танцы. Теперь это пригодилось. Так она стала танцовщицей Матой Хари. Слава ее загремела по всей Западной Европе. К ее ногам были положены громкие титулы и имена. Великие люди говорили о ней в кулуарах и частных беседах. Станиславский, узнав о ней, тепло улыбнулся. Немирович-Данченко, услышав о ее танцах, молча огляделся вокруг себя. Она была в зените славы, когда началась Первая мировая война. По ночам ее тянуло домой. Но судьба распорядилась иначе. Ее арестовали. Единственное, что могли ей инкриминировать, – это неразборчивость в связях. Но судьи были глухи и обвинили ее в шпионаже. Умерла Мотя Харитонова 15 октября 1916 года, не дожив всего восьми лет до появления стриптиза.
Фиктивный брак
– Смотрю я на вас и думаю: что у вас за жизнь, у семейных!
– Но ведь вы тоже, кажется, женаты? И даже знакомили меня со своей женой…
– Я? Да что вы! У меня же фиктивный брак. Стал бы я жениться на ней!
– А мне показалось, что ваша жена симпатичная.
– Да нет, она красивая женщина, но все равно брак фиктивный.
– А свадьба у вас была настоящая?
– Настоящая.
– И «горько» кричали?
– Конечно, я сам кричал.
– И вы целовались?
– А как же не целовались! Надо же было, чтобы никто не догадался, что брак фиктивный. Да нет, в принципе, она хороший человек, но вот походка…
– Некрасивая?
– Не то слово. Такое впечатление, что она все время подкрадывается ко мне.
– Простите, а какое значение имеет ее походка, если брак фиктивный? Что вам, ходить, что ли, куда-нибудь вместе?
– А как же! В кино, в театр, к родственникам, к друзьям. Надо же, чтобы никто ни о чем не догадывался.
– Так, значит, вы к ней приезжаете, а потом вместе идете?
– Куда приезжаю? Я у нее и живу.
– Вот так в одной квартире и живете? Это же, наверное, очень неудобно?
– Конечно, неудобно. Она, муж ее тут же рядом… Между нами говоря, муж-то ее и зарабатывает мало… Слабо зарабатывает.
– Кто он, муж-то ее?
– Да я, кто же еще-то!
– Знаете, такое впечатление, что вы женаты по-настоящему.
– Я?! Что я, дурак, что ли, – по-настоящему? У нее же двое детей!
– Ах вот оно что!.. Тогда другое дело. А как они вас называют?
– Папой.
– Привыкли, значит?
– Привыкли. Уже двенадцать лет как вместе.
– Извините, а от кого дети?
– От меня, от кого же еще! И дети так думают.
– А на самом деле?
– От меня и есть.
– Ничего не понимаю. А до замужества у вашей жены были дети?
– Были. Один был.
– Ах вот в чем дело!
– Ну конечно!
– А от кого?
– Пошляк какой-то! Да от меня, от кого же еще! Я еще вам говорю: живем вместе, я ей зарплату отдаю. Она мне стирает, готовит – все делает, чтобы никто ни о чем не догадался.

– Ерунда какая-то! Живете вместе, дети общие, зарплату отдаете – все как у меня, а брак фиктивный. Ради чего это нужно?
– Ради свободы. Раз брак фиктивный, значит, я что хочу, то и делаю. У вас брак настоящий, а свобода фиктивная. А у меня брак фиктивный, зато свобода настоящая.
– Но ведь это незаконно – фиктивный брак, за это же наказать могут!
– А кто об этом знает? Кто об этом догадывается?
– А вдруг узнают?
– Ну, я надеюсь, что этот разговор останется между нами?
– Конечно. Но вы не боитесь, что ваша жена вдруг кому-нибудь расскажет, что брак фиктивный? Вдруг она вас выдаст?!
– Да что вы! Как это – выдаст! Она об этом понятия не имеет. Она об этом и не догадывается.
– А-а…
– Вот так, милый мой!.. Вы куда сейчас пойдете?
– Домой.
– Вот. А я куда хочу, туда и пойду.
– Куда же вы хотите?
– Домой, куда же еще?!

Хорошее настроение
Если запрета нет, то можно.
И все прекрасно. Впереди лето. Мы все загорим. И солнце будет светить каждому из нас. Все встречные девушки будут улыбаться нам. А кто не будет, тех мы простим. Вот человек с метлой метет там, внизу под балконом, и я вижу по взмахам метлы, что у него прекрасное настроение, такое же, как у меня. Хочется отметить этот день. Он так хорошо начался. Хорошо бы в такой день повсюду висели флаги, а милиционеры раздавали детям милицейские свистки. Хорошо бы висели флаги.
Я выношу на балкон флаг, и он висит над нашим домом. Он висит на моем четвертом этаже и всем виден. Сегодня праздник. Праздник хорошего настроения. Я иду на кухню и готовлю яичницу. Яичница шипит и хлопает глазами. У нее тоже хорошее настроение, ее будет есть такой хороший человек, как я.

Я ем яичницу и слышу радостные голоса внизу. Там во двор выходят люди. Наверное, они поздравляют друг друга, не важно с чем. Кто-то внизу зовет меня. Я выхожу на балкон и приветственно машу им руками. Сколько их там, внизу!
Один из них что-то кричит мне. Это домоуправ. Он кричит громче:
– Ты чего это флаг выставил?
– А просто так, – кричу я ему, – ради праздника!
– Сымай флаг! – кричит он мне.
– Нет, – кричу я, – пускай все знают, как сегодня хорошо!
– Я те дам – хорошо.
Он скрывается в подъезде. И вот он уже у меня.
– Ты зачем флаг вывесил? – спрашивает он.
– Здравствуйте, – отвечаю я.
– Здорово. Зачем флаг вывесил?
– А что, нельзя?
Он молчит. Он думает. Ему это дается тяжело. Видно по лицу.
– По какому случаю?
– По случаю хорошего настроения. А что, флаг некрасивый?
– Нормальный флаг.
– Попробовали бы вы сказать что-нибудь другое.
– Не положено, – говорит он.
– Кто сказал?
– Я.
– А вам кто сказал?
– Мне? Никто.
– Ну вот.
Он садится.
– Чайку хотите?
– Я тебе говорю – сымай флаг! Его надо вывешивать, когда праздник.
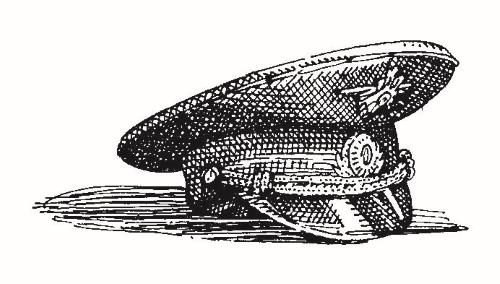
– А у меня сегодня праздник. Хорошее настроение. Знаете, как редко оно у меня бывает?
– У тебя хорошее, а у кого-нибудь плохое.
– А я вывесил флаг – и у всех станет хорошее. Вот когда вы увидели этот флаг, у вас повысилось настроение?
– Вообще-то повысилось.
– Вот и у всех повысится.
– А вдруг нельзя? В обычный день – и вдруг флаг. Что люди скажут?
– А чего они скажут? Если б какой другой, а то ведь наш флаг, верно?

– Верно.
– Чайку хотите?
– Сымай флаг.
– А вот руками вы зря размахиваете. Вы не у себя дома.
– Я сейчас дворника позову, мы тебе покажем!
И действительно, через пять минут они приходят с дворником. Я приоткрываю дверь, но держу ее на цепочке.
– Открой дверь! – говорят они.
– Не открою. Товарищ дворник, – перехожу я в наступление, – вы где-нибудь читали, что нельзя вывешивать наш флаг?
Оказывается, дворник нигде этого не читал. Оказывается, он вообще уже несколько дней не видел печатного слова. Потом я вижу, как они лезут по пожарной лестнице ко мне на балкон. Я выношу ведро и окатываю их сверху. Начинается осада. Дворник спускается, вытаскивает поливальный шланг, и они снова идут на приступ. Я весь мокрый, но не сдаюсь, закрывая своим телом флаг. Тогда домоуправ командует:
– Держи его на прицеле. А я вызову милицию.
И вот так, под напором струи, я защищаюсь до тех пор, пока не приходит милиционер. Теперь я понимаю, что мне уже ничто не поможет. Милиционер говорит дворнику:
– Ну-ка, прекрати поливать!
Дворник направляет струю в сторону. Я отхожу от флага, и он развевается на ветру. Милиционер кричит мне снизу:
– А почему только красный повесил?
Я не знаю, что ему ответить. Домоуправ тоже оторопел.
– Вы что, с Луны свалились? – говорит милиционер. – По всей Москве флаги развешаны – наш, советский, и их, кемарийский. Сегодня же король Кемарии приезжает.
– Ура! – кричу я. – Мы победили! А какого цвета у них флаг?
– Желтого, – отвечает милиционер.
Я бегу в комнату и выношу желтый носовой платок.
– А чего такой маленький? – спрашивает милиционер.
– У них страна поменьше, – отвечаю я.
– Правильно, – говорит он. – Больше нашей страны нет. – Отдает мне честь и уходит.
– Газеты надо читать, – говорю я дворнику.
– Мерзавец, – отвечает он мне.
Домоуправ кричит мне снизу:
– Отойди от флага, дай погляжу, ровно ли висит.
А я ему отвечаю:
– Может, ко мне подниметесь? Заодно и чайку попьете?
– Мерзавец, – отвечает он мне.

«Я люблю тебя, Лена»
Вот говорят, что сейчас любви настоящей нет. Что, дескать, раньше из-за любви чего только не делали, а теперь все лишь бы как. В связи с этим я вам расскажу одну грустную историю.
Значит, один молодой человек – имени называть не буду, чтобы вы ни о чем не догадались, – влюбился в одну девушку. Красивенькая такая девушка. Ну и он парень тоже ничего. И так он в нее влюбился, что сил никаких нет. А она вроде на него ноль внимания, фунт презрения. Он уж и цветы носил, и письма посылал. И чего только не делал! И с работы встретит, и на работу проводит. До того дошел, что прямо на асфальте у ее дома написал: «Я люблю тебя, Лена». Чтобы она каждый день эту надпись видела.

Вода камень точит, и он потихоньку своего добился. Стала она на него внимание обращать. И начали они встречаться. Повстречались так некоторое время. Ну, что между ними было, этого я рассказывать не буду. Не наше это дело о том рассуждать. Меня это не касается и вас тоже, но только дело уже к женитьбе шло.

И вот так получилось, что из-за чего-то они поссорились. То ли настроение у нее плохое было, то ли у него что случилось, но только слово за слово – и поругались.
Знаете, как бывает. Просто кто-нибудь скажет: «Глупый ты», – и ничего. А как от любимого человека такое услышишь – нет сил терпеть. Ну, в общем, он ей говорит: «Раз так, я тебе докажу, какой я» – и ушел. И вот началась у них не жизнь, а мука. Каждый боится гордость свою уронить, и каждый молчит. Ей бы подойти к нему, сказать: хватит тебе, дескать, и все, или ему то же самое. А они нет. Вот он около ее дома походит, походит, а зайти не может. Она утром на работу идет, а там на асфальте надпись: люблю тебя, дескать, и все. Был, значит, здесь, да весь вышел.
И она так же. Допустим, день рождения у него случился. Она ему открытку в ящик – и ходу.
Время идет, а он ей все доказывает. И вот ведь человек какой: на одни тройки учился, а тут взял и институт с отличием окончил. Ему бы подойти, показать диплом, да и помириться. А он нет – гордый. Другой бы на его месте уж с пятой познакомился, ту бы из головы выкинул. А он и этого не может.
А тут еще так случилось. В метро он ехал. Вдруг смотрит, она в вагон входит с молодым человеком. Так он не то чтобы поздороваться – его как будто кто ударил. Остолбенел аж. И у нее то же. Смотрят друг на друга, глаз оторвать не могут. Она чуть в обморок не падает. Еле до остановки доехали. Он выскочил тут же и неизвестно с чего в другую сторону поехал. Вот дела какие.
После этого им бы созвониться, поговорить бы, выяснить все. А он, видишь, думал, что она сидит дома и ждет его. А она девушка молодая, красивая. Ухажеров разных полно. Разве дома усидишь? Тем более ей уже казаться начало, что возраст поджимает. Ей к тому времени двадцать два стукнуло. А тут подруги замуж все повыходили. Ну вот, она так подождала, подождала, да и вышла за кого-то замуж. А добрые люди, они всегда найдутся. Конечно, ему об этом и донесли. Тут он света божьего не взвидел. Пролежал на диване неделю, не ел, не спал, мучился. Потом взял и диссертацию по какой-то научной теме защитил.
И вот защитил он диссертацию, денег прикопил, купил машину и на этой машине к ее дому подкатил. Давно об этом мечтал.
Глядь, она с ребенком гуляет. И вот стали они друг против друга. Шагах в двадцати. Он рядом с машиной, она с ребенком. Смотрят друг на друга. Глаз отвести не могут, да подойти боятся.
Взял он тут осколок кирпича и написал на асфальте: «Я люблю тебя, Лена». Сел в машину и укатил. Она стоит и плачет. Может, хоть тут бы ей плюнуть на все, позвонить бы ему и объясниться. А она опять нет. Может, ей и не нужно это было. А тогда чего плакать? А он прождал ее звонка-то, сел и какое-то такое открытие сделал, что ему через год доктора дали безо всякой защиты.
И тут ему совсем плохо стало. И начал он по телевизору выступать, ему бы жениться на ком другом, а он нет, не может.

И все свое доказывает. И вот уж он совсем знаменитым стал, вся грудь в премиях. Да все вы его, может, знаете, почему я его имени и не называю.

И вот умирать ему уже время пришло. И приехал он в ее двор. Взял осколок кирпичный и пишет на асфальте: «Я люблю тебя, Лена». А тут и Лена вышла, с внуками уже. Смотрит, как он пишет это. Он глаза на нее поднял, а уж самому подняться трудновато. Помогла она ему и говорит:
– Доказал? Доволен теперь?
А он ей отвечает:
– Ничего мне не надо.
Мне бы видеть только тебя, разговаривать бы только с тобой.
А она ему только волосы погладила, а они уж все седые. Вот так вот.
– Глупый ты, – говорит.
А он-то всю жизнь доказывал ей, что это не так, а теперь взял да сразу с этим и согласился. Сели они на лавочку, и он ей говорит:
– Все бы премии отдал, только бы эти внуки моими были.
А она вообще двух слов связать не может. Слезы ручьем.
Он после этого, конечно, и умирать совсем передумал. Так вот каждый день на лавке этой и сидят. Говорят все между собой, как будто и не расставались никогда. А чего говорить-то! Раньше говорить надо было.

Круглое колесо
Душа Пафнутия пела. Он изобрел круглое колесо. Мимо него по улице громыхали телеги с квадратными колесами. На перекрестке движение застопорилось. Регулировщик, дед Аркадий, опять забыл переключить изобретенный им самим светофор. Осыпаемый бранью, дед Аркадий взял шест, поджег на его конце прессованную солому и положил ее в зеленое гнездо. Движение возобновилось. Пафнутий постоял с дедом Аркадием. Поделились планами на будущее. Дед хотел подать заявку на будку регулировщика и фосфоресцирующий жезл. Конечно, экономии от этого никакой, и светлячков ловить замучаешься. Но все же усовершенствование. Прогресс.

Пафнутий про круглое колесо говорить не стал, знал легкость дедова характера на плагиат. Сел в трамвай, доехал в бюро патентов. В трамвае быстро надоело.
Устал крутить трамвайную лебедку. Народу было мало, приходилось работать за троих.
Вышел из трамвая, пошел пешком.
По обе стороны улицы начались инстанции. Пафнутий зашел в первую. Шло заседание небольшого ученого совета. Обсуждался вопрос об окончании бронзового века. С бронзовым веком покончили быстро. Пафнутий дождался паузы, встал и нарисовал на доске большое круглое колесо. Все замерли.

Председатель взял квадратный графин, налил воды в квадратный стакан. Посмотрел на Паф-нутия квадратными глазами и сказал:
– Красиво, ну и что?
Народ заерзал, зашумел, предчувствуя развлечение.
– Круглое колесо, – сказал Пафнутий, – получаем экономию материала на углах, и стука не будет.
– Телега не поедет, – возразил председатель.
– Почему?
– Нет углов. От земли отталкиваться нечем.
– Имею опытный образец, – парировал Пафнутий. – Силы трения достаточно для движения.
– Демагогия! – выкрикнул с места дед Антип, энтузиаст бионики, большой любитель подглядывать все у природы. – Углов у колеса четыре. По числу ног кобылы. А оборви кобыле ноги, далеко ли она уползет? Неизвестно. А то и не встанет.
– А что технолог думает? – спросил председатель.
– Вообще-то можно, – сказал технолог, – путем увеличения числа сторон квадрата приблизиться к его окружности. Но у нас уже налажено массовое производство квадратных колес. Переделывать не имеет никакого смысла.
– А что дорожный отдел думает? – спросил председатель.
– Новое колесо – это новые дороги. Новые дороги – это значит старые ремонтировать. А ремонт у нас на будущий год запланирован. Значит, раньше, чем года через два-три, не начнем. А колесо – что ж, конечно, оно хорошее.
– Ездить быстрее будем, – сказал Пафнутий, – велосипед сделаем.
И тут поднялся сам дед Пахом, родоначальник квадратостроения.
– Хорда, – сказал он, – есть диаметр окружности, не проходящий через центр. Это аксиома. А попирать аксиому мы никому не позволим. Даже такой талантливой молодежи, как дед Пафнутий.
– Правильно, – поддержал с задней лавки дед Пантелей. – У нас этими квадратами все амбары завалены. Куда же их теперь?
– Лучше бы ты, Пафнутий, электричеством занялся, – сказал председатель. – А то сидим как сычи в темноте, глаза портим. – А уже официальным тоном добавил: – Конечно, изобретение круглого колеса имеет значение для развития науки, но практического применения пока не имеет. – Подумал и еще добавил: – А колесо свое в цирк отдай. Пусть клоуны на нем покатаются. Смешно будет.
– Ладно, – сказал Пафнутий.
Он пошел домой и сунул колесо в печку. Посидел, глядя на ночь. Пригрелся. Стал изображать электричество. И душа его снова запела.

Железная логика
– Ты меня любишь?
– Люблю.
– Сильно?
– Сильно.
– Тогда давай поженимся.
– Ну, я в общем-то не против…
– Что же нам мешает?
– Мне ничего не мешает.
– Тогда пойдем и поженимся.
– Пойдем… А где мы будем жить?
– Ну… На первое время комнату снимем.
– Да, пожалуй. А на какие финансы мы ее снимем?

– Перейдем на вечернее и начнем работать.
– Это хорошо. А кто будет готовить?
– Моя мама хорошо готовит, и твоя бабушка будет приходить.
– Так. А для чего нам, собственно, жениться?
– Ребенка заведем, воспитывать будем.
– А он кричать будет, с ним сидеть надо, кормить. В кино не сходить, а в театр и подавно.
– Ну, тогда не будем ребенка заводить. Будем в кино ходить, в театры и собаку заведем.
– С собакой в театр не пустят.
– Тогда не будем заводить собаку, а будем просто ходить в кино и театры.
– Но ведь мы и сейчас ходим в кино и театры.
– Ходим.
– Ну?
– А тогда будем все время вместе.
– А ты хочешь, чтобы мы были все время вместе?
– Ну, все время, пожалуй, надоест… Если мы будем работать, то получится, что не все время.

– Значит, нам нужно работать, чтобы не быть все время вместе, ведь так?
– Ну, тогда не будем работать…
– Тогда жить вместе будет не на что.
– Ну, тогда не будем жить вместе…
– Тогда и комнату не надо будет снимать.
– А не будет своей комнаты, тогда моя мама будет у меня дома готовить.
– А моя бабушка – у меня дома.
– Но тогда и жениться незачем.
– А я что говорил!
– Вообще-то, конечно, какое имеет значение, женаты мы или нет. Главное, что мы любим друг друга. Ведь ты меня любишь?
– Люблю.
– Сильно?
– Сильно.
– Тогда давай поженимся…

Не забуду мать родную
Лето. Жара. Недалеко от меня расположилась полная семья. Папа полный, мама полная и двое мальчишек тоже полные. Время обеда, и на коврике с узором, в тарелках из фольги, все, что только можно пожелать на пляжном обеде: курица, истекающая жиром, зеленый лук, редиска, огурцы, помидоры, яблоки, сливы, виноград. В центре бутылка «Цинандали». Мальчишки хрустят огурцами, мама режет хлеб. Папа, крупный, розовощекий, с «Сейкой» в руке, под музыку из транзистора с неимоверной скоростью поглощает курицу, запивая ее сухим вином. На лице у папы полное блаженство, а на груди черным по белому наколка: «Нет в этой жизни счастья».

Люди с наколками. Где только мы их не встречаем. Каких причудливых картин не увидишь на самых различных частях тела! Орел, распростерший крылья, портреты знаменитых людей, кочегары, бросающие уголь в топку, клятвы, уверения. Что заставляет этих людей терпеть боль и с риском для здоровья выкалывать на коже эти незамысловатые произведения искусства? В чем тут дело? Тяга к прекрасному? Желание выделиться? Или что-то другое, загадочное и необъяснимое?

Однажды в Сандуновских банях я увидел человека средних лет, крепкого, мускулистого. На плече у него было выколото: «Не забду мать родную». Сверху галочка, а в галочке – пропущенная буква «у».
Я не выдержал и спросил:
– Вот я вижу у вас на плече наколку. Что вас заставило ее сделать?
– Чего? – спросил он.
– Я говорю, у вас наколка на плече. Зачем вам это?
– Нуты даешь!
– Нет, серьезно. Ведь для чего-то вы сделали эту наколку?
– Ну, я тебя не спрашиваю, почему у тебя грудь волосатая?
– Волосы – это произведение природы, так сказать, не зависящее от меня, а наколка – это рукотворное произведение. Что это, ваша прихоть или необходимость?
– Слушай, тебе промеж глаз когда-нибудь врезали?
– Ну что вы, сразу промеж глаз. Лучше ведь поговорить, выяснить. А потом, вы ведь меня не знаете. Вы мне промеж глаз, а вдруг я боксер?
– Я вот тебе врежу сейчас шайкой, а ты потом разбирайся, боксер ты или нет.
– Ну что ж, извините, я хотел по-хорошему, пиво тут у меня, и вообще поговорить.
– Ну сразу и обиделся, стой, давай свое пиво. Давай, не обижайся. Ну спрашивай, чего уж там.
– Значит, так. Вот у вас написано: «Не забду мать родную». Букву-то, вероятно, для смеху пропустили?
– Да нет, парень один, ну, в общем, нерусский он, ну и наколол «не забду». Я-то просил «не забуду», а он – «Не забду». Понял?
– Понял.
– Ну а потом кореш говорит: «Давай галочку поставим, стереть-то не сотрешь». Ну и сделали галочку-то.
– А зачем вам все это нужно было? Это что, вызов окружающим?
– Ну ты даешь! Вызов! Клятва это. Ну клянусь я вроде, что не забуду.
– А если бы не написали, то забыли бы?
– Да нет, я бы не забыл, но ты бы этого не знал. Верно я говорю?
– Верно.
– А потом, красиво.
– Знаете, для красоты можно было бы что-нибудь поинтереснее придумать.
– А кто выкалывать будет?
– Ну, этот, нерусский.
– Обиделся.
– Чего это он?
– Ну я б тебе шайкой промеж глаз врезал, ты бы не обиделся?
– Наверное.
– Точно бы обиделся. Я знаю. Ну, кореш потом мне пытался на спине выколоть, во посмотри: «Пламенный привет из Севастополя». Видно?
– Плохо.
– То-то и оно, не получилось. Орла хотел еще заделать, да я уже не стал: не умеешь – не берись.
– А заражения крови вы не боялись?
– Салага ты. Он же тушью, а тушь, она на чистом спирту.
– А для чего вам этот привет из Севастополя?
– Это не мне, это им.
– Кому им?
– Ну, кто смотреть будет. Может, женщина какая на пляже клюнет. Тоже приятно! Она из Кулунды, а ей привет из Севастополя.
– Теперь все понятно. Я пойду.
– Нет, ты постой. Дай-ка я тебя теперь спрошу.
– Я вас слушаю.
– Ты мне вот на какой вопрос ответь. Если ты такой умный, то почему у тебя ни одной наколки нет?
– Чего?
– Чего – «чего»! Наколки, – говорю, – почему нет?
– Нет.
– Да это я вижу, что нет, а почему нет-то?
– Я даже не знаю.
– Ты неженатый?
– Нет.
– То-то и оно. Кто ж на тебя такого позарится? Теперь вот что скажи. Ты мать свою когда в последний раз видел?
– С месяц назад.
– Не уважаешь мать-то, не помнишь, а она тебя поила-кормила. Небось последний кусок от себя отрывала, а ты мать-то родную ни в грош не ставишь. А была бы наколка, глянул, вспомнил, хоть платок ей к празднику и послал.
– Да она здесь же, в Москве, живет.
– Тем более ничего съездить не стоит. Пошли дальше. Вот ты ко мне подошел, ни здрасьте, ни привет, ни как зовут, не спросил, ни как себя, не сказал. А была бы у тебя наколка, хоть на пальцах, – красиво и вежливо. Понял?
– Понял.
– Или, допустим, картина у тебя на груди выколота: «Иван Грозный сынишку убивает» – незабываемый шедевр. Но ты же настоящую картину с собой носить не будешь, верно?
– Верно.
– А наколка – она всегда с тобой. Пришел в баню, разделся, сам посмотрел, людям показал. Всем удовольствие. Так-то, друг, а ты говоришь, зачем наколка. Выходит, нужна она. Да ладно, ты не расстраивайся. Давай так. В следующее воскресенье… Слышь меня?
– Слышу.
– В это же время сюда приходи. С корешем тебя познакомлю, он тебе живо это дело поправит. Знаешь, он как с того раза наловчился, что хошь зашпандорит: хошь «привет», хошь орла со змеей. Змея-то тебе ой как к лицу будет.
– А что же вы ее, эту змею, себе не пришпандорите?
– Я бы с удовольствием. Жена не дает – ревнует. Понял?
И мы расстались, довольные друг другом. Я вышел из бани. Ярко светило солнце. Дрались на асфальте воробьи. Дворник подметал улицу. На руке дворника синели слова: «Жизнь – обман». Я шел и думал, что, может, он и прав, этот парень с галочкой. Надо к матери съездить. Платок ей к празднику подарить.

Профессионалы
Я одного инженера знаю: он где бы ни находился, чем бы ни занимался, а все равно о своей работе думает. Он на отдыхе в лесу вынимает такую маленькую книжечку и чего-то там обязательно рисует и придумывает. Потому что он настоящий профессионал.

Или другой человек – бухгалтер. Он трехзначные цифры в уме перемножает и всегда помнит дни получки и аванса. Среди ночи разбуди его, и он тут же скажет – восьмого и двадцать третьего. Конечно, в этом смысле мы все профессионалы, но вот трехзначные цифры только этот бухгалтер и умеет перемножать.
Значит, речь о профессионалах пойдет. И еще о том, что если не можешь обманывать – и не пытайся. Не можешь мухлевать – и не берись.
А то так вот получилось, что один мужик – фамилии его называть не буду, потому что ему еще жить и жить, – поехал в Одессу в командировку. А у него там родственник был, Володька. В возрасте тридцати четырех лет. Он, этот Володька, дядю своего любил, и в связи с этим дядя решил в гостинице не останавливаться, а пожить эти дни у племянника, потом вернуться в Москву и получить квартирные по семьдесят копеек в день. Значит, за неделю он бы выгадал четыре рубля девяносто копеек. Я намеренно называю эту сумму, чтобы понятно было, из-за какой ерунды человек решил обмануть государство.
И вот он, дядя, приехал к Володьке, не зная, что его родственник Володька, вообще-то говоря, личность темная и даже сидел один раз в тюрьме. Чтобы скрыть это дело, Володькина жена написала дяде, что ее муж уехал работать на Север. Причем она и не соврала ничего: он действительно ездил на Север и работал там три года. А потом вернулся, с темным прошлым завязал и оставался для дяди просто Володькой.
И вот Володька встретил дядю и стал принимать его у себя как ближайшего родственника. Тем более что дядя был человек обеспеченный, а обеспеченных родственников вообще приятнее принимать, тем более из Москвы.
И может быть, ничего бы такого не случилось, не скажи дядя, что его жена в Москве отсутствует и находится сейчас на излечении в городе Трускавце.
И вот когда дядя раскрыл, можно сказать, свои карты, у Володьки даже дух захватило. Но он эти мысли гнал от себя прочь. И гнал их успешно до того момента, когда дядя не сказал, что он устал с дороги и хочет прилечь.
И не только сказал, но и сделал: улегся почивать в девять часов вечера.

И тут Володька стал бороться с собой всерьез. Он минут шесть боролся, а на седьмой положил себя на лопатки, потом встал, подошел к дядиному пиджаку, вынул из него ключи от квартиры, где деньги лежат, и побежал на улицу. На улице он поймал такси и на этом самом такси приехал в аэропорт.

И так получилось, что именно в эту пору пассажиров в аэропорту было немного и билеты на самолет продавались свободно.
Была бы нехватка мест – Володька ни с чем бы домой и воротился, а так он билет купил и в Москву полетел. Вот некоторые жалуются, что на самолет билеты трудно взять. А я так скажу: хорошо, что трудно, сколько из-за этого плохих дел не совершается, и еще подумать надо, стоит ли вообще улучшать обслуживание или, может, наоборот.
Но не в этом дело. Прилетел племянник в Москву, взял такси и поехал по известному адресу. Приехал, надел на лестничной площадке белые перчатки, открыл ключом дверь и давай все в чемоданы складывать.
Он и раньше в этой квартире бывал и очень хорошо знал расположение денежных мест. Поэтому он брал только дефицитные вещи, а именно деньги. А кроме того, он не брезговал кольцами, мехами и облигациями.

Единственное, что он из ценных вещей не взял, – это столовое серебро и китайский сервиз. Ему очень нравилось, будучи в гостях у дяди, есть из китайского сервиза за этим самым столовым серебром. И он не хотел себе отказывать в этом маленьком удовольствии. Ведь он не собирался ссориться с дядей, а, наоборот, намеревался и в дальнейшем приезжать в гости и дружить. Больше того, он даже хотел впоследствии, когда дядю постигнет удар в смысле пропажи ценных вещей, помочь ему деньгами.

И вот взял Володька все это в два чемодана, которые здесь же, в квартире, и нашел. Один чемодан черный, а другой коричневый. Я давно о таком мечтаю, но не знаю, где его купить. А вот дядя знал и купил себе.
Ну вот, уложил Володька все в чемоданы, посыпал квартиру дешевым табаком, а потом позвонил по телефону 225-00-00 и вызвал такси.
А пока такси не подъехало, Володька вынул из холодильника бутылку вермута и немножечко выпил. Потом надел на нос очки, приклеил себе усики и вышел из дома с двумя чемоданами.
Сел в такси и поехал на Казанский вокзал. По пути он снял с себя ботинки и незаметно выбросил их в окно. Естественно, потом надел на ноги другие туфли, потому что в одних носках ходить неудобно и бросается в глаза.
Приехал, значит, Володька на Казанский вокзал, расплатился с таксистом, дал ему на чай – немного дал, чтобы в глаза не бросалось.
А то некоторые своруют что-нибудь и начинают деньгами швыряться – тут их и накрывают. А Володька, он же профессионалом себя считал, ему это ни к чему – деньгами швыряться, поэтому он тридцать копеек отстегнул, так сказать, ни нашим, ни вашим.
Вышел он из такси, подождал, когда машина уедет, и тут же в другое такси сел, на котором и покатил в аэропорт. По пути рассказывал таксисту, что приехал из города Казани и едет по бесплатной тридцатипроцентной путевке в Крым отдыхать. Вот такой нахал. Ему государство бесплатную путевку дает, а он, понимаешь, квартиры грабит.
Но не в этом дело. А в том, что приехал Володька в аэропорт, а билетов на Одессу нет. Вот такая метаморфоза. Из Одессы – пожалуйста, а в Одессу – извините-подвиньтесь.
Но он же профессионал, он сразу к кассирше. То, се, третье, десятое, дескать, за нами не пропадет, – короче, дала она ему билет, а он ей за это шоколадку «Аленка» подарил за рубль двадцать копеек. Надо бы, конечно, рубля за два, а он, видишь, и здесь решил, что так сойдет.
Короче, прилетел он в Одессу в пять утра, а в семь уже в постели лежал.
Утром просыпаются они с дядей, и дядя, что характерно, рассказывает Володьке, что он плохо спал, какие-то кошмары ему снились из жизни древних греков, а Володька, наоборот, говорит, что спал отлично и снилось ему всю ночь Черное море.

А дальше дядя начинает обделывать свои дела в городе Одессе, а по вечерам Володька водит дядю по ресторанам и всюду платит за него, потому что по-своему его любит и ничего плохого ему не желает. Просто он профессионал и не удержался от такого прекрасного дела.
Но он, в свою очередь, хочет, чтобы дядя надолго запомнил эту поездку в Одессу, хотя дядя и так никогда потом в жизни этой поездки не забывал.
Короче, кончается срок дядиной командировки, возвращается он домой и видит, что творится в его квартире. Он, конечно, тут же падает в обморок, нет, сначала звонит в милицию, а уже потом падает в обморок.
Милиция приезжает и не находит никаких следов. Нет следов, и все. И никто этого вора не видел. И все бы так и закончилось, но Володька не учел, что есть на свете профессионалы почище, чем он, а именно следователь, который занялся этим делом.
Володьке и в голову не пришло, что этот следователь обойдет все таксомоторные парки и опросит там всех на предмет этих двух чемоданов. И надо сказать, что среди шоферов были как раз те двое, которые везли Володьку.
Причем, что знаменательно. Первый, который вез Володьку на вокзал, ничего вспомнить не мог, кроме тридцати копеек. А второй, который вез Володьку от Казанского вокзала в аэропорт, вспомнил оба чемодана, и особенно тот, коричневый.
Он еще сказал, что сам мечтал о таком чемодане, но не знал, где он продается. И заметьте, что значит профессиональная память, шофер через два месяца не только чемоданы вспомнил, но и усы вспомнил, и очки, и даже то, что от Володьки пахло итальянским вермутом.
Вот что значит профессионал.

А дальше следователь нашел и кассиршу, которая Володьке билет выписывала. Она тоже профессионалкой оказалась. Вспомнила человека, который ей «Аленку» подарил. Потому что за такую услугу, если хотите знать, ей в прошлом году один артист бутылку коньяка поставил, а этот, понимаешь, «Аленкой» ограничился. Короче, запомнила она и Володьку, и «Аленку», и Одессу.
Ну а там уж дело совсем простое было. Подняли корешки билетов и разыскали родственничка.

Надо сказать, что дядя очень удивился, когда вором Володька оказался. А Володька тоже расстроился, потому что не мог уже дяде очки втереть, не мог он ему сказать, что едет на Север работать.
И к неприятности с кражей добавилось еще огорчение, связанное с родственными чувствами, а именно с тем, что не смог Володька скрыть от дяди свое неэтичное поведение.
Потому что Володька по-своему очень любил своего дядю, о чем свидетельствует и его последнее слово на суде. Он так прямо и сказал в нем: «Дядя, прошу вас, не обижайтесь на меня. Потому что я все равно люблю вас как родного, но ничего с собой поделать не мог. Не обижайтесь на меня, дорогой мой дядя. Я больше не буду».

Ах, любовь
Она: Вот честно скажи, ты меня любишь?
Он: Честно?
Она: Честно.
Он: Честно-честно?
Она: Честно-честно.
Он: Люблю.
Она: А за что ты меня любишь? Только честно.
Он: Честно-честно?
Она: Честно-честно.
Он: Не знаю.
Она: А ты мне когда-нибудь изменял?
Он: С кем?
Она: Не знаю. Я просто спрашиваю вообще: ты мне изменял с кем-нибудь?
Он: С кем конкретно?
Она: Ну, вообще, ты мне изменял?
Он: Когда?
Она: Ну, никогда, всегда?
Он: Честно?
Она: Честно.
Он: Всегда не изменял.
Она: А никогда?
Он: И никогда тоже не изменял, так же, как и всегда.
Она: Ни с кем?
Он: Ну а с кем я могу тебе изменить?
Она: Ну, допустим, с Танькой.
Он: Ты что, с ума сошла, она же меня близко к себе не подпустит.
Она: Ну с Нинкой.
Он: Типун тебе на язык! Ты ее лицо помнишь?
Она: Помню.
Он: Ну а чего тогда спрашиваешь? Ты мне хоть сколько доплати, а я изменять не стану.
Она: А сколько, сколько доплатить?
Он: Да хоть миллион.
Она: Ну вот, допустим, даю я тебе миллион, ты мне изменишь?
Он: Честно?
Она: Честно.
Он: Если честно, то нет.
Она: А почему?
Он: Потому что у тебя миллиона нет.
Она: Ну а если, допустим, даю тебе миллион, можешь ты предположить, что мне изменяешь?
Он: Могу.
Она: Как – можешь?
Он: Предположить могу, изменить ни за что.
Она: А за два миллиона?
Он: Да ведь ты не дашь.
Она: А если предположить, что даю я тебе два миллиона, что ты будешь делать?
Он: Один миллион положу в сберкассу.
Она: А на второй?
Он: А на второй куплю тебе семечек.
Она: Для чего?
Он: Чтобы у тебя рот был всегда занят.
Она: А изменить бы не мог?
Он: Ни за что.

Она: Значит, ты меня любишь?
Он: Люблю.
Она: Честно?
Он: Честно.
Она: А если очень честно?
Он: Тогда очень люблю.
Она: И никогда в жизни не врал?
Он: Врал.
Она: Честно?
Он: Если врал, то всегда только честно.

«Киртикуй, Кердыбаев!»
Давай, Кердыбаев, киртикуй меня, не бойся. Сейчас новое время, Кердыбаев. И в нашем драматическом театре имени оперы и балета сейчас полный свобода критики.

Давай, киртикуй, Кердыбаев, киртикуй, а мы тебе за это «спасибо» скажем. Давай, начинай. Так, молодец, Кердыбаев. Понял тебя. Ты спрашиваешь, почему моя жена, заслуженная артистка всех республик, играет все главные роли: Джульетты, Зухры, великий русский ученый Тимирязев? Это очень интересный факт, нам совсем неизвестный. Скажи, Кердыбаев, а чей жена должен играть все главные роли? Может быть, твой, Кердыбаев? Вот когда ты будешь главный, хотя бы режиссер, тогда твоя бездарная жена станет талантливый. Она будет все роли играть. А пока ты киртикуй, а мой жена будет дальше играть.

Давай, киртикуй, Кердыбаев. Ты только смело киртикуй, ты ничего не бойся, раз я тебе разрешаю. Так. Ты хочешь знать, Кердыбаев, почему я старинный мебель из театра перевез к себе домой? Отвечаю. Потому что этот старинный мебель очень дорогой. Скажи, где мне взять так много денег, чтобы такой мебель купить? Ты знаешь, главный режиссер как мало денег получает? Еще меньше, чем министр культуры.
Давай дальше киртикуй, Кердыбаев. Давай, не стесняйся, показывай, какой змея мы пригрели на свой волосатый грудь. Киртика нам сейчас нужна, как тебе деньги.
Так, вопрос понимаю, не понимаю, как такой вопрос может задавать порядочный человек. Почему мой мама работает в кассе театра, а моя папа в буфете театра торгует? Отвечаю, Кердыбаев. Потому что родителей надо уважать. Чтобы у них был обеспеченный старость. Ты о своем мама, папа не заботишься. Они у тебя нигде не работают. Они у тебя сидят ждут, когда им бог пошлет кусочек сыра. Моя мама-папа не ждут милости от природы, они сами у нее сыр берут. Родителей, Кердыбаев, надо уважать, тогда у тебя дома будет много сыра.

Давай дальше киртикуй, Кердыбаев, мы тебя потом не забудем, если вспомним. Так. Ты спрашиваешь, почему в санаторий «Актер» из всего театра езжу только я. Ай, зачем неправду говоришь? Почему только я езжу? И дочь моя ездит, и муж дочери, и его мама-папа оттуда не вылезают. Мой жена ездит, заслуженная артистка, только что роль Чапаева сыграла. Очень хорошо сыграла, ей даже усы приклеивать не надо. Все ездим. Ты, Кердыбаев, киртикуй, только объективно. Субъективно и подло мы сами умеем киртиковать.
Киртикуй, Кердыбаев. Если хорошо будешь киртиковать, премию дадим. Государственную. Если найдем такое государство, которое согласится дать тебе премию. Так ты, Кердыбаев, спрашиваешь, почему я встречаюсь с молодой, красивой артисткой Шмелевой? Ай, молодец, Кердыбаев, настоящий юный следопыт. Отвечу тебе, Кердыбаев: потому что со старой и некрасивой мне встречаться неинтересно. Сам не понимаю почему.
Ну, давай еще киртикуй, Кердыбаев. Так. Ты, Кердыбаев, спрашиваешь, почему у меня нет театрального образования, а я главный режиссер? Отвечу тебе прямо и откровенно, так, чтобы ты, Кердыбаев, понял. Отвечаю: потому что это не твое дело! Понял? Все!
Теперь я тебя буду киртиковать, Кердыбаев. В самую суть тебя буду поразить. Ты подлый человек, Кердыбаев! Учись, Кердыбаев, киртиковать. У нас здоровый коллектив, а ты мерзавец. Ты успеваешь следить, как я тебя киртикую? Я тебя принял в театр. Не взял с тебя почти ни копейки. Роль тебе дали второго верблюда. Подавай, Кердыбаев, заявление о самовольном уходе. Все. Иди и завтра опять приходи.
Только в другой театр.

Наши женщины
Что ни говорите, но ихним женщинам до наших далеко. Нет, я, конечно, с ихними женщинами близко не знакомился. Они меня близко не подпускали, но чувствую, что им до наших далеко, слабые они перед нашей женщиной.

Возьмем, к примеру, француженку. Вот они, говорят, пикантные, кокетливые. А перед нашей все равно слабы. Представь себе, эта француженка, вся из себя пикантная, приходит в понедельник с утра на работу к миллионеру. Она у него секретаршей работает. А он ей говорит: «Пардон, мадам, вам сегодня в связи с конверсией придется на овощной базе картошку разгружать». И вот она, француженка, вся из себя пикантная, вся во французских духах и вся, можно сказать, в «шанели номер 5», а ей на спину мешок с картошкой – хлобысь! – и нет француженки. А нашей, она в шинели номер 56, ей хоть мешок на спину взвали, хоть два – хлобысь! – и нет картошки.

Филиппинки, говорят, тонкие, стройные, нежные. А перед нашими все равно слабы. Они, понимаешь, тонкие. Между прочим, и у нас тонких навалом. Я лично, правда, не видел, но один мужик говорил, что есть. Правда, у нас их дистрофиками называют. Они, понимаешь, стройные. А покорми-ка их вместо всяких авокадо и бананов картошечкой три раза в день, да надень на эту филиппинку вьетнамскую одежку, «челноками» нашими из Турции привезенную прямо из Караганды, с итальянскими наклейками, да впусти ее в наш автобус в час пик – ей сразу места для инвалидов уступать начнут.

Немки, говорят, хорошие хозяйки. Каждая немка, говорят, может приготовить до пятидесяти разных блюд из разных продуктов. Ну, так то же из разных. Я бы посмотрел, сколько она блюд приготовит, когда у нее всего три продукта: картошка, спички и сковородка. А моя Нинка из одной картошки шестьдесят три блюда сделает, а если с постным маслом, то и все сто. Она из этой картошки в воскресенье такой супец сварганила, что ем уже третью неделю и все равно жив.
Англичанки, говорят, сдержанны, немногословны. А чего тут много говорить, когда пришла в магазин, купила, пошла домой. Ты попробуй быть сдержанной, когда два часа в очереди за этой картошкой отстояла, а пьяные… Потому что пьяные джентльмены все время без очереди лезут, да еще орут на тебя: «Щас как дам фейсом об тейбл!»
Американки активные, спортивные, целеустремленные, а перед нашими все равно слабы. У нашей каждый день кросс по пересеченной местности. Утром проснулась, всех разбудила, накормила, в детсад отвела, на работу отправила, сама на работу прибежала, восемь часов отсидела, потом по магазинам пробежалась, домой пришла и как впервые за день навернула семьсот грамм колбасы, пока картошка жарится! Может твоя американка навернуть семьсот грамм колбасы за один присест целеустремленно? А сдать литр крови затри отгула?
Японки, говорят, тихие, вежливые, миниатюрные. Ну, наших, конечно, миниатюрными не назовешь. А нам и не надо. У нас, между прочим, женской обуви маленьких размеров – раз-два и обчелся. Импортные кусаются, а своя промышленность только сороковой размер выпускает. Вот и представь себе миниатюру: стоит японка в кимоно с веером, а снизу сороковой размер.
Нет, ихним женщинам до наших далеко. Слабы они перед нашими женщинами. Наша тихая, как японка, вежливая, как эскимоска, активная, как американка, на соседей может поорать не хуже итальянки, веселая, как чукча, и нежная, как филиппинка, если ее филиппок рядом.

Наши люди
Товарищи, что сегодня творится в нашей стране? Сегодня в нашей стране происходит коренная перестройка всего нашего образа жизни. Так что многие наши люди вполне могут оказаться лишними. Разные прохиндеи, болтуны, вымогатели, дармоеды и другие паразиты на теле нашей страны. Что с ними делать? Конечно, можно их просто уволить с насиженных мест, и дело с концом. Но ведь они тут же вопьются в наше тело с другой стороны и снова будут пить кровь трудового народа. Спрашивается, как использовать их богатый опыт, который они накопили в деле развала народного хозяйства? От себя лично предлагаю бросить их всех на борьбу с империализмом.

Объясняю. Для начала собираем человек двести этих дармоедов, обучаем их иностранному языку, и весь этот боевой отряд лишних людей забрасываем в какой-нибудь город на Диком Западе.
Они, конечно, быстро там акклиматизируются, быстро с кем надо покорешатся, заведут связи, они это умеют, и быстро внедрятся во все отрасли капиталистического хозяйства.
И вот в один прекрасный день ихний миллионер, капиталист и эксплуататор, приходит в магазин с целью приодеться получше. А там уже наш человек надевает на него костюмчик из сэкономленных материалов, сделанный нашим же человеком в ихней швейной промышленности в конце года. Глядит миллионер на себя в зеркало и теряет дар речи. На нем пиджачок зеленого цвета в косую линейку со стоячим воротничком на пол-лица. Рубашечка типа «мечта комбайнера» с тракторами по всему полю и брючата с капюшоном. Одним словом, в таком виде ему лучше всего выбегать на арену цирка с криком: «Привет из психбольницы!»
Поэтому он бежит в кино, чтобы в темноте отдышаться. А там уже идет наш фильм, сделанный нашими людьми в ихнем Голливуде. То есть фильм о производстве чугунных болванок кокильным способом. Где все еще решается проблема – брать премию или отдать ее врагу. Миллионер кидается в ужасе к такси, а они уже все идут в парк. Наши люди постарались. А своя машина у миллионера давно уже не работает, поскольку он ее нашим ребятам в автосервис сдал. У его «мерседеса» дверца не закрывалась… Через неделю приходит – дверца закрывается, но трех других вообще нет. Он – скандалить. Через месяц приходит – все дверцы на месте, машина ездит, но только в том случае, если ее поставить на гору и сильно толкнуть. Короче, через полгода он получает свой «мерседес» как новенький с колесами от грузовика, движком от «запорожца», все остальное от инвалидной коляски.

Миллионер звереет и бежит в суд, а там уже наш бюрократ требует от него справку с места работы, справку из ЖЭКа, ходатайство от Бермудского треугольника, заявление, две анкеты, три характеристики и четыре фотографии в профиль, фас, стоя и сидя – на всякий случай, а вдруг придется сидеть.
Миллионеру становится плохо, и он бежит в поликлинику, а там уже очередь в регистратуру на месяц вперед, и без флюорографии никого не принимают, а флюорография закрыта на ремонт навсегда. Наконец, через неделю он со скандалом добирается до участкового врача, и тот ставит ему диагноз: ОРЗ с плоскостопием. Дает ему бюллетень на три дня с ежедневной сдачей анализов в соседней поликлинике. И он, миллионер, уже не думает об эксплуатации человека человеком, а думает, как бы ему выжить в этих каменных джунглях.
Вот так, если действовать с умом – любого дармоеда можно заставить лить воду на нашу мельницу.

Поликлиника
Нет, что ни говорите, но, чтобы болеть, надо иметь лошадиное здоровье.
Я иной раз в поликлинике гляну – больные в очереди стоят в регистратуру, и думаю: это какое же надо иметь здоровье, чтобы эту очередь выстоять! Доберешься наконец до окошка регистратуры, а оттуда:
– Что у вас?
– Болит, – говоришь.
– У всех болит.
– Мне бы талон на сегодня.
– Только на завтра.
– Помру я до завтра.
– Ну тогда и талон вам ни к чему.
Подходишь к кабинету врача, а там народу опять – жуть.
Опять думаешь: это же какие силы надо иметь, это же как надо любить жизнь, чтобы такую очередь выстоять! Пока бюллетень получишь, чего только не насмотришься, чего не наслушаешься.
Зашел однажды в кабинет врача. Там двое в белых халатах и шапочках.
– Раздевайся, – говорят.
Я, ничего не подозревая, разделся. Они осматривали меня, осматривали, потом говорят:
– Плохо твое дело, запустил ты себя.
Я говорю:
– А что такое?
Они отвечают:
– А это ты у врача спроси.
Я спрашиваю:
– А вы кто?
– А мы маляры. Потолки здесь белим.
И что интересно, они ведь до меня уже человек десять осмотрели, и никто не жаловался.

Но зато если тебе бюллетень не нужен, каждый врач тебя вылечить норовит. К какому ни зайди, каждый свою болезнь найдет. Я ходил, специально проверял. А чего терять? Мне бюллетень все равно не дают. Зашел к «ухо-горло-носу».
– Чего-то, – говорю, – у меня в боку екает.
Он говорит:
– Это все от носа. Перегородка в носу кривая, воздух не туда идет, легкое раздувается, давит на печенку, печенка екает.
Ладно, думаю, пойду к хирургу. Говорю:
– Чего-то у меня глаза болят.
Он говорит:
– Это все от ног.
Я говорю:
– Как же так?
– А так, – говорит, – вот вы, когда идете, на ноги наступаете?
Я говорю:
– Ну, вообще-то бывает.
– Ну вот, земля на них давит, глаза и болят.
Я спрашиваю:
– Какая связь? Ноги вон где, а глаза вон где.
Он говорит:
– Связь самая прямая. Вот вы молотком себе по ноге стукните – глаза на лоб полезут.
Ладно, иду к глазнику и говорю:
– Что-то у меня живот болит.
Он говорит:
– Это все от глаз.
– Как же, – говорю, – от глаз? Я что, глазами ем, что ли?
Он говорит:
– Вы глазами на еду смотрите, рефлекс срабатывает, сок выделяется, язва получается.
Я говорю:
– Вот те на. Значит, если я на женщин смотрю, что у меня получается?
Он говорит:
– Правильно. Если много смотрите, потом уже ничего не получается.
Ну, думаю, схожу с ума. Пошел к психиатру. Рот открыть не успел, как он мне заявляет:
– Все болезни от нервов.
Я говорю:
– Да я вроде нормальный.
Он говорит:
– Считать себя нормальным – уже сумасшествие. Вот у вас бывает такое ощущение, будто у вас что-то есть, но все время пропадает?
– Да, – говорю, – деньги. Особенно когда лечусь.
Нет, что ни говори, но, чтобы в нашей поликлинике бюллетень получить, надо иметь лошадиное здоровье.

Памятник
У нас в городе решили памятник поставить. Фигуру рабочего, трудом которого создаются все промтовары. Пригласили на наш завод скульптора. Известный скульптор. Он до этого уже не раз лепил образы рабочих: сталевара с кочергой, шофера с баранкой, повара с поварешкой в кастрюле.
Скульптор приехал, стал выбирать, с кого рабочего лепить. Долго ходил по заводу, присматривался. Наконец нашел одного.
– Типичный, – говорит, – рабочий, лицо простое, плечи широкие, руки мозолистые.
Типичный рабочий – это наш главбух оказался. Дирекция завода категорически против выступила, чтобы наш главбух посреди города на площади стоял. Тем более что его вот-вот под суд должны были отдать за хищения социалистической собственности.
Короче, выдвинули меня. Стали работать. Скульптор мне кувалду в руки сунул и давай ваять. Ваял долго, серьезно. Интересно так лепил. За месяц всего вылепил. И похож, знаете, особенно кувалда и кепка. Да что там говорить, хороший скульптор, ему и звание заслуженного хотели дать, но он сам отказался, сказал, что лучше деньгами.
Послали мы эту скульптуру на специальный завод – отливать в бронзе. Открытие памятника назначили на День металлиста. А я себе снова слесарем работаю в родной бригаде.

Подходит День металлиста. В газетах про открытие памятника написали, по радио объявили, из столицы народ приехал. А памятника нет. Не отлили. Может, бронзы не хватило, может, еще чего – нет памятника. Что делать? Вызывают меня к начальству и говорят:
– Мы тут с народом посоветовались, есть мнение. Надо тебе денек отстоять.

Я сразу-то не понял.
– О чем речь, – говорю, – надо так надо, не в первый раз, отработаем.
Они говорят:
– Ты не так понял. Надо тебе в качестве памятника отстоять. Я говорю:
– Как это так?
Они говорят:
– Стоймя. Денек постоишь, а там, глядишь, и памятник к вечеру подвезут.

Стали на меня давить со всех сторон, на сознательность напирать. Да что, я думаю, надо так надо. Намазали мне лицо и руки бронзовой краской. И встал я как миленький с утра на постамент. Накрыли меня простыней. Стою. Полусогнутый, с кувалдой. Стою и думаю: «Вдруг кто до меня дотронется, а я ведь еще теплый. Сраму не оберешься».
В двенадцать часов народ собрался. Речи говорили. Символом меня называли. Собирательным образом. Оркестр мазурку играл. Стали с меня простыню стаскивать, заодно и кепку потащили. Еле успел я ее свободной рукой схватить да на макушку напялить. Сдернули с меня простыню, и в глазах у меня аж потемнело. Вокруг народищу – тьма, и все на меня в упор смотрят. А я стою полусогнувшись с кувалдой в руках и на всех на них гляжу исподлобья. И они все на меня уставились.
Слышу разговоры:
– Вылитый Семенов.
Это я – Семенов.
– При жизни, – говорят, – себе памятник отгрохал.
И даже захлопали все, а жена моя, Клава, заплакала, поскольку хоть и живой, а все равно уже памятник.
Тут все начали скульптора поздравлять. До чего же здорово Семенова вылепил. А при чем здесь скульптор? Кувалда и кепка настоящие, а остальное мать с отцом вылепили.
Ну, пошумели, пошумели и разошлись. А я стоять остался. Солнце печет, а я стою – ни поесть, ни попить. Едва до вечера достоял. Стемнело – я домой побежал. Еле спину разогнул. Только поел – начальство в дверь:
– Спасай, дорогой, памятник не сделали. Давай снова вставай.
Я говорю:
– Завтра с утра – пожалуйста, а в ночную – вот вам, сменщика давайте.
Кого-то они на ночь нашли, а утром я опять на вахту заступил. К вечеру обещали памятник завезти. Стою. Люди разные подходят, глядят, любуются искусством монумента, то есть моим собирательным образом.
– Молодец, – говорят, – хорошо стоит.
К вечеру опять ничего не сделали, пошел на третий день. Потом на четвертый. На пятый день около меня пионеры караулом стали. Стали караулить. А тут еще голуби эти на голову садиться начали. А смахнуть не могу.
– Кыш, – говорю, – поганцы!
А они по-русски ни слова не понимают. Вечером я говорю:
– Извините-подвиньтесь, товарищ, что ж я целыми днями без еды и питья? Брюки, понимаешь, сваливаются – так похудел. Я же вам все-таки памятник, а не верблюд.
Тогда жену мою оформили при памятнике уборщицей – за мной ухаживать. Она одной рукой вроде веником меня отряхивает, а другой втихаря еду в рот сует. Прикроет от людей и кормит из руки, как собаку в цирке.
А тут пионер один подглядел, как она кормит. Я ему говорю:
– Чего уставился, не видал, что ли, как памятник ест?
Так он с перепугу чуть язык не проглотил.
Однажды Витюха подошел, дружок по бригаде. Смотрел, смотрел. Потом говорит:
– Вань, пойдем пиво пить.
Я молчу.
– Хватит, – говорит, – придуриваться, идем, пивка попьем!
Я ему тихо так говорю:
– Кончай, Витюха, не срывай мероприятие.
Но ему, дуролому, не объяснишь. Он на другой день с другими ребятами пришел из бригады.
– Вань, – говорит, – поди тяжело стоять-то?
– А то нет, – говорю, – не так физически, как морально.
– А почему, – говорят, – морально?
– Ну как же, – говорю, – моргать-то нельзя.
Ну что там говорить, на десятый день ко мне экскурсии стали водить. Потом ко мне новобрачные стали приезжать. Клялись в верности. Цветы клали к подножию. Один дядька даже хотел об меня бутылку шампанского разбить.
Осенью дожди пошли, у меня поясницу схватило. Но не уходить же с поста средь бела дня. Вызвали врача из ближайшей поликлиники. Он мне сквозь брюки укол в бронзу сделал. Полегчало. Кабель от столба отвели – стали электрофорез делать.
Где-то к ноябрю я возмущаться стал. Дожди идут, бронзу смывает, я мокну.
– Мне, – говорю, – здоровье дороже.
– Потерпи, – говорят, – совсем чуть-чуть осталось. Кувалду и кепку отлить.
А уже терпения нет. И голуби на нервы действуют. Особенно один. Все время на нос садится. Причем одна лапка на носу, а другая все время соскакивает и в рот попадает.
Однажды курица подошла, в ногу клевать начала. И надо же, место нашла между брючиной и ботинком, прямо в кожу попадает. Тут уж я не выдержал, кувалдой ее шуганул. И сейчас же бабка набежала, кричит:
– Чтой-то ты размахался! Ежели ты памятник, то стой себе, кувалдой не размахивай!
Зима пришла. Я говорю:
– Давайте мне тулуп. Без тулупа даже милиция не стоит.
Выдали тулуп. На работе зарплату повысили, только стой. Стою. Жена говорит:
– А что, Вань, может, это призвание твое – стоймя стоять. Зарплата хорошая, люди к тебе с уважением, цветочки несут.
Стою. Ночую дома, а утром, ни свет ни заря, – на пьедестал.
А тут совсем ерунда. Жена забеременела. Вначале мы скрывали. А тут уж скрывать трудно стало. И пошла потеха. Народ стал говорить:
– Ишь ты, памятник, а туда же…
Гадать стали, какой ребенок родится – бронзовенький или чугунненький.
Весна пришла. Народ в скверики высыпал. Потеплело. А я стою, как пень.
Можно, конечно, и стоять. Зарплата идет. А с другой стороны, думаю: кто ж я такой? Памятник рабочему человеку, трудом которого все на земле сделано. Или этот самый рабочий человек и есть. А если я рабочий, то чего я здесь делаю? И зарплата моя липовая, и сам я липовый. И руки мои по простому напильнику соскучились. И сказал я:
– Все, ребята.
А тут и памятник привезли. Ночью меня на этот памятник и обменяли.
Утром народ пришел, а там настоящий памятник стоит. Поглядел народ и говорит:
– А Ванька-то наш лучше стоял. Ванька ну прям как живой был.

Свинство
Вообще это хорошее дело – устраивать на предприятиях подсобные хозяйства. Ну, там выращивать в оранжереях лук, чеснок и другую закуску. А потом продавать ее в столовой тем, кто ее выращивал. В некоторых хозяйствах кроликов разводят, а у нас, в НИИ электроники, вообще не знали, чем тоже заняться.
Собрали общее собрание. Директор говорит:
– Товарищи, давайте решать, средства у нас есть, пристройка на первом этаже пустует, кого будете разводить?
Одни кроликов предлагали, другие сусликов, а вахтер наш встал и говорит:
– Давайте крокодилов разводить.
Его спрашивают:
– А почему крокодилов?
Вахтер говорит:
– А потому, что из них потом кобура хорошая получается.
А Сидоров, он у нас шутник, говорит:
– А зачем крокодилов, давайте лучше нашего вахтера разводить. И продавать в слаборазвитые страны. Почище любого крокодила будет.
Вахтер обиделся, стал кричать, что не позволит себя разводить, что у него справка есть, что у него никого быть не может. Одним словом, еле успокоили.
Тут технолог Петров встает и говорит:
– Давайте нутрий разводить, все будем тогда ходить в дубленках.
Народ у нас в институте грамотный, все с высшим образованием, стали доказывать Петрову, что это совсем разные животные – нутрии и дубленка.
А он говорит:
– Вы меня не так поняли: мы нутрий будем на рынке продавать, и все будем ходить в дубленках.
Народ, конечно, обрадовался. Но директор говорит:
– Чушь это все, нам надо электроникой заниматься, а мы еще будем по рынкам шляться. Вот что, у нас от столовой отходов полно, будем разводить свиней, если, конечно, они не отравятся.
А Сидоров говорит:
– А чего их разводить, когда у нас и так каждый второй…

Директор говорит:
– Что-что?
Сидоров говорит:
– Нет-нет, вы первый…
Но директор его перебил:
– Раз вы так хорошо в свиньях разбираетесь, вы и будете отвечать за их размножение.
Одним словом, в воскресенье поехали в колхоз, закупили пятьдесят штук поросят, привезли их на работу и запустили в пристройку.
Они шустрые такие, хрюкают, визжат, бегают, ищут чего-то.
Директор говорит Сидорову:
– Спросите у них, чего они хотят.
Сидоров говорит:
– Я вам что, переводчик, что ли, со свинского? Сами не видите? Есть они хотят.
И действительно, мы про еду-то забыли, а столовая в воскресенье закрыта. Побежали в соседний магазин, накупили чего было: хлеба, макарон… Стали кормить.
Директор говорит:
– Вот что, тут пятьдесят свинюшек, каждый из нас должен взять шефство над одной из них.
Стали выбирать. А они же все одинаковые. Тогда принесли масляной краски, и каждый на своей фамилию вывел. И теперь бегают по пристройке: свинья Иванов, свинья Сидоров, а который без надписи, тот директорский.
Директор говорит:
– У кого будет больше веса и приплода, тому зачтем как кандидатскую диссертацию.
И началось! С утра приходим – и сразу к этим дармоедам. Каждый к своему – и давай кормить. Кто кашей гречневой, кто селедкой. Сидоров своему даже один раз с дня рождения торт принес. Кремом ему всю физиономию вымарал, но все же заставил с чаем съесть.

Дней через пять у нас в институте с кислородом как-то значительно хуже стало. Прямо какое-то кислородное голодание началось. Нет, мы, конечно, за ними убирали, но они делали в два раза быстрее, чем мы убирали.

Недели через две народ книжки уже читает не по электронике, а по свиноводству. Стойла сделали, кормушки, свет – все по науке, и для лучшего роста музыку включили. Заметили, что под Пугачеву свиньи едят в два раза больше. А от симфоний их просто несет. А растет эта живность не по дням, а по часам. Еще бы, каждый своего чем может ублажает. Я лично видел, как директор поил своего чешским пивом, кормил воблой, а по воскресеньям возил на персональной машине за город загорать.
Месяца через три они у нас так созрели, что мы стали ждать от них приплода. Неделю ждем, другую, третью. Никого.
Сидоров первый догадался.
– Напрасно, – говорит, – ждете, поскольку они все как один – свиноматки, им для размножения нужен хоть один свинопапка.
Директор говорит:
– Надо доставать быка.
Сидоров говорит:
– И что он с ними будет делать?
Директор ему говорит:
– Вот вы ему и объясните, что делать, если сами не забыли.
Сидоров говорит:
– Я в том смысле, что у свиней бык хряком называется.
Директор говорит:
– А мне все равно, как он у них называется, главное, чтобы он был. Иначе вы у меня сами им станете.
Сказал, а сам в Лондон укатил, станок покупать. Недели через две возвращается, открывает огромный баул, а оттуда выскакивает здоровенный английский боров. Сбил директора и кинулся к свиньям.
Сидоров говорит:
– Да, такому ничего объяснять не надо, такой сам что угодно объяснит.
Ну и жизнь, я вам скажу, у нас пошла. Народ работу бросил и выстроился в очередь к борову. Скандалы начались:
– Почему Семенова без очереди?! Вы здесь не стояли!
Зато хрюшки по институту довольные ходят. На наших женщин гордо поглядывают. Ну а уж когда опорос пошел, тогда у нас такое свинство началось, что в округе разговоры пошли, будто мы выпускаем секретное химическое оружие, которое убивает запахом в радиусе ста восьмидесяти километров.
А мы принюхались. Нам – ничего.

Летаргический сон (по М. Зощенко)
У нас тут старичок после тяжелой и продолжительной жизни заснул летаргическим сном. Ну, это потом стало известно, что он заснул. А в тот момент все подумали, что он умер. Или, другими словами, его кондратий обнял.
И надо сказать, что этот старичок был, по мнению окружающих, очень вредный. Он работал бухгалтером в потребсоюзе и своей честностью и принципиальностью буквально никому не давал житья. Ему, бывало, товарищи по работе скажут: «Степан Егорович, подпиши эту бумажку, и мы втроем по тысяче рублей получим». А он – ни за что. И главное, ничего особенного ему за это не грозило. Ну, максимум года три. А он – ни за что. Не хочет сидеть, хоть ты лопни! Вот такой был принципиальный! И из-за своих принципов он прожил всю жизнь в одной комнатенке в коммунальной квартире. Со всей своей семьей. Значит, он, здесь же его дочка, прямая наследница по части вредности, муж дочки, тоже тот еще тип… И ихний ребенок. Вылитый старик. Только с зубами.
Старичок встал на очередь на жилье в райисполкоме в тысяча девятьсот… вот что в тысяча девятьсот – помню… В общем – как райисполкомы организовались… Короче говоря, наконец подошла его очередь, а он взял и, по мнению окружающих, отдал концы. Без старика не дадут, метража хватает. А уже деньги на мебель в долг собрали. А старик взял и отбросил сандалии. Отбросил, значит, сандалии и так без сандалий и лежит.

День лежит, второй… На третий день сосед по коммуналке заподозрил чего-то неладное и говорит:
– А где это наш дорогой Степан Егорович, что его третий день не видать?
Дочка говорит:
– А он занят!
Сосед говорит:
– Чем же он так занят, что третий день в туалет не ходит?
Дочка говорит:
– А вы откуда знаете? Вы что, за ним следите?
Он говорит:
– Почему – следите? Я сам третий день не выхожу оттуда! – и рвется в комнату.
А дочка его не впускает.
Тогда он на них наслал «скорую помощь». И вот часа через два появляется врач из больницы, судя по грязному халату, старичка слушает и потом говорит:
– Мне сдается, что он на тот свет перекинулся. Вы его, случайно, не отравили?
Дочка говорит:
– Что вы такое мелете? Как же могли его отравить, если мы его дома вообще не кормили?
А муж дочки заявляет:
– Вы нам голову не морочьте. Или делайте ему какой-нибудь укол от ОРЗ, или убирайтесь!
Врач говорит:
– Нас не учили мертвых лечить!
Тут дочка видит, что врач уперся, и говорит:
– Мы, конечно, все понимаем, может, он и действительно умер, но нельзя ли как-нибудь так, чтобы еще дней семь – десять он был бы для нас живой?.. То есть не то что он совсем умер, а так… частично скончался…
Врач говорит:
– Мне все равно. Я сейчас напишу в справке по-латыни «дал дуба», а вы сами расшифровывайте, что с ним.
Короче, делать нечего, квартира накрылась, значит, надо старика хоронить.
Правда, когда на работе узнали, что старик приказал долго жить, от радости до потолка запрыгали и, не жалея никаких общественных денег, стали оформлять похороны. Лишь бы побыстрее увидеть дорогого Степана Егоровича в гробу в светлой обуви.
Всем потребсоюзом приехали на кладбище, устроили митинг, говорили, какой это был героический старичок и как его принципиальность помогала строить в ихнем потребсоюзе светлое будущее. И даже дочка речь толкнула про отца, про то, какой он был в быту неприхотливый.
А двое сослуживцев стоят в почетном карауле и между собой говорят, что эти мужики, которые могилу рыли, восемьдесят рублей содрали. Но, слава богу, на венки было выписано двести сорок рублей, а на оркестр триста двадцать на восемь музыкантов.
И что вечером все неистраченные деньги будут делить.
И когда все стали к старичку подходить, чтобы в лоб поцеловать, один из этих двоих нагибается и говорит:
– Прощай, незабвенный Степан Егорович!
А Степан Егорович обнимает сослуживца за шею и говорит:
– Ах ты, сукин сын! Не прощай, а здравствуй! Я давно не сплю и все слышу! И все давно подсчитал. Тут венков всего на двадцать два рубля тринадцать копеек! И музыкантов не восемь, а четыре штуки!
У сослуживца глаза на лоб полезли. Он рванулся на свободу, но старик его крепко зажал. Тот давай его от себя отдирать, гроб опрокинулся, старик из него выпрыгнул и давай белыми тапочками размахивать:
– Я вам сейчас покажу светлое будущее!
Народ врассыпную. Дочка ему наперерез с криком:
– Папаня вернулся! Идем скорее за ордером!
Он и дочке врезал:
– Думала меня вместо восьми метров на двух уложить?!
В общем, народ, ломая ноги, понесся с кладбища.
А старичок еще долго над своей могилой буянил. Отобрал у мужиков восемьдесят рублей. Орал, что за эти деньги он им сам могилу выроет! Возмущался, что гроб дешевый, а речи формальные.
Потом вернулся домой и стал по себе поминки справлять. Ел и говорил, что при жизни его так вкусно никогда не кормили. На следующий день явился на работу и сказал:
– Сукины дети! Запомните! Я к вам и с того света с ревизией заявлюсь!

Наш человек в Канаде
Поскольку у председателя колхоза дел было полно, решили послать в Канаду районного инструктора, человека проверенного, который до этого уже тридцать лет работал в районе. Инструктор знал, что Канада – страна контрастов, что там стоят небоскребы, а рядом трущобы. Приехав в Канаду, Петр Сергеевич сразу увидел рядом с небоскребами двухэтажные дома на одну семью.

«Это и есть, видно, ихние трущобы», – подумал Загоруйко.
В первый день его возили к мэру на прием. Мэр Петру Сергеевичу понравился. Человек общительный, он все время старался поговорить с Загоруйко напрямую, без переводчика. Ну и поговорили: Загоруйко знал всего одно английское слово «гууд морнинг», амэртри: «водка», «ка-ра-шо» и «Евтушенко».
На другой день Петра Сергеевича привезли на ферму, где суждено ему было прожить целых полгода.
Встретили его два молодца – Майкл и Джон – и их мама Мэри.
– Гууд морнинг, – сказал Загоруйко.
Ответ он услышал на чистом канадском:
– Здоровеньки булы, дядьку.
Фермеры оказались выходцами с Украины. Сразу после революции их дед драпанул сюда, подальше от исторического материализма.
Показали Загоруйко дом, большой и чистый. Столовая метров тридцать напополам с кухней, две спальни и два туалета.
«Один, видно, для гостей, – подумал Загоруйко. – Что же это за гости такие, что в хозяйский сходить не могут?»
Внизу в подвале оказался бар, в нем было полно спиртных напитков и никакой очереди.
Против нас, в смысле выпить, они, конечно, слабы оказались. Мы пьем сильнее, чем они работают. Петр Сергеевич в этот вечер четыре литра выпил и еще бы мог, но на соседней ферме все спиртное кончилось.
С утра фермеры были изрядно помяты, а Петр Сергеевич Загоруйко был свеж как огурчик. Пошли осматривать хозяйство. Хозяйство большое – тысяча гектаров земли, семьдесят коров и тысяча пятьсот бычков – основной продукт фермы. Осмотрели все, Загоруйко говорит:
– Ну что ж, мужики, собирайте народ, будем проводить общее собрание.
Но никто не сдвинулся с места. Загоруйко снова:
– Зовите всех, мать вашу так.
– Кого звать? Мы все уже собрались. Майкл, Джон и мать наша так Мэри.
Загоруйко говорит:
– Как же собрались, вас же всего трое, а где механизаторы, зоотехник, агроном, бухгалтерия? Где, наконец, представитель правящей партии в виде парторга?
Майкл говорит:
– Это мы все и есть.
– Ладно, – говорит Загоруйко, – тогда приступим к работе.
Встал на бугорок и закричал:
– Товарищи, граждане фермеры, сегодня мы вместе с вами вступаем в решающий этап борьбы за продовольственную программу. Мобилизуем все силы! Обгоним США по молоку и мясу. Мы все как один!
Майкл и Джон говорят:
– Нам коров кормить пора.
– Вперед, – кричит Загоруйко, – к победе свободного труда!
Тем временем Майкл подъехал на грузовике, опустил моток сена, проехал вперед, сено размоталось, коровы подошли, стали сено жевать. Загоруйко даже дар речи потерял от такой быстрой победы свободного труда. На все ушло минуты три, не больше.
«Ладно, – подумал Загоруйко, – мы свое возьмем».
Наступила весна. Загоруйко снова собрал собрание. Встал на пригорок.
– Мужики, – закричал он, – встретим посевную во всеоружии, все как один возьмем повышенные обязательства, развернем соцсоревнование!
Фермеры говорят:
– Дядьку, о чем это вы? Мы все понять не можем, о чем это вы кричите и руками размахиваете.
Загоруйко говорит:
– Ну как же, должен же я вас на трудовой подвиг вдохновить!
Они говорят:
– Работать надо!
– Ладно, – говорит Загоруйко, – вы все начинайте, а я поеду в район, нет ли каких распоряжений от начальства.
Они говорят:
– Нет распоряжений, и начальства тоже нет.
Вот так-то. У них с начальством плохо, зато с продуктами хорошо. У них продуктов приблизительно столько, сколько у нас начальства.
В общем, пришлось Петру Сергеевичу Загоруйко вкалывать. Давно он так не вкалывал. От зари до зари. Вечером уже с ног валился.
– Отбой, – говорит, – мужики.
– Нет, – отвечают, – коров надо доить.
– Зовите, – говорит Загоруйко, – доярок.
Они говорят:
– Мы эти самые доярки и есть.
Пошли доить.
«Ладно, – подумал Загоруйко, – не боги горшки обжигают».
Подставил ведро под первую попавшуюся корову – и давай наяривать. Фермеры долго смотрели на то, как он доит, потом Майкл сказал:
– Дядьку, оставьте в покое быка. Он ни в чем не виноват. У нас в Канаде доят только коров.
Завели корову в специальное устройство и в два счета отдоили.

Подошла осень. Загоруйко рассчитывал, что приедут инженеры, помогут собрать урожай. Однако пришлось собирать втроем: Майкл, Джон минус Загоруйко – он тоже внес свой вклад: сломал две косилки и трактор.

Думал также Загоруйко, что вот придется быков на бойню гнать, сколько веса потеряется. Но приехали какие-то мужики, погрузили всех бычков и отвалили за это миллион. Загоруйко аж обомлел.
– Ребята, – говорит, – мы что же, грабители какие? Куда же этот миллион девать?
Фермеры говорят:
– Мы свою долю в банк положим под проценты, а вы на свои тридцать тысяч делайте что хотите.
Загоруйко говорит:
– Ребята, за что же мне тридцать тысяч, я все же не так вкалывал?
– А за то, – говорит Майкл, – чтобы никогда в жизни вас здесь больше не видеть.
А Джон говорит:
– Да шутит он, если хотите, на будущий год снова приезжайте, только не работать, а в гости, отдыхать. Это нам дешевле обойдется.
И поехал Загоруйко домой. Половину денег в посольство отдал, а на десять тысяч избу себе построил с двумя туалетами, а остальные пять тысяч в банке держит. Вот как в железную банку положил, там и держит.

Канадец в колхозе
Когда канадский фермер Сэм Воткинс приехал в Советский Союз, кто-то сказал ему, что здесь успехам в сельском хозяйстве мешают всего лишь четыре объективные причины. Этими причинами оказались: осень, зима, лето и весна. Канадец вежливо посмеялся, думая, что это шутка, но когда он приехал в колхоз, то понял, что в этой шутке есть доля правды.
На площади возле правления стояло много народу. По всей видимости, они ждали приезда дорогого гостя и готовились к встрече основательно. Некоторых уже держали под руки.
Фермер до этого изучал русский язык, знал его не очень хорошо, но все же понял, что многие из собравшихся вспоминали его родную маму, а некоторые еще и бабушку. Мужики клялись, что лично знали родственников фермера по женской линии, хотя предки его приехали в Канаду не из России.
Затем все пошли в правление, и там началось общее собрание. На сцену вышел человек в пальто и стал говорить о сокращении ракет средней и ближней дальности. Этот человек был из райисполкома, и фермер понял, что они там, в исполкоме, производят ракеты, а теперь в связи с приездом фермера хотят прекратить этим заниматься.
Потом на трибуну вышла женщина, которую фермер никогда раньше не видел, и стала кричать, что, хотя фермер из Америки, он тоже человек, ударник капиталистического труда, но, если американцы не уберут свои руки от Никарагуа, она лично сделает фермеру козью морду. Фермер не понял, зачем ему лицо козла, но почувствовал, что Никарагуа надо оставить в покое.
На следующее утро Сэм Воткинс пошел в правление. В комнате сидели шестеро мужчин и что-то мерили линейкой на карте района, потом что-то считали на калькуляторе, потом проверяли на счетах, потом снова мерили. Они были очень увлечены своим делом, но все же один из них объяснил, что в деревне запретили продавать водку и они теперь рассчитывают, куда ближе за ней ездить.
Затем Сэма повезли на ферму крупного рогатого скота. Так у нас называют обычных деревенских коров. Когда фермер и сопровождающие его лица подошли к ферме, стало ясно, что через ворота они внутрь не попадут, потому что ворота лежали перед фермой вместе с забором.

Навстречу им не то бежал, не то плыл человек в резиновых сапогах, сатиновых джинсах, телогрейке и галстуке на голое тело. Фермер подумал, что галстук в его костюме предмет лишний, но, когда человек высморкался в этот галстук, стало ясно, что галстук ему просто необходим. Это был зоотехник Коля. Он сказал: «Все путем», – и этим самым одному ему известным путем провел всех на ферму.
Скот был действительно рогатым, но совсем не крупным.
Фермер спросил:
– А где же крупный?
Коля ответил:
– Был, да весь вышел.
Фермер не понял идиомы и спросил, куда вышел скот и когда вернется. Но Коля не объяснил. Видно, сам не знал.

Тогда фермер спросил:
– А почему коровы лежат?
Коля быстро нашелся и ответил:
– А это порода такая, всегда после обеда лежат.
Фермер спросил:
– А когда был обед?
Коля почесал в затылке и ответил, что последний раз обед был осенью.
Фермер спросил:
– А не пробовали кормить чаще?
– Пробовали, – сказал Коля, – но тогда самим жрать нечего.
После этого фермер потребовал, чтобы собрали животноводов. Пришла одна пожилая женщина в платке.
Фермер спросил:
– А где остальные?
Женщина сказала, что остальные в составе городского десанта. Фермер насторожился. Он, конечно, и раньше слышал о советской военной угрозе, поэтому поинтересовался, на какие объекты будет сброшен десант.
– На колбасу, – ответила женщина.
На следующий день фермер с главным инженером пошли проверять трактор и механизмы. Половина из них не работала, потому что не было запчастей.
Фермер спросил механика:
– Где можно взять запчасти?
– Где-где? – сказал механик и дальше объяснил «где» буквально одним словом, но переводчик переводил это слово почему-то очень долго, а в конце сказал, что по этому адресу найти запчасти совершенно невозможно.
Фермер сказал, что надо начинать сев, иначе не успеть. На что механик почему-то посоветовал ему пройтись пешком и посмотреть, как растет на полях русская огородная культура – хрен.
Загадочная русская душа. Сэм Воткинс не понимал ничего. Он не понимал, почему эти люди все время друг друга куда-то и зачем-то посылают. Но никто никуда и ни за чем не идет. Он не понимал, почему вдруг в самую жару во всех избах сразу начинают дымить трубы, а агроном говорит: «Все, завтра все будут в лежку».
Он не понимал выражения: «взять то, что плохо лежит». Стоило что-нибудь положить, как кто-то решал, что лежит плохо, и брал домой, чтобы лежало хорошо.
Еще он не понимал, почему колхозники столько пьют. Ему объяснили, что пьют здесь всего лишь по двум причинам: с горя или на радостях. Он наблюдал одного человека, который на радостях выпил столько, что ему стало плохо, тогда он с горя выпил еще больше.
Однажды Сэм шел по улице и увидел, как один человек копал ямки, а другой шел за ним следом и эти ямки закапывал. Сэм удивился и спросил:
– Почему первый копает, а второй закапывает?
Ему ответили, что копает действительно первый, а закапывает третий, а не второй. Второй должен был сажать деревья, но не вышел на работу.
И этого Сэм Воткинс тоже понять не мог. Зато он понял, что это великий народ.
– Если вы, – сказал он, уезжая, – в этих невероятных условиях, которые сами же себе и создаете, все-таки собираете урожай, который, правда, потом негде хранить, и при этом сыты и здоровы, значит, ваш народ непобедим. И это мы у вас должны учиться!

Объезд по кривой
Председатель сельсовета колхоза имени 8 Марта Ступкин положил трубку и сказал председателю колхоза Будашкину:
– Ну что ты будешь делать, что ни день, то нелегкая.
– Что еще? – равнодушно спросил Будашкин.
– Американцы к нам приезжают.
– Ну и что? – сказал Будашкин. – Есть что показать. Работаем не хуже других.
– Это верно, – сказал Ступкин, – да по сегодняшнему дню мало. Сейчас, вишь, время гласности, долой, так сказать, лакировку действительности. Надо вскрывать теневые стороны жизни.
– Вскроем, – сказал Будашкин. – И на солнце есть пятна. Самсониху недавно поймали: самогон гнала. Сенькин прогулял неделю.
– Эх, друг мой Будашкин, мелко ты мыслишь. Тут ведь не какие-нибудь итальянцы приезжают, которым макароны на уши навешать можно. Американцы! У них там наркомания, гангстеры, СПИД, а мы все по мелочам – самогонщики да прогульщики.
– Да где ж мы этих гангстеров возьмем?

Правда, у нас вон в прошлом месяце Колька Дерябов коромыслом инженеру голову пробил.
– Ну и что?
– Может, за гангстера сойдет?
– Нуты, Будашкин, даешь, – усмехнулся Ступкин. – Начальство требует показать недостатки на уровне мировых стандартов. Время сейчас, Будашкин, такое – критиковать надо все по-черному.
– Ну вот Степанькина на прошлой неделе баклажанной икры съела две банки, отравилась вдрызг, так фельдшер ей на три литра клистир поставил. Она так орала, что в соседних домах люди спать не могли.
Ступкин уставился на Будашкина:
– Ты хоть понимаешь, что ты несешь? Какой клистир, какая икра? Это что ж, нам идти вперед мешает?
– Ну не спали же люди всю ночь. Работать на другой день не могли.
– Да ты рехнулся, что ли? Ты почитай газеты, что в стране творится! В Сочи, в Туапсе проститутки гуляют. В Москве в обществе «Память» антисемиты завелись, молодежь на голову целлофановые мешки надевает, дезинсекталем для кайфа дышит, а ты – клистир. Ты что, газет, что ли, не читаешь?
– Я вкалываю, – сказал Будашкин, – мне разлагаться некогда.
– Ты это брось, – сказал Ступкин, – мы с тобой одно общее дело делаем. Все самокритикой занялись. Неужели мы с тобой в хвосте плестись будем? Давай готовься, газеты почитай и собирай общее собрание.
Вечером в правлении колхоза собрали общее собрание.
– Товарищи, – сказал Будашкин, – завтра к нам приезжает американская делегация. Вы, конечно, знаете, народ грамотный, у нас сейчас линия взята на вскрытие недостатков. Сейчас в печати правильно пишут про всех, кто мешает нам жить, – это, значит, бюрократы, пьяницы, хулиганы. Кое-где нет-нет да еще встречаются наркоманы.
– Это где же они встречаются? – спросил конюх Митрич. – Чтой-то я их давно не встречал?
– Кого? – спросил Ступкин. – Кого ты не встречал?
– Ну, этих, наркоманов. У нас вроде наркоманы до войны были, а уж после войны министры повелись.
– Вот чучело, – сказал Ступкин. – Не наркоманы, а наркоманы. Это люди, которые курят марихуану. Понял?
– А-а-а, – почесал в затылке Митрич, – марихуану – это тогда конечно.
– Есть еще в зале кто, которые не знают, кто такие наркоманы? – спросил Ступкин, пристально вглядываясь в зал.
Все молчали. По всей видимости, знали или, во всяком случае, догадывались.
Ступкин все равно объяснил:
– Марихуану делают из конопли.
Народ зашумел облегченно. Коноплю знали. Эвон на пустыре травка растет.
– Вот из этой конопли и делают такое зелье, которое дурманит почище водки, ясно?
– Эхма! – сказал слесарь Артемкин. – Кабы раньше-то знать!
– А как зелье-то делать? – спросили из зала.
– Это кто спросил? – стал всматриваться в зал Ступкин. – Я тебе сделаю зелье!
– Значит, продолжаю, – сказал Будашкин, – наркоманы есть, значит, антисемиты.
– А это что ж за пугала такие? – спросила доярка Свиридова.
– Антисемиты, – сказал Ступкин, – это такие шовинисты, которые не любят семитов.
– А это кто ж такие? – спросила Свиридова.
Народ ее поддержал. Всем было интересно, кто это такие.
– Это нация такая, – сказал Ступкин, – маленькая, но шустрая. Помните, в прошлую осень к нам из института приехали инженеры картошку копать? Рабинович у них был, помните? Так вот этот еврей и есть семит.
– Хороший мужик, – сказала Семеновна, – моего оболтуса по арифметике на четверку натянул, а у него сплошные двойки были.
– А я что говорю? Люди как люди. А эти антисемиты их не любят. Одни негров не любят, другие семитов.
– Так это что ж, – закричал конюх Митрич, – вот эти антисемиты к нам из Америки и приезжают, что ли, наших семитов бить?! Дождутся, мы к ним попадем – всех ихних семитов перебьем!
– Ну вот что, – сказал Ступкин, – хватит дебатов. Дело такое, приезжает к нам американская делегация фермеров. Приличные, можно сказать, люди, то есть классовые враги. Одним словом, представители рабочего класса трудовой Америки, другими словами, агрессоры. Поступило указание показать им наши недостатки во всей ихней красе. Значит, я так понимаю, чтобы были у нас и наркоманы, и проститутки, которых называют почему-то путанками, и антисемиты – в общем, чтобы был процент морального разложения. В небольшом, конечно, количестве. Какие будут предложения?
Зал долго молчал. Потом поднялась почтальонша Нюра и сказала:
– Я, может, чего не поняла, но вот эти путанки – это что ж, которые с разными мужчинами за деньги или так?
– Как это – так? – спросил Ступкин.
– Ну, так, – зарделась Нюра, – ну, с разными, и все за так.
– С нашими – за так, с иностранцами – за деньги, – сказал Ступкин. – Прессу читать надо.
Тут вскочила Мария Дмитриевна, завмаг, и закричала:
– Что же это такое?! Мы тоже молодыми были, но чтоб за деньги – никогда в жизни! Это же разврат получается! И кто же призывает нас к разврату – сам председатель!
– Вот что, граждане, – сказал Ступкин, – никто вас к разврату не призывает. Речь идет о том, чтобы показать американцам, что у нас есть то, чего у нас на самом деле нет.
– Ну давайте, – предложил кто-то, – покажем им, как крыша на скотном дворе прохудилась.
– Залатали уже, – сказал председатель.
– Ну самогонщицу покажем.
– Ее уже в район увезли.
– Ну хорошо, – предложил кто-то, – давайте Васька Ежов напьется и обматерит их так, что они всю жизнь вспоминать будут.
– Товарищи, – сказал Ступкин, – ну что это за распад?! «Крыша протекла», «пьяный обматерит». Это же прямо по-нищенски, когда в мире СПИД, мы с вами будем ерундой заниматься.
– Эвон, – задумались мужики, – ты что предлагаешь-то?
– Я предлагаю, – сказал Ступкин, – назначить на завтра, на один день, кто у нас будет антисемитом, кто проституткой, кто наркоманом, кто голубым.
– Кем-кем? – спросили с первой лавки. – Белых помним, а голубые – это кто?
– Голубые – это когда мужик встречается с мужиком.
– И тоже за деньги? – спросил слесарь Артемкин.
– За еду! Как получится, – сказал Ступкин. – Вот через них и получается этот СПИД.
– Это кто же из них спит? – закричал кто-то.
– СПИД – это болезнь, которой болеют в Америке из-за этих голубых, чтоб им всем пусто было. Одним словом, давайте предложения. Кто сам добровольно на завтра пойдет в путанки?
Желающих не было.
– Давай ты, Глаша, – сказал Ступкин секретарю комсомольской организации. – Ты у нас человек проверенный.
– Ни за что! – Глаша пошла пятнами. – Мне замуж выходить, а я в путанки пойду.
– А валюту дадите? – спросила вдруг продавщица сельпо.
– Два отгула дам, – сказал председатель.
– Годится, – сказала продавщица. – Но только на один день. Послезавтра – никто не подходи!
В антисемиты выбрали самого скандального и злющего человека в деревне – счетовода Микиткина.
Наркоманами согласились за две машины навоза стать Свеколкин и Базаров.
Голубым долго никто становиться не соглашался. Нашли одного командированного, которого до этого не отпускали домой, пока он не наладит сепаратор. Вместо сепаратора он обещал отработать один день голубым. Ну и по мелочам уговорили кое-кого.

На другой день делегация американских фермеров прибыла в колхоз имени 8 Марта. Фермеры были загорелые, крепкие, некоторые с женами. Встретили их хлебом-солью. Долго водили по полям, показывали сад, ферму, комбайны. Днем угощали обедом, а уже во второй половине дня повели по злачным местам.

Первым злачным местом была изба счетовода Микиткина. Семен Макарович сидел на лавке под кумачовым лозунгом, где черной краской было выведено: «Бей жидов – спасай Россию!» Переводчик перевел лозунг фермерам. Они насторожились и стали задавать вопросы.
– За что же вы их так не любите? – спросил один из фермеров.
– А как же их любить, – отвечал счетовод, – ведь они же все как один – семиты. Вот, к примеру, первый из них семит Егоров Ерофей Кузьмич или этот – яблоки на базар вез. «Возьми, – говорю, – моих полпуда». Где там! Жадные, одно слово – жады! Весь колхоз как один – семиты! Только в прошлую осень один приличный человек был, да и тот Рабинович.
Американцы вышли несколько озадаченные. Следующей была изба продавщицы нашей, Клавдии Ивановны. Председатель, входя, сказал:
– Вот, познакомьтесь, это наша передовая проститутка, так сказать, валютная путанка.
А путанка Клавдия Ивановна, пятипудовая женщина, сидела у самовара, распаренная, в тренировочных штанах, грудь колесом, размалеванная и в бигуди.
Председатель Будашкин сказал:
– Работает уже в счет будущей пятилетки. Производительность нашей путанки неуклонно растет.
Клавдия Ивановна томно посмотрела на фермеров, вытерла пот со лба и сказала:
– Желающие есть?
Желающих не оказалось. Один из фермеров спросил:
– А какие у вас условия работы?
– Оплата у нас, проституток, сдельная, – отвечала Клавдия Ивановна. – Сколько заработаешь, столько и получишь. Клиент всегда прав. Бывает, правда, машина подъедет, а грузчиков нет, сама, как проститутка, мешки на себе таскаешь. Подсобник запил, товаров с базы не дождешься. Всему начальству давать приходится на лапу. Ой, батюшки, трудно нам, колхозным путанкам, ой трудно!
Американцы уходили довольные. А один фермер, маленький такой, даже норовил остаться, объясняя, что он желающий. Но Клавдия Ивановна, пользуясь тем, что вся делегация ушла, поднесла к носу фермера свой кулачище величиной с его голову, и фермера как ветром сдуло.
В следующей избе разместился целый вертеп: в сенях Федька Базаров курил кальян, сидя по-турецки, в валенках и телогрейке, в комнате передовик Костя Свеколкин, нанюхавшись вместо героина сахарной пудры, орал не своим голосом, что видит светлое будущее, а в углу Костя Баранов с оглоблей в руках предложил американцам «рашн балдеж», а Ступкин пояснил:
– Тем, кто хочет побалдеть, Костя сильно бьет оглоблей по балде, и клиент балдеет до тех пор, пока не вынесет свою балду из реанимации.
Голубой, которому не нашли пары, грустно сидел в углу и, обливаясь слезами, демонстрировал свой любимый сепаратор. Американцы радовались как дети. Они долго хлопали по плечу председателя и говорили, что у себя в Америке они такого разврата никогда в жизни не встречали. Когда американцы уехали, председатель Будашкин сказал:
– Хотели по мясу обогнать, обогнали по разврату.
– Ничего, – сказал Ступкин, – мы их раньше по вранью обгоняли, а теперь по правде уделали.
Председатель Будашкин грустно посмотрел на Ступкина и сказал:
– Дурью маемся, а надо бы делом заниматься.

Сложный случай
– Доктор, болит голова. Температура небольшая, но противная. И ломит в суставах перед непогодой.
– Спите нормально?
– Не очень.
– А бывает так, что кофе выпьете и заснуть не можете?

– Да, точно бывает.
– Особенно от бразильского кофе?
– Да от любого.
– Нет, не скажите, бразильский самый лучший. Я лично пью бразильский, когда достаю. Сейчас трудно с бразильским, а другой я не пью.
– Доктор, температура небольшая, но противная.
– А позавчера в магазине за чаем стояла. Индийский давали. Передо мной кончился, а я другой вообще не пью. Только индийский. Но где его теперь взять, ума не приложу!
– Доктор, и суставы ломит. Если перед плохой погодой. Отчего это?
– Это от погоды. Если погода меняется, у вас суставы ломит, верно?
– Точно.
– Это от погоды. Это бывает. Погода меняется, суставы болят. Это от погоды.
– И температура небольшая, но противная. От нее чувствую себя плохо.

– Крабы пропали. Раньше один больной доставал. Потом сам пропал. Либо вылечился, либо перешел к другому врачу. Нет, он вылечиться не должен был так быстро. Он секцией в продуктовом заведовал, такие болеют подолгу, если попадут к хорошему врачу. Значит, перешел к другому. Или переехал. Но только не вылечился.
– И болит, доктор, голова.
– А не подташнивает?
– Тошнит.
– А отчего?
– Даже не знаю.
– От икры?
– Нет, от икры не тошнит, это я точно знаю.
– Вот и меня тоже. От икры не тошнит, особенно от черной не тошнит. От красной тоже не тошнит, но уже не так сильно. Воту меня один больной был…
– А что у него было?
– Он икру доставал.
– Я говорю, у него что было-то?
– Так я вам говорю: икра у него была. Он мне ее доставал. Потом перестал. И все. Пропал.
– Уехал?
– Да, насовсем.
– За границу?
– Еще дальше.
– Это куда же дальше?
– Туда, где нет ни икры, ни крабов.
И где бюллетени не нужны.
– Мне бюллетень не нужен. Мне главное – чувствовать себя хорошо.
– Как же чувствовать себя хорошо? Голова болит, температура противная, суставы ломит…
– Доктор, а это вылечивается?
– Ну, конечно, а кем вы работаете?
– Инженером.
– А-а-а. У инженеров это все плохо лечится. Тем более все это без крабов, без игры, без кофе и чая.
– Да я могу безо всего этого обойтись.
– Вы-то можете, а другие никак.
– Но меня другие не интересуют. Ведь болит-то у меня. И здесь болит, и здесь…
– У вас, видно, и с головой не все в порядке.
– Вы так думаете, доктор?
– Убеждена. Надо голову проверить, и в первую очередь. К невропатологу вам надо, дорогой, к невропатологу. А как только головку наладите, так сразу ко мне. И все тут же пройдет.
– Ладно, доктор, я пойду. Значит, все, что у меня в портфеле, – икру, крабов, кофе, – все это к невропатологу нести? Счастливо, доктор.

Инициатива масс
Секретарь парткома НИИ машиностроения зашел в кабинет директора и сказал:
– Иваныч, отстаем мы от народа.
Семен Иваныч от испуга стал таращить глаза так, будто хотел увидеть тот самый народ, от которого отставал.
– Так ведь же повесили в цехах лозунги: «Даешь гласность!», «Берешь демократию!».
– Мало, – сказал Селезнев.
– Вахтеру выговор объявили за отсутствие самокритики.
– За что, за что?
– Ну, в его дежурство, пока он спал, из столовой два мешка сахара вынесли, с него кепку сняли и штаны.
– Ерунда это все. Демократия – это инициатива масс. Посмотри, на соседнем заводе люди сами директора выбрали.
У Семена Иваныча глаза снова полезли на лоб.
– Ты что же, от меня избавиться хочешь?
– Я хочу, чтобы люди пар выпустили, кипят люди-то. Вон позавчера скандал устроили, кричали, почему столовая в обед не работает, – обнаглели вконец. Короче, – сказал Селезнев, – надо нам кого-нибудь из завотделами переизбрать. Ну, к примеру, Ивана Сергеевича Загоруйко.
– Да ты что, – возмутился директор, – он же приличный человек, не пьет, знания, опыт…
– Вот и хорошо, – сказал Селезнев. – Головой работать надо, а не другим местом. Пораскинешь мозгами, поговори с Загоруйко, потом позвони в отдел, намекни: мол, молодым дорогу, пора развивать инициативу масс.

Директор набрал номер отдела. К телефону подошел Поляков, инженер довольно склочный. «Как раз то, что надо», – подумал директор и стал намекать со свойственной ему изобретательностью:
– Слышь, Поляков, ты завотделом хочешь стать?
– Ну, – сказал Поляков.
– Баранки гну, – остроумно ответил директор. – Это тебе не при старом прижиме. Сейчас народ сам тебя выбрать должен. Бери народ и дуй к секретарю парткома. Так, мол, и так, хотим выбрать нового завотделом.

Через десять минут в кабинет секретаря парткома ворвались пятеро под предводительством Полякова. Это были Тимофеев Сергей Васильевич, человек скромный, неразговорчивый. Тамара Степановна, женщина полная и болтливая, Аркашка, так его все называют – Аркашка, есть такие люди, им уже под пятьдесят, а они все Аркашка да Аркашка, Галька Зеленова – наша отечественная секс-бомба. Вот уже сколько лет не может найти себе бомбоубежище, и Поляков.
Вот он, Поляков, и начал:
– Всюду люди перестраиваются, начальников себе выбирают, а мы что, космополиты, что ли, какие?
Секретарь парткома Селезнев говорит:
– Вот они, первые ростки нашей демократии. Давайте собирать собрание.
На следующий день собрались. Директор пришел, председатель месткома.
Селезнев говорит:
– Мы собрались сегодня здесь по просьбе трудящихся. Иван Сергеевич Загоруйко, который успешно руководил отделом, оказался неперспективным работником. Как считаешь, Иван Сергеевич?
Загоруйко говорит:
– Я давно уже за собой стал замечать, что я неперспективный. Чувствовал, что надо меня переизбрать, а сказать стеснялся.
– Вот, – сказал Селезнев, – Иван Сергеевич это вовремя понял, с первого раза. Два раза объяснять не пришлось. Так что давайте выбирать. Какие будут предложения?
Тимофеев тихо так, скромно встает и говорит:
– Я предлагаю Тимофеева. У него опыт, связи, трезвый взгляд на дело.
Народ заволновался. Все думали, что он Полякова выдвинет. А тут он сам выдвинулся.
Тогда Мария Степановна говорит:
– А я чем хуже? Я себя тоже предлагаю. У меня тоже связи. Два раза замужем была.
Галька Зеленова вскочила, кричит:
– Как вам не стыдно? Это нескромно. Я тоже в начальники хочу. Я молодая, активная.
Аркашка говорит:
– А я что, рыжий, что ли?
Поляков, который всю эту кашу заварил, кричит:
– Товарищи, что же это такое?! Что же вы все без очереди лезете? Каждый себя предлагает, а меня кто же предложит? Я должен быть начальником. У меня и поддержка сверху.
Он посмотрел на директора, но тот сделал вид, что в первый раз его видит.
Селезнев говорит:
– Молодцы, дружно взялись за дело. Смелее, товарищи, резче. Давайте обсуждать кандидатуры. Кто предложил Тимофеева?
Сергей Васильевич говорит:
– Я предложил Тимофеева. Он человек непьющий, негулящий. Знания его вам известны. Да чего там, вы меня все знаете.
Тамара Степановна говорит:
– Знаем, знаем, снега зимой не допросишься.
Галька Зеленова говорит:
– А позавчера в лифте ехали. Народу много было. Он ко мне прижался так, будто холостой. Я ему на пятом этаже говорю: «Сергей Васильевич, что же вы ко мне прижались-то так, ведь мы с вами в лифте уже одни остались», а он мне говорит: «Ой, извините, я вас не заметил».
Поляков говорит:
– А чего его в начальники выбирать, его, того и гляди, ногами вперед понесут, а туда же – в начальники.
В общем, четверо проголосовали против одного.
Мария Степановна встает и говорит:
– Голубчики вы мои, всем за свой счет давать буду, отпуск всем летом дам, тебе, Аркаша, безвозмездную ссуду выбью, вам, товарищ Поляков, квартиру будем хлопотать.
Сергей Васильевич говорит:
– А мне чего?
– А вас в начальники выберем, но в следующий раз.
Сергей Васильевич говорит:
– И вас в следующий раз. А сейчас я против. Она два часа по телефону треплется, в обед по магазинам бегает, а потом ест два часа и чавкает, как устрица.
Мария Степановна покраснела и говорит:
– А устрица, между прочим, не чавкает.
Сергей Васильевич говорит:
– Вот видите, даже устрицы не чавкают, а вы чавкаете.
Галька Зеленова говорит:
– Да, Мария Степановна, вы столько едите, что у вас вся кровь к желудку приливает, голове ничего не остается, поэтому вы ничего не соображаете.
Четверо проголосовали против, одна воздержалась.
Аркашка стал говорить:
– Ребята, вы меня знаете, за отдел буду глотку драть. В обиду вас не дам.
– Ты сначала мне десятку отдай, – сказал Сергей Васильевич.
– Да возьмите вы свою десятку, – говорит Аркашка и сует Сергею Васильевичу в руку трешку.
Пока тот бумажку рассматривал, Галька Зеленова опять вскочила:
– А что ты мне говорил?
– А что? – побледнел Аркашка.
– Жить, – говорит, – без тебя не могу. Потом пожил и говорит: «Жить с тобой не могу». Так можешь или не можешь? Скажи при всех.
Аркашка говорит:
– Да что же это такое? Я с женой еле-еле живу, а тут еще одна пристает.
Мария Степановна опомнилась и говорит:
– Аркаша, как же вы можете быть начальником отдела, если вы постоянно портите в комнате воздух… Своим гнусным одеколоном по шестьдесят копеек литр. Я вас все спросить хотела: вы им брызгаетесь или внутрь употребляете?
Судьба Аркашки была решена. Видно, он настолько сам себе стал противен, что все пятеро проголосовали против.
– Вот это активность масс, – сказал, потирая руки, секретарь парткома. – Смелее, товарищи, жестче. Всю правду в глаза. Это по-нашему, по-советски.
Тут Гальки Зеленовой очередь подошла. Она говорит:
– Товарищи, сегодня, когда весь наш советский народ в едином порыве сплотился для великих свершений, я, как и весь наш народ…
Сергей Васильевич говорит:
– Какой «наш народ», если у нее по первому мужу фамилия Цукерман?
Галька так и села с открытым ртом.
Мария Степановна говорит:
– Да уж, Галочка, какой уж тут народ, если вы, извиняюсь, с Аркашкой жили. А чтобы с Аркашкой жить, это вообще надо веру в коммунизм потерять.
Аркашка вскочил:
– Какое вы имеете право оскорблять светлое будущее всего человечества! Я здесь вообще ни при чем. Это она со мной жила, а я об этом понятия не имею. Я женатый человек.
Короче, против Гальки проголосовали.
Полякова очередь настала. Все приготовились. Поляков встает ни жив ни мертв.
– Я, – говорит, – свою кандидатуру снимаю. Лучше жить рядовым, чем облитым грязью.
Все говорят:
– Нет уж, извините, всем так всем.
Сергей Васильевич говорит:
– Стукач вы, вот вы кто.
Поляков говорит:
– Почему стукач?
– А потому что, когда вы после обеда спите, все время головой об стол стучите.
Секретарь парткома говорит:
– Ну что ж, я считаю, что выборы проходят в поистине демократической атмосфере. Активность масс достигла предела. И поскольку других кандидатур нет, я предлагаю на пост начальника отдела Ивана Сергеевича Загоруйко. А что, он человек надежный: с Галькой Зеленовой не жил, ест мало, головой не стучит. Думаю, с отделом справится. Одним словом, кто за то, чтобы начальником был он?
Все подняли руки. На том собрание и кончилось. Уходя, Селезнев сказал директору:
– Вот так надо с народом работать.
А на другой день в газете появилась заметка, в которой сообщалось, что в институте в обстановке принципиального обсуждения и инициативы масс единогласно был выбран новый завотделом Иван Сергеевич Загоруйко.

Как я был предпринимателем
Сейчас все богатые предприниматели: татары, армяне, евреи – все они называются «новые русские».
Я думаю: дай-ка я тоже стану этим «новым русским». Куплю чего-нибудь подешевле, продам подороже и разбогатею.

Один приятель мне говорит:
– Не связывайся, от этого бизнеса одна головная боль!
«Ничего, – думаю, – главное – начальный капитал добыть». Прихожу к другу, говорю:
– Дай денег на начальный капитал!
Он говорит:
– Не дам, не хочу друга терять.
Я говорю:
– Как же ты меня потеряешь?
Он говорит:
– А вот как деньги дам, так сразу и потеряю.
«Ладно, – думаю, – мы пойдем другим путем».
Собрал дома все шмотки: два костюма тренировочных, пальто ратиновое, пуховую перину и бюстгальтер жены девятого размера. Поехал на вещевой рынок, развесил все, стою, жду, когда разбогатею. Уже минут десять жду, а все никак.
Подошел мужик с бородой, говорит:
– Ты за место платить собираешься?
Я говорю:
– Как разбогатею, так сразу, а пока у меня всего три монетки на метро.
Весь день простоял – ничего. К концу дня опять этот с бородой подходит, говорит:
– Хочешь, я у тебя все это барахло за сто тысяч куплю?
Я думаю: ну не тащить же мне все это назад…
– Бери, – говорю.
Положил сто тысяч в карман, только уйти хотел, как этот с бородой говорит:
– Ну что, разбогател?
Я говорю:
– Ну так, чуть-чуть.
– Ну, – говорит, – плати за место.
Я говорю:
– Сколько?
– Двести тысяч.
Я говорю:
– Знаешь, кто ты после этого? Козел бородатый!
И тут же рядом с ним амбал появляется и говорит:
– А за козла ответишь!
Я сразу сто тысяч и отдал. Бородатый говорит:
– Обыщи его, Коля!
Коля взял меня за ноги и поднял. Потом как тряхнет: из меня все три монетки и высыпались.
Я кричу:
– Отпусти!
Бородатый говорит:
– Ну раз просит…
Коля и отпустил. Я с высоты прямо на голову и пришел. Приехал домой, думаю: верно говорят, от этого бизнеса одна головная боль.
Но я на достигнутом не остановился. Я решил в Турцию поехать, чтобы там стать «новым русским». Денег занял и заделался «челноком». В Турции мне понравилось. Номер у нас в Стамбуле был трехместный, то есть с двумя узбеками на одной кровати. Потом меня на турецком базаре чуть в гарем не продали. Но это не важно, главное, что я там обувь нашел прямо на фабрике-изготовителе и по дешевке. Классная обувь! Хозяин клялся, что еще ни один клиент не жаловался. Купил целых 800 пар. Привез в Москву. Притащил в магазин, говорю директору:
– Вот обувь – суперлюкс, ни один клиент еще на качество не жаловался.
Директор посмотрел обувь и говорит:
– А как же они пожалуются, если это туфли для покойников? Вот, гляди, подошва картонная.
Я сначала дар речи потерял, а потом в себя пришел, говорю:
– Что ж, по-вашему, покойники обычно мало ходят, они в основном, как правило, лежат.
Я говорю:
– Правильно, но они обычно лежат в обуви, и в хорошей обуви им лежать будет приятнее.
Он говорит:
– Где же я тебе столько покойников возьму, здесь же у тебя обуви на два кладбища вперед.
«Что ж, – думаю, – делать?» Думал, думал и придумал. Продам-ка я их у метро, пока-то народ до дома дойдет, пока разберется, а я уже у другого метро. Сел у метро, продаю по дешевке. Идут нарасхват. Но я же не думал, что они так быстро… Минут через пятнадцать смотрю, они меня уже окружают с туфлями на руках.
– Ты, – говорят, – гад, почему нам туфли для покойников всучил?
Я говорю:
– Мужики, вы чего, все равно рано или поздно все там будем.
Они говорят:
– Но ты значительно раньше.
И давай меня этими туфлями лупить. Деньги отобрали, туфли не вернули. Пошел я в бюро ритуальных услуг, сдал им остатки по дешевке.
Они говорят:
– Вот если бы ты нам гробы из Америки поставлял, ты бы сразу миллионером сделался. Такие гробы есть американские – с ручками, с бахромой, с кондиционером.
Я думаю: чего мне в Америку ездить, лучше здесь налажу выпуск наших отечественных американских гробов. И тогда уж точно этим «новым» стану, а заодно и «русским». Заложил в банке свою квартиру, продал все, что в доме оставалось, снял сарай, нашел двоих столяров, говорю:
– Мужики, обогатиться хотите?
Они говорят:
– А бутылку поставишь?
Я им две поставил. Они говорят:
– Считай, обогатились.
Короче, начали работать. Они гробы строгают, я бегаю материалы достаю. Они такой первый гроб сделали, сам бы лежал, да некогда. Ну просто настоящая палехская шкатулка. Потом этот гроб первое место получил в Монреале на выставке несгораемых шкафов.
Стали мы гробы в бюро поставлять за большие деньги. Нарасхват пошли. Многие богатые люди их при жизни покупали. Одни в них деньги хранили, другие спали прямо в офисах. Но недолго музыка играла. Где-то месяца через два приходят два амбала. Говорят:
– Ты, что ли, «новый русский»?
Я говорю:
– Новый, но пока не совсем.
Они говорят:
– У тебя крыша есть?
Я наверх показываю, говорю:
– Да вроде вот она.
Они говорят:
– Да, видать, у тебя эта крыша поехала, мы тебя про другую крышу спрашиваем.
Я говорю:
– Мужики, вы чего, крыши, что ли, ремонтируете? Говорите прямо, чего хотите.
Они говорят:
– Охранять тебя хотим, пока на тебя не наехали.
Я говорю:
– Я вроде по улицам осторожно хожу, никто вроде не наезжает.
Они говорят:
– Дома наехать могут.
Я говорю:
– Да вы что, у меня квартира маленькая, там даже не развернешься, кто ж туда заедет?
Один говорит:
– Вот я сейчас развернусь и заеду. Хочешь, охранять тебя будем, тогда плати!
Короче, плачу им тридцать процентов. И они меня от себя охраняют. Месяц проходит – меня в налоговую инспекцию вызывают.
– Плати, – говорят, – новый налог ввели.
Я говорю:
– На что налог?
Они говорят:
– На «новых русских». Ты в прошлом месяце шесть миллионов заработал?
– Да, – говорю, – вот у меня и документы есть.
Они говорят:
– Ну вот, плати теперь налог семь миллионов.
Пришел к своим мужикам, говорю:
– Мужики, сделайте мне гроб получше.
Они мне такой сделали, с инкрустацией, и на борту золотыми буквами вывели: «Слава КПСС». Выпили мы с мужиками, лег я в гроб, и понесли меня хоронить. Несут меня, впереди оркестр, сзади народ толпой валит. Слышу, одна тетка объясняет:
– Генерала хоронят, который Белый дом два раза защищал.
Я мимо рэкетиров своих проезжаю, сел в гробу, говорю:
– Хрен вам, а не тридцать процентов!
Они говорят:
– Это почему?
– А потому что, – говорю, – я дуба дал и коньки отбросил, так что вы свои тридцать процентов можете получить на том свете угольками.
Мимо налогового управления проезжаю, встал во весь рост и кричу:
– Эй, вы, наложники, хрен вам, а не семь миллионов, в гробу вы меня все видали!
Они кричат:
– А налог на наследство?
Я кричу:
– Кому я должен, всем прощаю. А кому это не нравится, могут все мои деньги получить с моего наследника, «нового русского» – Сергея Мавроди.

Ремень
Вот дожили, все торгуют. Раньше торговали в магазинах. В крайнем случае в ларьках, теперь – в ларьках, с лотков, с рук, с ног, с ближним зарубежьем, с дальним. Один мужик, рассказывают, перевез через границу в Польшу в штанах 10 граммов радиоактивного урана. Ему говорят: «Ты что, дурак, детей же никогда в жизни не будет!» Он говорит: «Да фиг с ними, с детьми, зато внуков на всю жизнь обеспечу!»

В общем, шли к рынку, а пришли к базару. У метро не протолкнешься, кто что продает. Один колбаску, другой унитаз. Тетка одна что-то в коробочке продает, пригляделся – клопы. Три маленьких, а один здоровый такой, мордастый, глядит исподлобья и матерится. Военный из-под полы шинели продает ядерную боеголовку. Крепенькая такая, кругленькая, во взведенном состоянии. Того и гляди, сейчас рванет. Мужик продает попугая, который голосом Горбачева говорит: «Усе, перестройка закончилась, следующая станция “Павелецкая”».
А один мужик стоит, вроде ничего не продает, ничего не покупает, стоит себе, не трогает никого. Одна тетка подходит, говорит:
– Из одежды ничего нет?!
Мужик говорит:
– Да вроде нет.
Тетка постояла, подумала, потом говорит:
– А чего продаешь?

Мужик тоже подумал, подумал, потом говорит:
– Скелет продаю.
Тетка говорит:
– Какой еще скелет?
Мужик говорит:
– Какой-какой? Человеческий.
Тетка говорит:
– А на кой мне скелет?
Мужик говорит:
– Ну, может, дети по нему будут анатомию изучать, или, допустим, стоит в комнате скелет – красиво, икебана. Или ежели с соседями живете, то можно в кухне скелет поставить.
– Зачем?
– А затем, что сосед ночью выйдет по малой нужде и лицом к лицу со скелетом столкнется.
– Ну и что?
– А ничего, больше ни в чем нуждаться не будет!
Тетка постояла, подумала, потом говорит:
– А ну, покажь скелет!
Мужик раздеваться стал. Тетка говорит:
– Ты чего, бесстыжий, раздеваешься?
Мужик говорит:
– Ну ты же сама сказала скелет показать, я и показываю. – Снял майку, ребра свои худые обнажил. – Вот, – говорит, – хороший скелет. Крепкий, небитый, молью не етый. Правда, палец у меня еще был, но я на лесопилке работал, но, если надо, я донесу.

Тетка говорит:
– Ты что, сдурел?
– А что?
– Ты что, сдурел? – кричит тетка. – Ты мне скелет продаешь. Так ты же ведь еще живой!
Мужик говорит:
– А ты что хотела, чтобы я здесь мертвый стоял?
– А если ты живой, как же ты мне скелет-то свой продашь?
– Как? – говорит мужик. – Ну, деньги вперед, а как окочурюсь, так…
Тетка говорит:
– Откуда же я знаю, когда ты окочуришься?
Мужик говорит:
– Ты только деньги дай, а я тут же…
Тетка говорит:
– На кой мне твой скелет, он мне и даром не нужен. Может, чего еще есть?
Мужик говорит:
– Ну, почка еще есть.
Тетка говорит:
– На кой мне твоя почка? У меня и со своей почкой все хорошо.
Мужик говорит:
– Ну а то, с чем у тебя плохо, я тебе пока что продать не могу, потому что мозги мне пока самому нужны. Но могу тебе, предположим, копчик продать. Хороший копчик, крепкий, молью не етый. Понимаешь, деньги позарез нужны. Бери чего хочешь.
Тетка так на него внимательно посмотрела и глаза куда-то вниз опустила, в район пояса уставилась. Мужик проследил за ее взглядом и говорит:
– Ну, знаешь, это уже слишком.
Тетка говорит:
– А что «слишком», сам же сказал: бери чего хочешь.
Мужик подумал, подумал, а потом спросил:
– А почем?
– Ну я уж не знаю, – говорит тетка, – он у тебя наш или импортный?
Мужик говорит:
– Ну откуда же импортный, наш, отечественный.
Тетка говорит:
– Небось синтетика?
Мужик говорит:
– Да ты что, натуральный.
Тетка говорит:
– Небось поношенный.
– Да ты что, – говорит мужик, – последние годы вообще нетронутый, пьем все, до него руки не доходят.
Тетка говорит:
– Ну и почем отдашь?
Мужик говорит:
– Ну тысяч пятьдесят-то он должен потянуть?
Тетка говорит:
– Ты что, сдурел?
Мужик говорит:
– Что «сдурел», ты бы хоть посмотрела, какой, а потом уж…
Тетка говорит:
– Как же я посмотрю-то, если вон он у тебя где?
Мужик говорит:
– Ну стесняешься – давай руку в темноте на ощупь.
Тетка говорит:
– Какая же тут темнота?
Мужик говорит:
– Ну ты глаза-то закрой, вот тебе и будет темнота.
Тетка говорит:
– Зачем мне твоя темнота нужна, мне же его посмотреть надо, какой он по качеству, по размеру подойдет ли?
Мужик говорит:
– Ты кому берешь, себе, что ли?
Тетка говорит:
– Почему себе? Мужу.
Мужик говорит:
– А у него что – нет, что ли?
Тетка говорит:
– В том-то и дело. Он в баню пошел, в кабинке разделся, из парной возвращается, а у него и сперли.
Мужик говорит:
– Что сперли-то?
Тетка говорит:
– Как что, ремень.
Мужик говорит:
– Так ты что, ремень, что ли, у меня хочешь купить?
Тетка говорит:
– А ты что подумал… – И аж задохнулась. – Ах ты, козел бесстыжий, ты мне, оказывается, свой обмылок за пятьдесят тысяч всучить хотел. Ах ты, негодяй!

За границей
Один раз русские войска дошли до Парижа, второй раз до Берлина, а сейчас «новые русские» завоевали весь мир без единого выстрела.
Русскую речь сегодня можно услышать на любом континенте, в любой стране, в любом магазине.
– Леня, мене это платье не налазит ни на одну грудь!
Это наши люди оккупировали Брюссель. Во Франции в солидном магазине сам слышал, как одна дама говорила другой:
– Нинка, бери что подороже, пока Ашотик тебя любит, за все заплатит.
А «новый русский» Ашотик, маленький, щупленький, но с большим достоинством, стоит у зеркала в сером советском макинтоше, ковбойской шляпе, ковбойских сапогах по пояс и смущенно говорит:
– И во всем этом надо еще прыгать на лощадь?
«Новые русские» сейчас везде: на горном курорте в Австрии, на пляже в Анталии, в Сингапуре и Бразилии. На неприступной скале Сейшельских островов так, что видно только с самолета, по-русски написано: «Гадом буду, не забуду этих островов».
Мы не устаем удивлять мир. Нас уже всюду знают и ждут. Мы хотели силой заставить весь мир учить русский язык. Не вышло. А теперь сами учат как миленькие: деньги наши получить хотят.
В Турции только и слышишь:
– Кожа, кожа! Наташка, заходи!
То ли действительно кожу хочет продать, то ли Наташку купить!
В Египте на базаре:
– Ваня, Ваня, давай, давай, давай!
Нет чтобы «возьми» – «давай» кричат! В Австрии на горных курортах самая дефицитная профессия – инструктор со знанием русского, там и чехи, и поляки – все под русских теперь косят. В Америке на одном магазине видел объявление: «У нас продается черный хлеб с красным икром!» В иностранных путеводителях наконец-то появились тексты на русском. Нас знают, нас узнают всюду. Вот хоть как вырядись и ни слова по-русски не говори – все равно узнают.
Один мой знакомый «новый русский» все удивляется:
– Слушай, как они узнают, что я русский? Пиджак на мне американский, туфли немецкие, рубашка голландская, брюки английские. У меня одни трусы российские, а они все равно узнают.

Я ему говорю:
– А ты не пробовал молнию на брюках застегнуть?
Нам, конечно, многое непривычно, непонятно, особенно язык. То и дело слышишь в магазинах и на улице: «Ну козлы, ни шиша по-нашему не волокут. Слушай, сколько мы уже к ним ездим, а они все никак русский выучить не могут».
Некоторые из нас, конечно, учили иностранный язык, но то ли не так учили, то ли не тот язык.
Один «новый русский» мне рассказывал:
– Ты представляешь, я в Англии десять дней жил.
Они, англичане, тупые. Десять дней с ними по-английски разговаривал, хоть бы кто понял!
Да, теперь, чтобы ездить за границу, надо знать язык, ну хоть пол-языка. Иначе чего только не случается. Один наш «новый русский», здоровенный мужик, решил в Карловых Варах в бар сходить, разбавить карловарскую слабительную чешским пивком. Заходит в бар, а там сплошные немцы. Он пива взял у стойки и по пути, пока к столу шел, один хлебок сделал. А у него хлебок как раз полкружки. И он оставшиеся полкружки поставил и пошел селедочку искать. А уборщица увидела полкружки беспризорные и убрала. Мужик назад возвращается, а на его месте уже немец сидит и свое пиво пьет. Мужик нахмурился и говорит:
– Ты, что ли, мое пиво взял?
А немец радостный такой, говорит:
– Я, я, я!
Мужик говорит:
– Ты взял, а заплатил-то я!
Тот опять радостно:
– Я, я, я!
Мужик совсем озверел и говорит:
– А кто в глаз хочет получить?
Ну, это и было его последним «Я». Все остальное он видел уже с пола и одним глазом.
Другой «новый русский» возмущался ихними обычаями дурацкими. «Представляешь, – говорил он мне, – у них, оказывается, в Германии принято спать с женой в определенный день. Вот назначает субботу, и все – только в субботу. А если я в понедельник захотел, значит, сиди и жди. Вторник жди, среду, четверг, пятницу. Суббота приходит, а я уже не помню, чего я в понедельник хотел».
Американцы – тоже чудные мужики. У них перед Рождеством ставят Санта-Клауса с гномиками перед домом, и никто их не трогает. А представь себе, что ты этого Деда Мороза у нас поставил возле подъезда нашей хрущобы. Вот как думаешь, долго он простоит? Отвечу: пока ты двери не закроешь. А как закроешь, можешь сразу и открывать. Его уже нет. Ни Деда Мороза, ни гномиков, ни двери.
Не можем мы также категорически понять, как это они, французы, едят лягушек. Мы с одним русским попробовали. Заказали эту жабу. Взяли бутылку для храбрости. Выпили ее всю.
Я говорю:
– Ну, теперь, Вася, давай!
Он говорит:
– Не могу!
Я говорю:
– Надо, Федя, надо. Ешь, они, говорят, лягушки, по вкусу очень напоминают цыплят.
Он говорит:
– А нельзя нам съесть цыпленка, и пусть он нам по вкусу напоминает лягушку?
Узнают нас там и по одежде, и по языку, но главное – по манерам.
Вот рассказывал один:
– Были мы в Германии. Решил я кофейку попить. Сел, заказал, пью. Официант говорит:
– Вы русский.
– Как догадался?
– А вы, – говорит, – русские, когда кофе пьете, ложечку из чашки не вынимаете, да еще глаза прищуриваете, чтобы ложечка в глаз не попала.
На другой день привожу друга, приличный человек. Предупредил: ложечку вынь. Он вынул. А официант говорит:
– Вы русский.
Я из засады выскакиваю, спрашиваю, как догадался, он же ложечку вынул.
– Да, – говорит, – вынул, а глаз все равно прищуривает, чтобы ложечка в глаз не попала.
Взяли профессора, предупредили. Он все сделал: и ложечку вынул, и глаз не прищуривает. А этот все равно:
– Вы русский.
– Как догадался? Он ложечку вынул!
– Вынул и в карман положил!
Конечно, у нас многие воруют, практически все, есть человек триста, которые не воруют, – они уже сидят. Пьем. Многие пьют. Практически все до одного. Не пьет только тот, кто лечится. Но не надо думать, что мы хуже всех. Бывает, конечно, что мы держим нож в левой руке, а бифштекс в правой, но все же, извините, если за границей в ресторане сидит компания и все они не смеются, а ржут, то это не русские, а немцы; если человек кладет ботинки на стол, то это тоже не русский, а американец; если человек на ходу чешет при женщинах все, что попало под руку, то это не русский, а араб; если лежит прямо на газоне, а потом встает и писает прямо на улице, то это не русский, а индиец. А если вообще ничего не понимает и по сто раз переспрашивает на чудовищном английском языке, то это точно японец.
Про «новых русских» много анекдотов рассказывают. Мне особенно один понравился. Крутой такой мужик пришел в турбюро и говорит:
– Куда бы поехать отдохнуть, обстановку сменить?
Сотрудница говорит:
– Вот в Кению можно поехать, поохотиться, козлов пострелять!
Он говорит:
– Ты чего, ваще, что ли? Я тебе говорю, обстановку сменить, а ты опять – пострелять козлов!
Но все это ерунда, мы, конечно, научимся и вести себя там, и языкам, и обычаям. Лягушек, может, и не станем есть, а вот устриц уже наворачиваем килограммами. И как бы там к нам ни относились, а я лично испытываю чувство морального удовлетворения от того, что наши люди, пусть «новые», но русские, заставили всех относиться к нам с уважением. Мы теперь там водку с «Зенитами» не продаем и матрешек с кипятильниками не обмениваем. Мы теперь людьми себя за границей чувствуем, потому что он, этот «новый русский», теперь с деньгами туда едет, а это их, иностранцев, более всего убеждает. И правильно сказал когда-то поэт: «Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог!»

Людоед (Письмо зрителя Г. Хазанову)
Уважаемый господин Хазанов!
Так получилось, что живу я в маленьком городке довольно средней полосы России. Вы никогда в нашем городке не были, о чем, я думаю, ни капли не жалеете. И напрасно, потому что в нашем городе, бывает, порой случаются события, достойные пера Николая Васильевича Гоголя.
Но последним писателем, посетившим наш город, был Радищев, проездом из Петербурга в Москву, так что придется мне, вашему покорному слуге, попробовать описать необыкновенное происшествие, случившееся не так давно в нашем замечательном Климовске.

Артисты у нас, как и писатели, – редкие гости. Предпоследний концерт был у нас в рамках предвыборной кампании в пятую Госдуму, и приезжала к нам тогда от «Вашего дома – Россия» Людмила Зыкина с хором. Концерт ее проходил на главной площади, где по-прежнему стоит, ожидая возвращения большевиков, вождь мирового пролетариата Ленин и указывает рукой на морг, будто говорит: «Верной дорогой идете, товарищи!»
Вот как раз посреди площади между Лениным и моргом построили сцену, на которой и пела Людмила Георгиевна с хором. Причем в хоре вначале народу было больше, чем зрителей на площади. Потом, конечно, набежали, а вначале никто не верил, что Зыкина настоящая. Поговаривали, что это двойник Зыкиной под фонограмму рот открывает. У нас уже было так – двойники приезжали Горбачева, Киркорова, Ельцина и Лайзы Минелли. Народ перепутал и пошел к Ельцину с прошениями, причем понесли вместе с прошениями яйца, кур, самогон, а тот все взял и сказал, что все вопросы решит, а ответ пришлет через Черномырдина. Тогда и остальные двойники – Горбачев, Киркоров и Лайза Минелли – тоже стали говорить, что все выполнят, если им принесут еду. Ну, Лайзе ничего не дали, потому что не знали, на кого она похожа, а те, кто знал, никаких особых просьб к Биллу Клинтону не имели. Один только мальчик-отличник попросил Лайзу передать привет Шварценеггеру, на что она ответила: «Щас, подпрыгни».
Киркорову преподнесли бутылку водки. У нас поговаривали, что Киркоров капли в рот не берет, вот и решили проверить. Может, сам Киркоров и не пьет, но двойник наклюкался так, что даже Муромову не снилось. Что касается Горбачева, то ему в качестве подарка два раза дали в глаз: один раз за гласность и второй – за перестройку. Ну а потом, когда разобрались, что это двойники, народ подарки отобрал, а поскольку у Горбачева отбирать было нечего, то ему дали во второй глаз – за Раису Максимовну. У нас в городе до сих пор считают, что если бы не она, то Горбачев вывел бы нас к победе коммунизма.
Да, так вот по аналогии с предыдущим случаем население нашего города твердо было убеждено, что и вместо Зыкиной поет двойник. Кто-то даже утверждал в публике, что двойник Зыкиной не женщина, а мужик, потому что женщин-двойников такого размера не бывает. И тут же после первой песни на сцену полез местный хулиган Сидорчук, чтобы лично в этом удостовериться. Он приблизился к великой певице и хотел было уже дотронуться до нее собственной рукой, но Людмила Георгиевна, не прерывая творческого процесса, так сама его тронула, что он слетел со сцены и так ударился головой об землю – хотели даже «скорую» вызвать. Но тут Зыкина своим неповторимым голосом запела: «Я – Земля, я – Земля, я своих посылаю питомцев…»
После этих слов Сидорчук очнулся и сказал:
– Гадом буду – Зыкина, мужик бы в жизни так не послал.
И было это все где-то в ноябре. А уж в конце марта к нам в рамках президентской кампании привезли зарубежного гастролера. Хоть бы почаще эти выборы были, все-таки и о нас вспоминают как о живых, а не о мертвых душах. Где-то числа 11 марта, как раз когда мужики протерли зенки после женских праздников, появились у нас в городе афиши. Написано было: всего один показ проездом из Африки в Улан-Удэ, навстречу президентским выборам, и, дескать, спонсирует эту гастроль независимый кандидат Зарубин Степан Андреевич, и представляет он знаменитого на весь мир людоеда Асафа Мугамбу, который уже съел там у себя в Африке восемнадцать человек, причем не в голодный год. И видели его уже в разных странах, и даже в одной стране под названием Бенилюкс он сбежал из клетки и сожрал еще троих бенилюксовцев. В общем, везде от него были в восторге, кроме Израиля, где он не стал никого жрать из чисто религиозных соображений.
И вот если этот людоед произведет на нас благоприятное впечатление, то мы должны будем проголосовать за Зарубина Степана Андреевича. Весь город, конечно, всполошился. Людоедов у нас не видели со времен Гражданской войны, да и тех практически никто уже не помнил. Город забурлил. Мы ведь люди не совсем темные, телевизор смотрим, помним, как в декабре прошлого года «Наш дом – Россия», чтобы помочь неокрепшей российской демократии, приглашал в Москву Клавдию Шиффер. У нас тогда еще слух прошел, что эту Шиффер к нам завезут по пути в Санкт-Петербург. Народ сбежался, думали, что под выборы шифер бесплатно давать будут, номерки уже на руках писать начали, но не то что шифера, а даже и рубероида паршивого никому не обломилось. А тут вдруг людоед. Все гадали, что он делать будет и кого у нас сожрет, если убежит из клетки. Надеялись, что кого-нибудь из местного рэкета, уж больно они всем на нервы действуют. А тут плакаты вывесили с физиономией не то людоеда, не то самого кандидата. Скорее все же людоеда, поскольку у нас вряд ли может быть кандидатом в президенты темнокожий и голый по пояс тип с кольцом в носу. Хотя, правда, сейчас чего хочешь уже можно ожидать. Но физиономия у него была препротивная и жутко напоминала одного нашего местного жителя, лет пятнадцать назад сбежавшего от Прасковьи Тарасовны Бегиной и с которого она безуспешно все эти пятнадцать лет пыталась получить алименты на сына, который, правда, был не от него, а от предыдущего ее мужа, который эти алименты исправно платил, не подозревая, что его преемник чадо усыновил.
А надо вам сказать, уважаемый Геннадий Викторович, что от этой Прасковьи кто только не сбегал. Она сама почище любого людоеда была. Да вы бы и сами, приведись вам, не дай бог, сойтись с ней, сбежали бы от нее на третий день, несмотря на все ваши возможности. Здоровая, горластая, всю жизнь в пивном ларьке проработала, пьяных шоферов без милиции скручивала. Весь город у нее в прошлые времена в долгу был: кто за водку, кто за пиво. Хорошо, перестройка пришла. Народ подождал, когда цены на водку подскочили. И уж когда водка по пять тысяч была, стали ей возвращать, кто десять рублей, кто двадцать. Ох уж она лютовала, скольких же она тогда людей покалечила! Муж ее теперешний тогда к ней в кабалу и попал. Парень безответный, золотые руки, в оборонке работал. А когда оборонка развалилась, из него ни коммерсант, ни бандит не получился, ну он и пошел к ней в подсобники, а там по пьянке и в постель к ней попал и должен ей был немало, так и втянулся. Как он с ней живет, никто понять не может. Она же, если он домой поддатый придет, так лупит его прямо батогом, колошматит его, а он только приговаривает: «Хорошо, что не война, а то бы всех выдал».
И вот, представляете, этот людоед в наш обойденный прогрессом город приезжает. Народ, конечно, в назначенный день на площадь хлынул, а площадь уже огорожена веревками, на входе у всех подписи собирают за будущего президента. Тут тебе уже не двойники, не Зыкина, тут уже гастролер зарубежный. На помосте клетка стоит, вся материей затянутая. Сначала девочки под музыку фигурами вертели, потом певец спел: «Выбери меня, выбери меня». А потом уже эта «Птица счастья завтрашнего дня» появилась. То есть кандидат вышел и начал излагать свои мысли вслух:
– Свободные граждане свободной России! Наконец-то вы можете проявить свою волю и выбрать того, кого вы хотите выбрать. Смотрите сами. Вы, конечно, можете выбрать Зюганова. Но спрашиваю я вас: привезет вам Зюганов в ваш замечательный город выдающегося людоеда современности? Я вижу, что печать задумчивости легла на ваши прекрасные и одухотворенные лица. Потому что вы знаете? Шиш он вам привезет. Они, коммуняки, всегда втихаря лопали свои пайки из распределителей. Сами смотрели всяких заграничных людоедов, а нам показывали Савелия Крамарова и шиш с маслом. Верно я говорю?

Мои земляки согнали задумчивость со своих прекрасных лиц и дружно заорали:
– Верно!
– Ну хорошо, – сказал кандидат, – пойдем дальше. Вы, конечно, можете выбрать Ельцина. И что же он вам привезет сюда – людоеда? Шиш он вам привезет. Он вам Чубайса привезет в лучшем случае. А что вам этот Чубайс? Ну вот если бы в этой клетке сидел Чубайс, сбежались бы вы на него смотреть?
Все дружно заорали:
– Да!
– То-то, – сказал кандидат. – А если бы он Шумейко сюда привез? Хрен бы вы сюда сбежались. Так вот Чубайса он вам не привезет, да и Шумейко тоже, я уже не говорю о людоеде. Тогда зачем он вам сдался? Верно я говорю?
– Верно! – заорали все. – Пущай сам приезжает вместо людоеда!
– Ну хорошо, – продолжал кандидат, – а если вы выберете Жириновского, то вместо людоеда он сам сюда прискачет и будет вам орать, что поведет вас всех мыть сапоги в Индийском океане. А зачем вам их там мыть? Пока вы вернетесь, сапоги опять будут грязные. Так, я вас спрашиваю? Нужно вам это Жири-жири, Хари-Хари?
– Нет! – заорали все.
– Так, – сказал кандидат, – а теперь скажите мне: нужен вам людоед?
– Нужен! – заорали все.
– Хотите вы посмотреть, как он будет есть все что ни попадя?
Толпа заревела:
– Хотим!
– Вот, – сказал депутат, – и если вы меня выберете, то будете весь мой президентский срок тоже есть все что ни попадя.
Все заорали: «Ура!» Включилась музыка, затрещал барабан, материю с клетки сдернули, и нашим изумленным взорам предстал жутко страшный, заросший волосами, с темным лицом, в одной набедренной повязке людоед – Асаф Мугамба. Геннадий Викторович, он как глянул на толпу, так все в ужасе замерли. Тишина стояла над площадью кладбищенская. И вдруг он с диким ревом бросился на решетку. Народ прямо так и шарахнулся от сцены. Людоед зарычал еще сильнее, а кандидат пояснил:
– Есть хочет, – и швырнул ему курицу.
Людоед моментально эту курицу разорвал и слопал. Причем чавкал так, что у всех на площади слюнки текли. Потом он оглядел долгим взглядом толпу и так рыгнул в ее сторону, что несколько женщин упали в обморок, а мужики стали быстро разливать и пить, не закусывая.
Депутат швырнул ему утку. И людоед даже не дал ей приземлиться, пожирал ее урча и все время зыркал глазами в сторону Прасковьи. Та аж затряслась и спросила у кандидата:
– А решетка-то у вас хоть крепкая?
Кандидат говорит:
– Почти ни разу не подводила. – Но на всякий случай швырнул людоеду еще гуся. Так людоед его, этого гуся, минут за пять до костей обглодал и остатки швырнул в толпу.
Народ аж взвыл от удовольствия.
– Нравится вам? Хотите так питаться? – крикнул кандидат.
Ну, все, конечно, издали возгласы одобрения. Поди плохо, в один день куру, утку и гуся!
– А теперь, – говорит кандидат, – может, кто-то из вас хочет войти в клетку к знаменитому людоеду?
Все, конечно, притихли.
– Все же понимаете, – продолжал кандидат, – что из соображений гуманности мы не можем поставлять ему человечину, но если кто-то хочет сам, то пожалуйста, милости прошу! Есть желающие? Ставлю миллион рублей на своего людоеда!
Желающих, конечно, не было. И уже хотели было закончить представление и начать отмечать это небывалое для нашего города событие, как муж Прасковьи, Николай, которому она уже на сегодня пообещала, вдруг говорит:
– Я желающий.
А ему уже, видать, все равно. Он уже поддатый был, и батога ему было не миновать к вечеру. Ну, он и решил, видно, таким способом закончить свое бренное существование. А может, подумал, что миллион его спасет от экономической зависимости. В общем, шагнул он вперед и заявил:
– Я желающий!
Кандидат говорит:
– А вы подумали, на что вы решились?!
Колюня говорит:
– Подумал!
– Вы понимаете, что идете на верную гибель?
– Понимаю, – твердит свое Колюня.
И тут раздается голос Прасковьи:
– Я тебе дам «понимаю»! – И она, засучив рукава, стала пробираться сквозь толпу.
Но толпа сомкнулась перед ней и заорала:
– А ну, не трожь, пущай идет!
Прасковья кричит:
– А что же вы своих-то к людоеду не посылаете?
А ей в ответ:
– А наши не рвутся!
– Ах так, – сказала Прасковья, – тогда я сама желающая!
Народ аж взвыл от радости.
– Давай! – заорали все. – Давай, Прасковья, покажи ему козью морду!
Прасковья ринулась к клетке. Кандидат закричал:
– Вы понимаете, на что вы идете? – и не пускает ее.
Тут толпа как заорет:
– А ну пусти ее к людоеду, а то голосовать за тебя не будем и людоеду и тебе задницу надерем.
– Ну и черт с вами, – сказал депутат, – жри ее! – И открыл клетку.
Прасковья рванула на себе рубаху и решительно ворвалась в клетку. И тут произошло самое неожиданное. Людоед упал на колени и закричал:
– Прасковья, прости, черт попутал!
Прасковья накинулась на него так, что от этого людоеда перья полетели. Людоед визжал так, будто его резали. Депутат попытался было войти в клетку, но Прасковья так ему заехала, что он заверещал еще сильнее своего людоеда. А тут и толпа нахлынула, клетку разнесла, так что депутат со своим людоедом еле ноги унесли. В общем, концерт этот с милицией заканчивали. На этом представление зарубежного гастролера и закончилось. А с тех пор никаких артистов к нам и не привозили. А жаль, хочется насладиться настоящим искусством. Так что приезжайте, Геннадий Викторович, вы ли или какой-нибудь другой Петросян. А то про нас вспоминают, только когда выборы, когда наши голоса нужны. А ведь мы еще не только голоса, а ведь мы люди живые, у нас еще и души есть. И, слава богу, пока не мертвые.

Аферисты
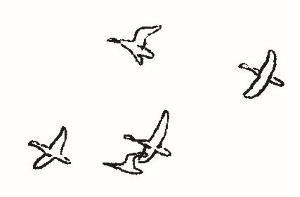
Сколько же у нас, граждане, аферистов развелось, просто можно экспортировать в другие страны. Иду по улице, никого не трогаю. Остановился возле телефонной будки. Мужик какой-то звонит. Жду. Мужик позвонил и пошел. Я в будку, глядь, а там бумажник. Я бумажник схватил и за мужиком кинулся. Тут какой-то парень мне дорогу преградил.

– Стой, – говорит.
Я стою.
– Ты чего? – говорю.
Он говорит:
– Я видел, как ты бумажник нашел.
Я говорю:
– Ну и что, я его вернуть хочу.

Он говорит:
– Стой с бумажником здесь, я его сейчас догоню.
Я как дурак стою. Парень возвращается.
– Не догнал, – говорит, – ну-ка посмотри, что там.
Открываю бумажник, там пачка денег.
Парень говорит:
– Ну, что будем делать? – Взял бумажник, пересчитал. – Здесь, – говорит, – полмиллиона.
Я бумажник у него забрал.
– Пойду, – говорю, – отдам в милицию.
Он говорит:
– Ты что, сдурел, они же деньги себе возьмут.
Я думаю: «А вдруг действительно возьмут?»
Парень говорит:
– Слушай, мы ведь не украли, мы ведь нашли. Давай делить.
И я, представляете, соглашаюсь. Ну а что, мужик пропал, а в милицию идти просто глупо. Заходим мы в подворотню, начинаем делить, и тут этот мужик возвращается.
– Бумажник с деньгами не находили? – спрашивает.
Только я хотел сказать: «Вот они», – как парень мне говорит:
– Заткнись, а то тебя посадят.
И я, представляете, молчу. Парень говорит:
– Нет, ничего не видели.
Мужик отходит, а парень тихо так, с опаской, говорит:
– Он наверняка за нами следит. Здесь в бумажнике пятьсот тысяч, давай в темпе двести пятьдесят, держи бумажник, и разбежались.
И я как дурак вынимаю свои кровные двести пятьдесят тысяч, сую ему и с бумажником ухожу. И только в метро, раскрыв бумажник этот потрепанный, вижу, что там нарезанная бумага и никаких денег. Я назад, а их уже и след простыл. Ну, думаю, убью! А потом поостыл и решил: на кого злиться? На себя. Сам же не отдал бумажник. Сам себя и наказал. «Ладно, – думаю, – в следующий раз буду умнее».
Месяц приблизительно проходит, и на том же самом месте прохожу возле той самой будки, а там тот же самый мужик звонит, и бумажник такой же самый задрипанный рядом лежит. Сначала хотел в рожу сразу заехать, а потом думаю: нет, погодите, я вам сейчас устрою козью морду. Мужик из будки выбегает, я беру бумажник, тут же подбегает тот же парень, меня, конечно, не узнает и сразу говорит:
– Раз нашли – делим.
Я говорю:
– Делим.
Зашли в подворотню. Он говорит:
– Здесь пятьсот тысяч, – при мне считает.
Тут вбегает мужик и говорит:
– Ребята, бумажник с деньгами не находили?
И не успевает парень ничего сказать, как я говорю:
– Как же не находили, вот он, – и отдаю ему бумажник.
Мужик обнимает меня.
– Родной, – говорит, – спасибо.
Я говорю:
– Вы пересчитайте, там пятьсот тысяч.
Он говорит:
– Да что там считать, я вам верю, вижу, вы честный человек.

А тот парень стоит, вы бы лицо его видели, не лицо, а козья морда.
Я говорю:
– Нет, вы пересчитайте.
Мужик говорит:
– Да чего там считать, – а сам открывает, считает и говорит: – А здесь только двести тысяч, а где же еще триста?
Парень говорит:
– Я бумажник вообще в руках не держал, значит, он спер, – и на меня показывает, – я свидетель.

Тут у меня лицо становится козьей мордой. Мужик говорит:
– Сам отдашь или в милицию тащить?
И я как миленький, возмущаясь, отдаю свои кровные триста тысяч и говорю:
– Ну, я вам устрою!
Злой домой еду, сил нет. Дурак дураком!
Полгода забыть не мог, но этих аферистов нигде не встречал. Наверное, в другой район перешли.
А тут где-то через полгода иду и на том же месте, в той же будке стоит мужик, я лица-то его не вижу, а вот бумажник тот же драный рядом лежит. Я к будке. Мужик позвонил, ушел. Бумажник, естественно, остался. Я из будки с бумажником выхожу и, пока тот второй не подбежал, хватаю первого попавшегося парня и говорю:
– Слышь, друг, помоги, будь свидетелем, мужик оставил, там полмиллиона, сейчас аферюга за ним прибежит.
И такой парень отзывчивый оказался.
– Ладно, – говорит, – помогу.
И тут этот самый мужик возвращается и говорит:
– Вы здесь бумажник не находили?
Я говорю:
– Еще как находили, а где же второй?
Он говорит:
– Какой еще второй, у меня только один бумажник.
Я говорю свидетелю:
– А ну, тащим его в милицию, а второго они сами найдут.
И вот приволакиваем мы этого мужика в милицию.
– Вот, – говорю, – товарищ капитан, поймали аферюгу, который бумажники оставляет с пятьюстами тысячами, а потом честных людей грабит.
Мужик говорит:
– Чего это я граблю, я бумажник в будке оставил, а эти меня сюда привели.
Капитан открывает бумажник, вынимает оттуда паспорт и говорит:
– Смирнов Валентин Николаевич.
– Я, – говорит мужик.
Капитан говорит:
– А где же пятьсот тысяч?
Мужик говорит:
– А это пусть он скажет, – и на меня показывает.
Капитан смотрит на свидетеля и говорит:
– А это кто?
Парень говорит:
– Свидетель.
Капитан говорит:
– Ну, рассказывайте, свидетель.
Парень говорит:
– Стою я у будки, и вдруг этот мужик говорит, будь свидетелем, в этом бумажнике пятьсот тысяч. А тут этот возвращается и говорит: «Мой бумажник».
Капитан поворачивается ко мне и спрашивает:
– А где пятьсот тысяч?
Я не знаю, что сказать, начинаю лепетать, что в прошлый раз они у меня взяли триста тысяч.
Мужик говорит:
– Да я его первый раз в жизни вижу.
Капитан говорит:
– Ага! Давно я вашу шайку поймать хотел, наконец-то попались, голубчики. Вы, Смирнов Валентин Николаевич, все опишите и свободны, а с вами мы сейчас разберемся.
И два часа я этому капитану доказывал, что я не верблюд, хорошо еще, этот мужик порядочным оказался, сказал, что у него там денег не было, а то бы сидеть мне, да и свидетелю тоже.
С тех пор думаю, ну их на фиг, ни за что ни с какими афе-рюгами связываться не стану… А тут три дня назад иду в совершенно другом месте, и опять этот тип, мужик тот самый, роняет прямо передо мной бумажник, тот самый, потрепанный, и дальше идет. И тут же подскакивает второй тот же самый тип, поднимает бумажник и говорит:
– Видал?
Я говорю:
– Нет, не видал.
Он говорит:
– Ну вот же, бумажник.
Я говорю:
– Какой бумажник? Никакого бумажника не вижу.
Он говорит:
– Да вот же, мужик шел, бумажник обронил, а в нем пятьсот тысяч.
Я говорю:
– Ни мужика не видел, ни бумажника, ни тем более пятьсот тысяч.
Парень говорит:
– Сейчас будем делить.
Я говорю:
– Ничего не видел, ничего не слышал, вы делите, я пошел.
Тут мужик возвращается:
– Ребята, бумажник не находили?
Я говорю:
– Вот этот тип нашел, а я нет, я ничего не видел, ничего не слышал и сейчас ничего не вижу и не слышу.
Мужик смотрит на свой бумажник и говорит:
– Где же я бумажник потерял?
Я говорю:
– Вот он нашел, а я пошел.
А те тоже как глухие. Один говорит:
– Где же мой бумажник?
А второй ходит за мной и говорит:
– Давай деньги делить.
Я говорю:
– Ни за что!
Мужик говорит:
– Ребята, у вас, что ли, мой бумажник?
Парень говорит:
– Я с ним поделиться хочу, а он не соглашается.
Мужик мне говорит:
– Зря ты не соглашаешься, он очень приличный человек. Ты давай бери деньги и делись, а то мы тебе темную устроим и все твои деньги заберем.
Я как заору:
– Милиция! Грабят!
Они бумажник бросили на землю, а тут милиционер подходит и говорит:
– Это ваш бумажник?
Я говорю:
– Нет.
А эти из-за угла:
– Это его, его, он делиться не хочет.
Милиционер говорит:
– А чего ты не делишься, они приличные люди, я их хорошо знаю, бери бумажник-то!
И тут я как заору:
– Караул! Милиция грабит! – да как дам деру, да так, что меня ни милиция, ни эти двое в жизни не догнали.

Борьба с коррупцией
Созывает нас недавно президент нашего закрытого акционерного общества открытого типа Егорыч на собрание. Созывает нас в бывший наш Дом культуры. Теперь этот дом какой-то бизнесмен арендует, а ежели мы там собираемся, он нам это помещение сдает, то есть требует оплаты. Он ее, конечно, может требовать, но президент наш, Егорыч – бывший наш председатель, на это отвечает своей любимой поговоркой: «Хрен тебе в грызло!» И все. Может еще добавить: «Скажи спасибо, что вообще еще этот Дом культуры не спалили. Вот это и есть наша плата, что не спалили».
В общем, собрали нас всех. В президиуме президент наш, потом председатель сельсовета Будашкин, бывший наш парторг. И мент с маузером. Бывшие коммунисты, а ныне демократы. Мент, кстати, трезвый как стеклышко, с маузером еще с революции. Обычно-то он пьян в доску. Поэтому если какой инцидент у нас в деревне случается, его, мента, будят, опохмеляют, под руки к инциденту подводят и отпускают, а уж тут он и начинает маузером размахивать и орать: «Всех пересажаю!» Егорыч объявил собрание открытым и что на повестке дня следующие вопросы.
– Таперича, значит, все как один будем предъявлять декларацию о доходах. Вот я первый самолично вслед за любимым нашим президентом предъявляю всему народу свою декларацию. Месячная зарплата, помноженная на двенадцать.
И никаких книжек в Германии не издавал, и никаких гонореев не получал. Вот он, мой годовой доход, и я теперь честно могу смотреть народу в глаза. – И он устремил в зал свой мутный взор, а народ стал дружно отводить свои глаза от его упорного, честного и нахального взгляда. – А таперича, – продолжал председатель, – пущай наш фермер Иващенко подаст свою декларацию, и мы тогда поглядим, как у нас будет развиваться фермерское хозяйство на селе.
А надо сказать, когда у нас объявили фермерство, народ, конечно, в это дело хлынул, но не весь. Всего трое их хлынуло – Степанов, Горохов и Иващенко. Пришли они к председателю и потребовали землю и свою долю колхозного имущества.
Председатель сказал:
– Точно, положено вам три участка за лесом до болота. А что касается колхозного имущества, то оно вам, конечно, тоже положено в размере одного хрена на одно грызло. А ежели права качать начнете, то народ меня тут же поддержит и может привести аргументы. Не верите?
Фермеры сразу поверили, но народ аргументы все равно привел. Одному фермеру сразу дом спалили, другой не стал дожидаться аргументов, взял ссуду и ударился в бега. А Иващенко, самый упорный, купил ружье помповое, собаку завел, помесь волкодава с горлохватом, и стал бычков разводить, оставаясь бельмом на глазу у всей деревни. Не любили его шибко. И не потому, что он плохой, а потому, что не любили, и все. Однако побаивались. Однажды полезли к нему двое наших. Просто так, «на вшивость проверить». Так он их обоих поймал и под дулом ружья заставил одного сечь другого. И что вы думаете, один портки снял, а другой его выпорол, потом поменялись. А затем втроем выпивать сели. Правда, сидел фермер один, остальные стоя пили. И заявлять потом ни на кого не стали, а на кого заявишь, сами же себя выпороли. Вся деревня потом со смеху помирала.
– А второй вопрос, – продолжал Егорыч, – это то, что наш дорогой президент объявил беспощадную войну коррупции в высших эшелонах власти, чем мы и будем с вами сегодня заниматься. Вот что, оказывается, уважаемые граждане-господа, мешало нам здеся жить по-человечески. И мы на этот призыв откликнемся, а затем вместе с генеральным прокурором Скуратовым пойдем к нашим базарно-рыночным отношениям светлого будущего капитализма с человеческим лицом. А кто поведет себя как на выборах в Думу, тому я устрою козью морду без человеческого лица!
А надо вам сказать, что перед выборами в Думу появились у нас в деревне подозрительные личности, которые призывали голосовать за Жириновского, а не то грозились всех отправить в Израиль и сделать там не то обрезание, не то харакири. Народ, конечно, перепугался, и в день выборов напились все так, что вообще голосовали только за закуску. Егорычу тогда, конечно, попало, и он теперь старался вовсю.
– Какие, – спрашивает, – будут предложения по поводу борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти?

В зале повисла гробовая тишина.
– Ну, может, вопросы есть? – спросил Будашкин.
Прасковья-скотница спросила на всякий случай:
– Вот это, в эшелонах, это что же, опять в эвакуацию, что ли?

– Какая эвакуация? – психанул Егорыч. – Никакой эвакуации. Высшие эшелоны власти – это начальство. То есть надо бороться с коррупцией, невзирая на должности. Вот в газете пропечатано: «привлечены к уголовной ответственности замминистра, еще два замминистра уже сидят». В общем, теперь даже начальство сажают за коррупцию в высших эшелонах власти.
– А у нас-то в деревне, я извиняюсь, кто в этих эшелонах катается? – спросил конюх Семенов.
– А то ты не знаешь, кто у нас начальство. Вот Егорыч, вот я – председатель, таперича мент наш Кузьмич тоже начальство.
– И что же, – продолжал Семенов, – вас теперь, что ли, сажать за это?
– Ну, если ты меня уличишь в коррупции – сажай! Давай, уличай меня, гнида! – сказал Будашкин.
Опять нависла гнетущая тишина, в которой раздался голос доярки Насти:
– Вы меня, конечно, извините, но я хочу узнать, что такое коррупция. Я ведь в этих ваших эшелонах не шибко разбираюсь.
Сторож поддержал:
– Вот она что такое, эта коррупция, чтоб за нее сажать?
– Ну, коррупция, – сказал Егорыч, – это, понимаешь, взятки. Я дал, ты взял, – сказал он сторожу.
– Чего-то я не помню, чтобы ты мне дал, а я чего взял.
– Значит, у нас с тобой нет коррупции, – сказал Егорыч.
– А наоборот было, – продолжил сторож.
– А вот этого я не помню, – сказал Егорыч.
– Ну, это к примеру, – вступил Будашкин, обращаясь к Насте. – Вот мне, допустим, что-то от тебя нужно. Чего у тебя есть. А у меня нет. Я говорю: дай! А ты говоришь: подпрыгни! Тогда я тебе чего-то даю. Ты берешь. После чего и ты мне уже даешь, поняла?
– Поняла, – сказала Настя, – только все равно я тебе не дам, стар ты для меня.
Все засмеялись.
– Нужна ты мне больно, – сказал Будашкин, – это я тебе объясняю, что такое коррупция. Поняли теперь, мужики?
Мужики почесали головы, а один сказал:
– Вот это то, что ты у Настьки просил, раньше это по-другому называлось.
Все опять засмеялись.
– Ладно зубы скалить, – сказал Егорыч, – коррупция – это взятка. Ты мне, я тебе. Не подмажешь – не поедешь. И вот пришла бумага, чтобы мы боролись с теми должностными лицами, кто эту коррупцию насаждает. Иначе урожая нам не видать, а вам от меня кормов.
– Ну, хорошо, – сказал конюх Митрич, – а вот, допустим, прихожу я к Будашкину…
– Только без конкретики, говори – к должностному лицу.
– Ну, хорошо, к должностному, неудобно даже эту будку так называть. И говорю: мне бы справку насчет стажу, пенсию оформить. А он говорит: «Ты чего, козел, с пустыми руками пришел?» Я тогда на стол бутылку самогона, шмат сала. Он мне справку выписывает. Это как, значит, коррупция или взятка?
– Это магарыч, – сказал Будашкин.
– А магарыч – это не взятка?
Будашкин почесал в затылке и сказал:
– Магарыч – это магарыч.
– Ладно, – встала самая скандальная в нашей деревне тетя Маруся, – а вот когда я в прошлом году участок у деревни просила под сено, ты чего мне, гад, сказал?
– Кто гад? – возмутился Егорыч.
– Ну, не гад, а должностное лицо гадское. Что оно мне, граждане, сказало, это должностное рыло? Оно мне сказало: что, с пустыми руками хочешь лучший участок получить? И я тогда этой должностной роже огурцов соленых банку поставила, помидоров маринованных, капусты квашеной и три бутылки самогона. Это коррупция или чего?