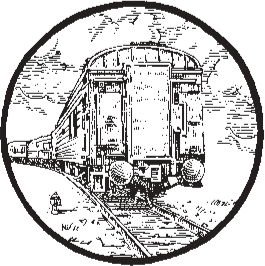Сергей Платон
Головастики
Чем старше становится человек, тем меньше ему нравится война. Наверное, самая популярная во всем мире, игра в войну по-настоящему любима только маленькими людьми и детенышами животных.
С каким же наслаждением едва вставший на ноги человечек лупит первой попавшейся под руку палкой по первым попавшимся на его пути препятствиям, не важно, по птицам, качелям или кустам! Как радостно гоняется за кошками, барахтается с собаками, с каким восторгом бросается в потешные рукопашные бои с друзьями! Маленький ближе к природе. Подрастая, он уже не так восторженно относится к шуточным потасовкам, боям, приключениям, дракам, погоням, атакам и даже победам.
Пашка пока очень любил войну. Любил своих оловянных солдатиков гораздо больше, чем головастиков, живущих с весны до осени в красной пожарной бочке рядом с его домом.
Солдатиков было всего два, однако в войнах они уже совершенно спокойно участвовали и побеждали. Как только рядом вставали пластмассовые ковбои и рыцари, сразу получалась хорошая армия, моментально пугающая плохих противников, которых Паша называл захватчиками. Плохая армия была намного сильнее, коварнее, злее, командовал ею хитрый маленький чукча, вырезанный из белого рога или какой-то кости. В дальнем углу ковра этот чукча выстраивал в ряд двух резиновых слонов, медведя, тигра, за ними – десяток свирепых индейцев, следом – машинки и мотоциклистов, а потом – мелких обезьян, собак и кошек. Сам он сидел на перевернутом ведерке, наблюдая за ходом сражения в театральный бинокль. Ну, как бы наблюдая, будто бы в бинокль, поскольку тот на самом деле был во много раз крупнее гадкого агрессора и просто лежал рядом.
Войнушка выходила увлекательной, шумной. Эти дерзко нападали, завоевывали, штурмовали, а наши героически сопротивлялись, защищая родной замок – вертикально поставленную обувную коробку под столом. Оловянные командиры, уже израненные в боях (у первого обломился штык, у второго отвалилось дуло автомата, а широкие лица под касками покрывала у обоих паутина шрамов-царапин), были все-таки непобедимы. И это правильно, ведь они свою родную землю обороняли. Ура! И очень хорошо, что у них был жестяной самолет и бомбы разной мощности, сделанные из разобранной матрешки. В общем, как и положено, в войне всегда побеждали хорошие, высокие, благородные.
Победа рождала тихое удовольствие, можно было долго-долго лежать, уткнувшись щекою в колючий ковер, и радостно обозревать поле боя, в центре которого гордо стояли высокие полководцы.
С тем же удовольствием Павлик наблюдал за войнами головастиков, положив подбородок на шершавый край бочки. Внутренние стенки подводного мира были ровно покрыты бархатной ржавчиной, по зеркальной поверхности сновали водомерки, а в прозрачной глубине друг за другом носились стайки крохотных одинаковых рыбок, немного похожих на его солдатиков, такие же светлые и крупноголовые. Что-то там у них постоянно происходило, кто-то за кем-то безостановочно гонялся, кто-то убегал и прятался. Лишь жуки-плавунцы никого не боялись, спокойно всплывали к поверхности, выныривали на время и так же вальяжно опускались на дно.
– Паша, подушку! – скрипучим шепотом скомандовал дедушка со своей койки.
– Какую?
– Большую.
Дедовы подушки лежали на кресле-кровати у тумбочки. Каждое утро, собрав свою постель и кресло, Паша выкладывал аккуратную пирамиду из разных подушек, а в течение дня то приносил их деду, то относил обратно.
– Вот, хорошо. Хоть посижу чуток. Кто у тебя сегодня победил? – косо улыбнулся дед, привалившись спиной на горку из диванных валиков, старых одеял и подушек.
– Наши.
– Если наши проиграют, наши вашим напинают! – хохотнул дедушка и тихо закашлялся. – Чего это у тебя все время наши выигрывают? Враги у них дураки, что ли?
– Наши хорошие, – уверенно ответил Пашка.
– Хорошие потому, что родину спасают? Так, что ли?
– Да! Наше дело правое!
– Молодец! Наша порода, башковитая! В том году, когда в школу пойдешь, я тебе за каждую пятерку буду солдатика покупать, вот и будет у тебя нормальная армия. Почем у Физы солдатик стоит?
– Пять копеек.
– Вот, отлично! За каждую пятерку – пятачок.
– В том году – это когда?
– А вот сейчас эта осень наступит, зима придет, новый год, потом весна, лето, а потом, следующей осенью, прямо с первого сентября – «в первый раз в первый класс».
– Долго, – расстроился Павлик чуть не до слез. Дед говорил о каком-то неимоверно далеком будущем, а солдатиков хотелось теперь, сегодня.
– Ну-ка отставить, рядовой! Солдат не плачет! Понятно?
– Понятно, – проскулил Паша, сдержав слезы.
– Собирай игрушки – и гулять. Дрова на обратном пути захвати, полешка четыре.
– Тепло же.
– Тебе всегда тепло, а ночами-то сыро уже, выстужается дом. Родители придут со смены, мы им печку-то и разведем. Топай-топай, я посплю пока. Подушку убери.
Баба Физа была на своем обычном месте рядом с киоском «Союзпечать» у троллейбусного кольца. Перед ней, на крышке фанерного ящика, на свежей газете, стояли ряды прекрасных новеньких солдат, в этот раз – с винтовками и в касках. В киоске тоже было на что посмотреть, за высокими стеклами стояло и висело множество интересного, но Паша никак не мог отвернуться от блестящих на солнце одинаковых касок и солдатских лиц с едва распознаваемыми чертами.
– Пять копеек за штуку, – склонилась к нему продавщица солдатиков, утирая зеленой косынкой широкую шею и подбородок. Физа сидела на самом солнцепеке и уже насквозь пропиталась потом. – Жарища, да? – выдохнула она, обмахнулась картонкой и привычною скороговоркой отбарабанила: – Пять копеек. Пять копеек. Пять копеек за штуку!
Напутал что-то дедушка: троллейбусы, дома, киоск, асфальт, деревья в палисаднике, завод через дорогу, сараи, огороды, редкие прохожие – все побелели на улице от солнечного жара. Какие тут дрова в такую-то жарынь, зачем они? Вон, даже солдатикам жарко.
– А с автоматами будут? – решился спросить Пашка.
– Э-э! Ты этих сначала купи! Будут потом и с автоматами, и погранцы с собаками, и конники! Что, денег нет?
– Нет.
– Э! Ложки-вилки тогда неси, сеточки из аккумуляторов. За двести грамм – солдатик. Беру олово, алюминий, свинец. Пять копеек за штуку! Пять копеек! Пять копеек! Айда, поройте там за гаражами с мальчиками, там все время аккумуляторы выбрасывают. Пять копеек за штуку! Пять копеек!
От неожиданной радости у Паши немного закружилась голова. Он все понял. Он уже бежал как угорелый в сторону гаражей через тополиную рощу. Ах! Это же уже сегодня можно будет взять себе солдатиков, не дожидаясь того года! Витрины киоска и бочка с головастиками тоже могут спокойненько подождать, надо срочно разыскать ложки и сеточки. По дороге он встретил дворовых мальчишек, быстро все им рассказал. Те с удовольствием присоединились к поискам алюминия и свинца.
Копаясь в мусорных слоях огромной свалки, они задорно горланили уморительно смешную песенку. Как выразился Сашка, уже первоклассник и уже успевший побывать в пионерском лагере, настоящую отрядную песню: «У солдата выходной, пуговицы в ряд. Ярче солнечного дня, пуговицы в ряд. Часовые на посту, пуговицы в ряд. Проводи нас до ворот, пуговицы в ряд. А солдат попьет кваску, пуговицы в ряд. Никуда не торопясь, пуговицы в ряд. Карусель его помчит, пуговицы в ряд. И в запасе у него – пуговицы в ряд».
К вечеру удалось насобирать целую сумку нужных железок. Пока волокли эту, найденную там же, на свалке, драную сумку без ручек через тополя, были счастливы, а вот на троллейбусном кольце их ожидало разочарование. Ящик стоял на месте, но ни бабы Физы, ни солдатиков рядом с ним не было. И ждать не имело никакого смысла – солнце уже усаживалось за горизонт, развесив по темному небу мелкие вишневые облака. Припрятав только им понятное сокровище в кусты палисадника, пацаны разбрелись по домам.
Всю следующую неделю Паша начинал каждую прогулку у киоска, садился на ящик и ждал. Он был уверен, что дождется. Однако Физа почему-то не появлялась. Как так-то? Обещала же солдатиков за ложки, а сама куда-то делась. Однажды маленькая бабушка-киоскерша, аккуратно забинтованная белым платком, подсказала, где найти бабу Физу. Та, как выяснилось, жила совсем рядышком, в первом подъезде двухэтажного барака, в квартире номер один. Собравшись с духом, Павлик ходил туда несколько раз и даже стучал в деревянную дверь, но ему отвечали, что Физы нет дома. Теперь он ждал у подъезда на лавочке, прямо под окнами ее кухни. Должна же она была хоть когда-то вернуться домой.
Через неделю он дождался. Через неделю он и разлюбил войну.
– Ой, война-война, будь она проклята… – пропела из открытого окошка невидимая тетенька под бряканье кастрюльных крышек. – А что это за имя-то за такое: Физа? Какое-то не наше.
– Наше, наше, только басурманское оно. У меня золовку так зовут. Хорошая девочка, смешная такая, все время всем рассказывает, как ее имя переводится. Физа – значит серебро или серебряная монетка. Правда, красиво? Тебя вот как зовут?
– Тома. Ну, Тамара, в смысле…
– Знаешь, как переводится?
– Не, не знала никогда.
– А эти – знают все.
– Физа – серебро. Надо же…
– Ой, бедная она, бедная. Воевала, оказывается. Инвалидность-то получила не за завод, а за войну. Куда ты столько луку сыплешь?
– А сколько надо?
– Половину – в самый раз!
– Так чо там Физа?
– Физа, Физа… Пенсия тебе – не фронтовой паек и не зарплата, а кушать каждый день хочется. Только солдатики ее и кормили. Сама все отливала, формовала, отделывала. «Уралмаш» на дому устроила, понимаешь ли. Сталевар! Представляешь, тигли настоящие себе завела, сплавы готовила, формы сама делала.
– Хорошие солдатики получались?
– Кривые-косые, как нет-то? Но народ покупал.
– И куда она подевалась?
Пашка напряг весь свой слух. На минутку конечно же стало неловко. Понимал ведь, что подслушивать нехорошо, но узнать о случившемся было необходимо. Он почувствовал свое законное право на это знание и поэтому слушал.
– В дурку увезли, там и отошла.
– Чо такое случилось-то?
– Ты вообще не в курсе, что ли? Дочка к ней с зятем приехали, богатые такие, чистые, с дорогими подарками. А зять-то – настоящий немец из ГеДеэР оказался. Так она же их выгнала к чертовой матери, понимаешь ли. А потом параличом ее сразу разбило, а она все орала чего-то про немецкую овчарку, бедная.
– И где это, интересно мне знать, наши дочери могут немцев себе найти?
– УПИ она у нее закончила, еще в Москве потом училась, понимаешь?
– И чо?
– Обмены там у них с Европой всякие, аспирантуры.
– Ничего себе. Кто теперь в этой комнате будет жить?
– Вот-вот-вот. Мы с тобой, как соседки, имеем самое полное прямое право! Тома, послушай меня, – забирай!
– Мне куда эта комната, я и так кое-как плачу.
– Тогда я заберу.
– Забирай себе на доброе здоровье… Ой, война-война… Надо же… – тихо ответила соседка Тамара.
На той скамейке Павлик ясно понял, что солдатиков он уже никогда не дождется. Ну и пусть. Их уже не хотелось. С тех пор он больше не играл в войну. Его загадочный средневековый замок под столом как-то просто и сразу превратился в обычную обувную коробку с игрушками.
Осенью он увидел в поленнице дров те самые тигли и формы и тех самых, когда-то до головокружения любимых солдатиков от бабы Физы. Днем у сараев кто-то наколол дрова, а вечером кто-то выбросил рядом кучу солдатиков, ложек и аккумуляторных сеток, наверное, соседки. Можно было взять всю эту армию сразу, целиком, только руку протянуть. Не взял. Вот же как, их не то что брать, их даже видеть не хотелось!
Ночью Паша узнал наконец, почему дедушка спит днями напролет. Оказывается, все ночи он стонет. Война, будь она проклята! На чукчу и игрушки наплевать, а вот двух раненых солдатиков было просто необходимо вернуть своим, туда, к поленнице, чтоб они были вместе все. Павел тихо прыгнул в отцовские валенки, прислушался к тихой шторке, за которой сопели родители, осторожно схватил в ладошку обоих солдатиков и плавно повернул ключ входной двери.
Над черными дровяниками сияло звездное небо. Как же там, во дворе, было холодно и красиво! Все силуэты дворовых построек залиты сверху синим светом огромной луны. А под ногой, с каждым шагом, звонко хрустели ледяные лужицы. Кучи солдатиков в поленнице уже не было, кто-то их уже прибрал. Паша даже и не сомневался, куда пристроить своих раненых солдат на крайний случай, он все заранее предусмотрел. Бойцы отважно нырнули в бочку, прямо в ледяное отражение луны, на самое дно, зимовать к головастикам…
Много-много лет спустя, живя уже совсем в другом конце города, на последнем этаже новой уралмашевской высотки, рядом с проходной уже другого завода, Пашка припозднился, возвращаясь домой с дежурства. В лифте он рассеянно придумывал, чем возразить на слово жены «опять», однако же лифт у них был скоростной, и он снова ничего убедительного не придумал. Работа, ничего не поделаешь.
– Ну, ты опять? Все у нас по-прежнему. Выходные-то не забрали хоть? – неожиданно умиротворенно спросила Ленка, выглянув из ванной комнаты и махнув, как флагом, полосатой простыней.
– Выходные наши, не волнуйся!
– Я сейчас достираю уже. На кухне там подарок посмотри пока.
– Головастик спит?
– Час почти вертелся, успокоиться не мог. Потом сам понял: чем быстрее заснет, тем быстрее день рождения наступит, и сразу засопел.
Павел оставил ремень и фуражку в прихожей, а китель понес в гардеробную. Переодевшись там, сдвинул занавесы из постельного белья в коридоре, шагнул в кухню и оторопел. В центре стола, под лампой, лежала потрясающе красивая упаковка оловянных солдатиков. Тех самых, из его детства!
Под прозрачным плотным пластиком, на красочном картоне с яркой надписью «Rote Armee», в пять рядов была выложена сотня удивительно аккуратно отлитых фигурок. Действительно, Красная армия… красота! Там были пограничники с собаками, бойцы с винтовками и с автоматами, солдаты в касках, фуражках, папахах, матросы в бескозырках, танкисты и летчики в шлемах, даже несколько генералов в шапках с кокардами. На обороте сиял логотип «MADE IN GERMANY», а чуть пониже штрихкода мелким шрифтом было написано: «Hetgestellt in Deutschland».
Как о вчерашнем дне он вспомнил и о тополях, и о смешной отрядной песне, и о бочке с головастиками. Мгновенно припомнился и дед, и первый дом, и троллейбусное кольцо у проходной завода, киоск, сараи, гаражи, бараки и конечно же баба Физа с ее корявыми солдатиками. Почему-то у нее они всегда получались какими-то шибко большеголовыми, что-то там, видимо, с формами было неверное.
«А ведь те солдаты больше на нас походили, – подумал Паша, улыбнувшись, – на меня, на отца и на деда. Такие же глобусы вместо голов. Башковитая наша порода, да. Вон, за стенкой, еще один головастик растет».
Захватив сигареты, он вышел на балкон. Над миром висела та самая, бледно-синяя луна. Вот где была красота! Внизу копошился город, сновали автомобили, по освещенным улицам и переулкам двигались муравьиные цепочки прохожих, у основания дома дремал темный парк, напоминающий сверху ровно подстриженный газон. В эту-то тьму Павел и бросил неудачный подарок, нисколько не усомнившись в правильности решения.
– Ты что, с ума сошел? Ты что, их выбросил? – спросила Лена, вытаращив глаза. Она еще не успела обидеться, просто не разобралась и ждала объяснений.
– Не надо ему это дарить.
– Почему?
Пашка не стал подыскивать нужные слова и что-то втолковывать, избегая скандала, он просто взглянул на жену. Лицо мужчины на секунду исказила реальная боль. Взгляд этот получился излишне тяжелым, но ведь не мог он быть иным. Ленка все поняла, она не обижалась.
– Не покупай ему ничего военного никогда, пожалуйста.
– Хорошо.
– Завтра пойдем в зоопарк! – улыбнулся ей Паша.
Седьмое ноября
Вечер главного советского праздника скатился во двор слишком резко, будто бы невидимый дяденька-великан выключил в городе дневной свет. Двор изменился неузнаваемо, из него совсем пропали краски.
Точно так же преображалась и наша белая комната, когда мама щелкала выключателем, уложив меня в белоснежную постель на огромную подушку с хрустящей крахмальной наволочкой, на столь же жесткую и немного прохладную простыню, под тяжелую перину в таком же жестко накрахмаленном пододеяльнике. Очертания мебели были на месте, но за ними висела чудесная чернота. Было страшно и интересно смотреть в нее перед сном. Изредка за окном проезжала машина – темнота тогда съеживалась, уползала под стол и за шкаф, пряталась за комодом и печкой, возвратив на секунду наши белые известковые стены и потолок.
Я представлял себя маленьким белым медведем из мультика, устроившимся на ночлег в сугробе. Накрывался одеялом с головой и наблюдал в тонкую щель за непонятной темнотой, как зверь из норки. Она была живая, эта темнота. В ней что-то где-то там происходило. Мне было страшно интересно пробовать увидеть это «что-то-где-то-там» и хоть немного разглядеть, понять. Я, семилетний, уже знал, что в темноте бывают звезды, месяц, северное сияние. Ничего такого домашняя тьма не показывала, однако я был уверен, что она – принадлежащая нам с мамой часть большого темного пространства, и даже знал, как оно называется, – космос.
И вот тогда, седьмого ноября, я вдруг почувствовал, как этот космос водворился не только во дворе, но и во всем городе.
Прошедший солнечно-праздничный день остался в прошлом, будто не было его. Там же остались флаги, шарики и транспаранты «демонстрации трудящихся» у заводской проходной, веселые группы шумящих соседей и маминых коллег, поющих хорошие песни под аккордеоны и гитары, перекрикивая зычный духовой оркестр. Пропала удивительная радость от первой в моей жизни поздравительной открытки со сказочными башнями Кремля. Моя личная открыточка занимала свое место рядом с другими за стеклом серванта, куда их было принято выставлять рядком к каждому празднику. Я решил, что подробно ее разгляжу и порадуюсь завтра при свете. Завтра же ожидалось еще много праздничного: нужно было придумать, как поступить с большой конфетой «Гулливер» в потрясающем фантике, где долговязый дядька тянул за собой на веревочках крохотные корабли. Съесть ее было жалко, хоть и очень хотелось. Пока ведь можно было есть зефир, вон его сколько много подарили утром, а тем временем нарисовать конфету или срисовать кораблики. Но это – завтра.
Странное наступило время, остановившееся. Я один. Домой идти рано, а все разбежались. Целый час еще можно гулять, а качели и горка пустые. Праздник, вообще-то, не кончился, за всеми окошками – музыка, крики и свет. В нашем доме на берегу реки Исеть жили только трудящиеся, и они продолжали отмечать свой любимый «красный день календаря».
Интересная цифра – семь. Весь день я разглядывал на открытках, плакатах и транспарантах красивые красные семерки.
Спрятав санки под горкой, сначала хотел было сходить к старому тополю и уже заглянуть в его темное, очень таинственное дупло, поскольку давно собирался, да и узнать наконец, кто там живет. По дороге передумал, поднялся на мост, построенный какими-то чудесными «пленными немцами», которых я никогда не видел. За хрустальным заборчиком деревянных перил открывался широкий вид на совершенно ровную снежную простыню замерзшей речки и высокое черное небо из той самой космической тьмы с мелкими снежными звездами.
Мост был пуст. На другом берегу в темноте пока не изученного подробно, почти не изведанного парка Маяковского растворялись фигурки прохожих. Я обрадовался и прокричал:
– Эй ты, космос!
Мне казалось, что и он посмотрел на меня и обрадовался. Это было естественно, праздник же. Я ощутил спокойное ликование оттого, что я, оказывается, – в нем, и мне в нем не страшно, а радостно. Он как бы и снаружи, и внутри меня. Он приветливый, добрый. Он мой. Захотелось ему и себе сделать что-то хорошее, что-нибудь подарить. Тут же выдумалась семерка.
Идея нарисовать большущую цифру «семь» прямо на речном льду, чтоб она была хорошо видна и с моста, и из космоса, показалась мне великолепной. Лед же был очень ровный, как белый лист. Рисовать начал широкой фанерной лопатой, которой соседские мужики прихлопывали горку, сбрасывали снег с крыши и в сильные снегопады делали красивые тропинки во дворе. Так же, как и дядьки, двигал ее впереди себя, сваливая набок набравшийся снег, и снова ликовал, теперь уже от получающихся идеальных линий, почти сложившихся в гигантскую цифру.
Под тонким слоем снега был такой же тонкий серый лед. Когда я останавливался, чтобы развернуться, обдумывая композицию рисунка, лед похрустывал и прогибался. В валенках прохладно хлюпала неизвестно откуда взявшаяся вода, а края недавно идеальных линий разъедали темные водяные пятна. Только что нарисованная семерка тонула! С моста в мою сторону что-то кричали, но крики прохожих глушил отвратительный ледяной хруст. Его-то я и испугался. Ни мокрых валенок, ни увеличивающейся лужи, в которой я все это время стоял, а именно рычания реки на меня, бестолкового.
Сбежать из центра речки оказалось просто, помогла лопата и способ ее применения, подсмотренный у дворовых мужиков. На берегу меня встречал еще один испуг и сразу радость от троих парней, по виду старшеклассников, таких же длинных дядек, как и тот моряк на фантике моей конфеты. Гулливеры и не думали ругаться, они захохотали, необидно пошутили, чуть ли не за шиворот поволокли меня домой. Ругалась мама. Как обычно, сдержанно и мягко. Ей же никто не рассказал, где, как и почему можно промочить ноги в двадцатиградусный мороз. Сам я молчал, как партизан. Сидел, укутанный периной в своем сугробе, шевелил отогретыми пальцами ног в колючих шерстяных носках и, поперек недавних планов, уплетал конфету «Гулливер».
Почти засыпая, упорно вглядываясь в комнатную темноту, я вдруг припомнил, как на мгновение оглянулся, выбравшись на берег. Да, моя прекрасная семерка утонула целиком. На ее месте образовалось круглое пятно зеркально-черной воды, в которой отразились звезды и луна. Вода, оказывается, тоже бывает темной, она тоже часть космоса.
Эх ты, космос!
Кулемы
Ехать в товарном вагоне нежарко даже в самый знойный день. В товарном ехать даже лучше, чем в плацкартном. Это конечно же если сначала правильно раздвинуть высокие дощатые двери с обеих сторон, и если вагон пустой, и если ехать лежа на полу, и если поезд не плетется, как черепаха, часами пропуская на всех полустанках встречные воинские эшелоны.
Как только Маша обрадовалась прохладному ветерку, поезд и остановился. Никаких станций и разъездов рядом не было, вокруг цвели луга, стрекотали кузнечики, гудели мухи, пчелы и жуки. В вагонные двери потек солнечный жар, вновь разогревая только-только охладившееся сено на полу.
«Вечно все не так, как надо», – тихо подумала Маша и зевнула.
На сене, чтобы оно не кололось соломой, у нижнего края двери, лежали телогрейка и платок, а на них – не шибко-то расстроенное лицо юной путешественницы. Зной ведь пока не донимал, дышалось легко. Да и двери для тени можно было не задвигать, вагон остановился удачно, солнце висело прямо над ним. Вытянешь руку – вот оно, солнышко, на ладошке, за спину спрячешь – и нет его, тень.
Из-за края вагона выплыл огромный арбуз. Почти уже дремавшая девчонка не сразу разобралась, сон это или явь. В реальность ее вернул звонкий крик знакомого голоса:
– Ну, ты соня! Ну, ты спать! Чего ты смотришь? Помогай давай уже!
Из-под арбуза торчала ликующая рожица подружки Мани.
– Ты где его взяла?
– Тебе какая разница? Принимай давай!
Маша помогла загрузить тяжеленный полосатый шар, напоминающий школьный глобус, откатила его подальше от дверей, в угол вагона, а потом протянула руку помощи карабкающейся Маньке. Как только та забралась, скрежетнули колеса, и поезд тронулся.
– Ты же могла отстать!
– А вот и не отстала!
Девочки очень походили друг на друга. Обе худенькие, обе с тонкими косичками, обе остроносые, обе в одинаковых ситцевых сарафанах. За эти сизые сарафаны уличные мальчишки их дразнили инкубаторскими или детдомовскими, но они не обижались, поскольку на самом деле жили в настоящем детском доме и, совершенно не смущаясь, называли себя детдомовками.
– А Гитлер какой? – спросила Маша, уютно укладываясь рядом с Маней.
– Гадкий, худой, противный… Волосы у него немытые всегда… – перекрикивая стук колес, ответила Маня. – Нам же его по кинохронике на станции показывали. Помнишь?
– Нет.
– Кулема.
– Сама ты кулема.
– Орет как дурак. И усы у него квадратные.
– Сволочь какая…
– Гадина, да…
– Ты вот зачем арбуз притарабанила? Скиснет на солнце-то…
– Ничо не скиснет. Слупасим, как миленькие.
– Уссымся же! Савич говорила, станций не будет до ночи. – Ничо не уссымся. Чо ты? Остановимся еще сто раз.
Обеда же тоже не будет, вагон со столовкой бомбанули вчера. А мы им и наобедаемся.
– Вагоном? – рассмеялась Маша.
– Арбузом.
– Фу, он же теплый будет.
– Вагон? – теперь уже смеялась Маня.
– Арбуз!
– Он и был теплый. Они всегда теплыми растут. Их уже потом, когда сорвут, на леднике охлаждают, чтобы жажду людям утоляли.
Слишком жарким получился конец лета в сорок первом году, они ехали уже почти неделю, а дождика так и не было ни одного. В некоторых водокачках на станциях даже вся вода высохла. Зато урожайным выдался тот год: арбузы, дыни, виноград, помидоры, яблоки, другие овощи и фрукты девчонки видели каждый день.
– Ух! Гляди! Лен цветет!
– И чо?
– Красиво.
До самого горизонта, встык безоблачному синему небу, со всех сторон плескалось огромное море светло-синих цветов.
– Да… Лен-конопель… Синее такое все. А это разве лен? Я думала, он коричневый, – задумчиво спросила Маня.
– Дурочка. Он потом коричневый, когда из него веревки делают и тряпки. А когда цветет – он синий-синий очень, как незабудки. Видишь?
– Дай шаркунок!
– Не-а… – Маша крепко сцепила кулачком ворот сарафана, под которым на суровой, видимо пеньковой, нитке болтался невзрачный берестяной шаркунок, будто подружка собиралась отнять его силой.
– Ну дай… Я же отдам потом…
– Ты мне тогда два дня не отдавала. От самого Николаева… И в тупике когда стояли… Не дам, не проси.
– Жадина-говядина, пустая шоколадина!
– Ну и пусть! Зато у меня мой шаркуночек есть!
– Жмотина!
– Ну и пусть! Ты же тогда как-то не так обзывалась?
– Буржуйка?
– Нет.
– Жадница?
– Да! – смеялась Маша. – Жадница… Получается: и жадная, и задница…
– Не дашь – я с тобой вообще разговаривать не буду до вечера. Дай!
– Маня, не попрошайничай, пожалуйста. Он же мой. Он же только у меня должен быть. Я же его нашла.
– Я его нашла! Я первая увидела.
– А подняла его я! Значит – мой!
– И мой! Я же не насовсем, на денек только. Желание загадаю, и все. Дай?!
– Пионерка, а в сказки веришь. Не дам.
– Всем расскажу, что ты хоть тоже пионерка, а сама у боженьки просишь!
– Не прошу, а загадываю! Не у боженьки, а у шаркунка!
– А он взаправду желания исполняет?..
– Смотри, уж сколько едем, а лен все не кончается. Синий-синий, как море.
– Ага… Синий-синий, как небо… Красиво… Хорошо… Не жарко…
– А вон там журавли летят, смотри!
– Да, опять снова летят. Какие-то они маленькие. Может быть, это утки?
– Нет, журавли!
– Утки!
– Журавли. Только они далеко.
Девочки надолго замолчали. Просто ехали, слушали ритмичные колесные стуки и гудки паровоза, таращились на поля, редкие перелески и высокое синее небо.
– Да… – напевно выговорила Маня. – А наши парни, дураки, все на фронт убежали.
– Как это?
– Так это! Еще утром на станции. Спать надо меньше. Савич как сирена орала, а чо орать-то? Все! Тю-тю! Догонять их не стали. Телеграммы на прошлые станции пульнули с приметами по списку, и все. Вояки! Твой Пашечка их подзудил, наверное. Вертля! Сели на встречный товарняк и укатили. Даже все средние отряды тоже. Пашка их подговорил. Блоха на гребешке! Теперь у нас из-за него целый эшелон малышни и баб. Приедем на Урал, нам скажут: «Давайте делайте гранаты», а мы скажем: «Мы не можем, у нас парни на фронте, а малышня обсерлась».
Маша поднялась, одернулась и села на коленки.
– А… как же?..
– Так же!
– И Паша убежал?
– Тетеря сонная. Я думала, ты знаешь…
– Мы же звезду смотреть хотели ночью.
– Теперь вдвоем посмотрим. Что ее смотреть? Она уже три дня за нами едет.
– Мы же загадали, если она отстанет, значит, мы уже приехали в новую жизнь.
– Так это же Полярная звезда. Не знаешь ничего по географии! На Украине ее не было. А тут она везде висит. Вот ночью поглядишь, она опять поедет рядом с нами. Понимаешь? Мы, получается, уже приехали! А он давным-давно в другую сторону поехал. Назад, где нет звезды… Обратно…
Маша плюхнулась на сено и прошептала сквозь слезы:
– Его убьют!
– Маш, ты чо, влюбилась, – приподнялась над нею Маня, – ты влюбилась, бедная? Да ты не волнуйся, может, он героем станет. Война-то скоро кончится. А он поймает Гитлера. А мы ему гранат наделаем на «Уралмаше». Мы же без парней гранаты сможем делать? Правда? Да?
– Убьют его! Убьют…
– Маша, что ты говоришь? Кому он нужен, твой этот Пашка-вошка? Из-за него, что ли, немцы на нас войной напали? А на фронте кормят хорошо, каждому дают две банки тушенки в день! Сколько можно порчеными помидорами, грушами и арбузами пробавляться по овощным вагонам? Хоть мяса парень поест досыта. Еще и Гитлера убьет. К Новому году приедет в орденах и медалях. Не реви ты, глупая! Все же хорошо! Наше дело правое, победа будет за нами!
Маша перестала плакать, села рядом.
– Хорошо… Ты сама придумала его вошкой дразнить?
– Я придумала! Сама!
– Смешно.
– Вернется, вместе посмеемся… Не реви…
– Хорошо, что мы с тобой! Давай всегда вместе будем.
– Будем-будем! Мы и так всегда вместе были. Ты вот помнишь, где нас поймали?
– На рынке… под прилавком…
– А город помнишь?
– Нет. Башню помню и собак.
– Ну, собак я тоже помню, с ними в обнимку спать тепло. Давай, когда вырастем, собак себе заведем больших? Пойдем на улицу и подберем себе пару бродячих псов, на наших тех похожих. Возьмем?
– Возьмем. А мы еще не выросли?
– Нет. Надо в комсомол вступить сначала.
– Смотри, а лен все не кончается…
– Ты не отвлекайся. Надо же знать, откуда мы взялись. Я, кроме шаркунка, вообще ничего толком не помню.
Базар, башня, собаки, шаркунок…
– Там еще трамваи были. Много трамваев…
– Точно! Значит, город был большой! Киев? Одесса?
– Да не похоже. Холодно там было. Помнишь, нас привезли к детдому, будто кукол завернутых? Помнишь? В больших и длинных полушубках. Таких зипунов на Украине осенью не бывает. Может, мы из Москвы?..
– Эх, Машка, Машка, беспризорная ты моя душа!
– Маняшка, Маняшка, подружайка ты моя сердечная!
Потом они опять просто ехали, устроившись на самом краешке вагона, свесив ноги вниз, просто молчали и смотрели на алый закат. Маша, уткнувшись в плечо подруги, тихо плакала.
– Не плачь, Машка. Подождать немного надо. Вернется твой живчик. Мы же девочки. Дождемся, пока мальчишки гадов победят, все опять хорошо потом будет. Костры будем делать, песни петь. Смотри, какие здесь вечера быстрые. Раз – и темно. Вот она и звезда твоя, как миленькая. Солнышко еще не закатилось толком, а уже и луна, и звезды!
– Где это?
– Гляди, плакса!
– Ой! Маруся, глянь! Вот же она опять!
– Я же тебе говорила. Так и приедем мы с ней. Почти приехали.
– Скорей бы уже. Буду ждать. Я дождусь.
– Подожди. Уже скоро. Видишь, льна снова не видно, коричневый опять уже.
– Это потемки потому что. Так-то он синий.
– Синий… Да… Дай шаркунок! – лукаво усмехнулась Маня.
– Ты что? Не поняла? Не дам!!!
– Тогда я завтра с тобой не буду разговаривать! Бойкот тебе будет!
– Ну и не разговаривай.
– Ну и не буду!
– Ну и не надо!
– Жадница!
– Передница!
Будто подслушав их разговор, поезд замедлил ход, зашипел и остановился на темном полустанке.
– Я тогда сейчас к малявкам ночевать пойду, а ты тут сама свои звезды считай! И не забудь двери на ночь задвинуть, а то опять выстудит весь вагон.
– Не уходи, Маня!
– Люби меня, как я тебя, и будем верными друзьями! Завтра – молчок! Кошка сдохла, хвост облез, кто слово скажет, тот и съест! Я с тобой, Машка, не разговариваю!
Она ловко спрыгнула на землю и побежала в темноту вдоль состава назад.
В первое утро сорок пятого года заводское общежитие укладывалось спать. Однако кое-кто в мужском блоке, особо непоседливый, все еще старался праздновать. Из-за стены время от времени долетали звуки патефона или гармони, иногда слышалась тихая песня под гитару и мандолину.
Уже три с лишним года подружки так и жили в этой комнате на двенадцать коек. Вот как приехали с вокзала, как заняли две кровати у окна, так и не расставались. Всю войну, получается, они были все время вместе: на работе в одной смене, в школе, на танцах, в кино, на дежурствах в больнице у малышей и в одной колонне на всех демонстрациях.
– Танцуют… – пробурчала Маша, отодвинув стакан с недопитым чаем и утирая пот полотенцем.
– Пляшут, да… Пойдем к ним? – предложила Маня, присаживаясь к столу.
– Ты иди, я тут побуду. Лихо мне…
– Заболела же! Валенки не надела, вот и снемогла ты, хвороба! Сейчас-то хоть ноги погрей. Поотмечала Новый год, кулемушка. «Некрасиво-некрасиво»… Двадцать градусов мороза на дворе, снега по колено, а мы до клуба премся в туфельках-чулочках.
– Я же в ботиках ходила.
– А хорошо мы добежали, да? Парни с тарного цеха хорошие! Провожать назад пошли. Только ноги у них у всех короткие. Тут они у всех короткие, некрасивых много тут живет. Я у них «Казбеком» дзобнула два раза. А на горке я чуть не убилась! А у тебя рейтузы было видно!
– Да?
– Да никто и не заметил, все снежки бросали. Много тут у них снега.
Маша положила подбородок на ладони, подробно разглядела диковинные снежные узоры на оконном стекле и, не отрывая взгляда от окна, медленно произнесла:
– Да, снега здесь много. Такой красивый, как алмазы сверкает под луной. Все дома, все крыши в белых шапках, черного ничего нет, только светлое небо высокое. И тихо-тихо. Все блестит, как серебро…
– А я не видела алмазов никогда.
– И я не видела.
– А говоришь.
– Алмазы тихие, как серебро… и белые, как серебро… се-ре-бро…
– У-у… – всполошилась Маруся. – Что-то совсем ты разнедужилась и заговариваешься, подруга. Горишь ты, Машка! Красная вся! Ой! От простуды малярии не бывает?
– Нет, не бывает. Она от комаров малярийных бывает летом, а сейчас зима, комаров нет. И наших малышей ни одного уже нет, все умерли тихонечко. Комарики маленьких деток покусали. Война. Все поумирали…
– Чо ты нюнишься опять? Маленькие и без войны мерли завсегда. Это они от малярии. Мы вот к ним ходили. Может, заразились?
– Нет, это от мокриц.
– Каких мокриц?
– А я вчера дежурила по кухне, Савич щи готовила, я и поела миску.
– Ну и что такого?
– Савич слепая стала. Думала, что мелкий лук, а это мокрицы были, истопник насобирал в кастрюльку. Она взяла да и сварила их. А я поела.
– Фу.
– Да… Фу… Они сейчас во мне шевелятся.
– Фу ты, Машка! Что городишь? Как им шевелиться, когда они вареные?
– Не знаю, Маня. Но они меня жрут.
– Совсем плохая стала! Завираешься совсем. Сейчас я уксус принесу, компресс поделаем, чтоб жара не было. Сиди, молчи, – скомандовала Маня, выскакивая за дверь.
Пока подруга бегала по соседним комнатам, Маша сняла с печки теплые носки, валенки, кое-как надела их и плюхнулась в постель. Прошла-то от стола до койки, а устала, будто смену отстояла.
– Не надо, Маня… – попыталась она сбросить остро пахнущий уксусом многослойный пирог из ваты и марли со своего лба.
– Надо-надо. Терпи! – удержала ее за руки Маня.
– Вот и будет тебе шаркунок, – послышалось через минуту из-под компресса.
– Наконец-то… сподобилась…
– Когда помру.
– Так. Значит, опять не сейчас?
– Нет.
– Вот ведь до чего упрямая корова! Дай!
– Не дам.
– Так вот ты всегда во всем! Гордая очень! Так и про-упрямишься всю жизнь. Сережка-то, очкарик, какие хороводы вокруг тебя выплясывал сегодня. Употелся парень. Любит, видно. А ты ни разу с ним не поплясала. Не нравится?
– Нет.
– Совсем-совсем?
– Ну, так…
– А почему?
– Не знаю.
– А я знаю!
– Почему?
– Дашь шаркунок, скажу!
– Ну и не говори!
– Ну ладно, так скажу! Это потому, что он не убежал с парнями. Да? Все-все рванули, он один остался. Да? Ты его за это и не любишь. Правда?
– Не знаю я, – задумчиво пробормотала Маша.
– Не любишь, я же вижу хорошо. А он симпотный, в комсомол вступил уже. Я его, наверное, люблю.
– Если «наверное», то не любишь. Любят не наверно, а наверняка.
– Я, может быть, наверняка? Откуда ты знаешь?
– Не любишь.
– Это почему это?
– Потому что «может быть». Не настоящее это у тебя. Просто потому что надо и хочется. А настоящего дождаться надо.
– Гадина ты, Маша! Я с тобой, как с человеком, а ты со мною, как свинья!
– Не обижайся ты, сама же начала.
– Гнида!
– Маруся, не ругайся.
– Гнида и есть.
– Маруся…
Не на шутку раззадорившись, Маня бегала между кроватями, размахивала руками, часто грозила пальчиком в сторону сидящей в постели подруги, словно решаясь на что-то. Наконец она выпалила:
– Я тогда тебе за это сейчас такое расскажу! Будешь знать! Не дождешься ты своего настоящего! Умер давно твой настоящий! Всё!
– Пашка?
– Вошка! Конечно, Пашка, кто еще? Не жди ты его. Не доехали они до фронта, все сгорели. Савич рассказала. Разбомбили товарняк прямо на станции, а в нем снаряды были. Вот они и сгорели. Все! Это, когда мы уже сюда приехали.
– И Паша?
– И Паша! Все.
В комнате повисла оглушающая тишина. Неожиданно побелевшая Маша убрала компресс на тумбочку, опустила руки к полу, сползла с кровати и свернулась на полу калачиком, уткнув лицо в коленки. Так делают собаки, ночуя на снегу. Маня попробовала что-то сказать, подойти к ней, но не сразу решилась. Потом все-таки приблизилась, подхватила под руки, уложила в постель.
– Паша сгорел! – пролепетала Маша.
– Я знаю.
– Почему?
– Война, – уверенно сказала Маня, накладывая компресс.
– А почему война? А почему Паша?
– Гадина Гитлер так захотел. Забоялся, что Пашка его убьет.
– Не в этом дело, Маняшка. Такое время в мире – война. Иногда все очень запутывается, и люди воюют.
– Чтобы распутать мир?
– Да, чтобы исправить мир войной. Чистят они его, уничтожают гадин и снова живут себе в ясном мире.
– Так Паша Гитлера и не убил. Жалко, не успел стать героем.
– Успел. Он уже был герой, когда поехал. Ох… Но его же уже нет…
– Нет.
– А кого мне ждать?
Рядом с ними, за стенкой, вновь заиграл патефон, звучало что-то танцевальное, модное, громкое, а в ответ ему откуда-то очень-очень издалека запела тихая мандолина.