I. Два классика
1 Эрнст Любич – поэт цинической мудрости?
Чтобы отдохнуть от скучной работы мессией, от проповедей и сотворения чудес, Иисус взял небольшой отпуск и теперь играл в гольф с одним из своих апостолов на берегу Галилейского моря. Иисус не справился со сложным ударом, и мяч угодил в воду, так что Иисусу пришлось пройти по воде (его стандартный трюк) до места, где упал мяч, наклониться и подобрать его. Когда Иисус вновь попытался выполнить этот же удар, апостол предупредил его, что удар очень сложный и под силу только какому-нибудь Тайгеру Вудсу. Иисус ответил: «Да какого черта, я – сын Бога! Если это может жалкий смертный вроде Тайгера Вудса, я тоже это смогу!» И он снова ударил. Мяч опять угодил в воду, и Иисус опять пошел по поверхности воды, чтобы вернуть его; в это время мимо проходила группа американских туристов, и один из них, наблюдая за происходящим, обратился к апостолу: «Боже мой, да кем этот парень себя возомнил? Иисусом Христом?» Апостол ответил: «Нет, он думает, что он Тайгер Вудс!» Так работает фантазматическая идентификация: никто, даже сам Бог, не является непосредственно тем, кем является, поэтому даже Богу нужна внешняя децентрированная точка идентификации с минимальным фантазийным сценарием.
Эрнст Любич – это режиссер, чьи работы содержат разнообразные вариации этого децентрирования. Тема децентрированной фантазии, поддерживающей сексуальные отношения, принимает странный оборот в «Недопетой колыбельной» (Broken Lullaby, 1932; оригинальное название – «Человек, которого я убил» – сначала было изменено на «Пятую заповедь», чтобы «не создавать у публики ложного впечатления о характере истории», и в конце концов на «Недопетую колыбельную»). Вот краткое содержание истории. Французский музыкант Поль Рено, которому не дают покоя воспоминания об Уолтере Холдерлине, солдате, которого он убил во время Первой мировой войны, отправляется в Германию, чтобы разыскать его семью, воспользовавшись адресом на письме, которое он нашел на теле убитого. Из-за антифранцузских настроений, все еще распространенных в Германии, доктор Холдерлин сначала отказывается впустить Поля в свой дом, но меняет решение, когда невеста его сына Эльза узнаёт в Поле человека, оставлявшего цветы на могиле Уолтера. Вместо того чтобы рассказать о настоящей природе своей связи с Уолтером, Поль говорит Холдерлину, что был другом его сына и что они учились в одной консерватории. Несмотря на слухи и неодобрение враждебно настроенных к нему горожан, Поль становится приятелем Холдерлина и влюбляется в Эльзу. Когда Эльза показывает Полю спальню бывшего жениха, он приходит в смятение и рассказывает ей правду. Она убеждает его не сознаваться родителям Уолтера, принявшим его как своего второго сына; Поль соглашается терпеть муки совести и остается в своей «приемной» семье. Доктор Холдерлин дарит Полю скрипку Уолтера, и в финальной сцене фильма Поль играет на скрипке под фортепианный аккомпанемент Эльзы, ловя любящие взгляды супругов Холдерлин… Не удивительно, что Полин Кейл отвергла фильм, заявив, что Любич «принял скучный, сентиментальный, дешевый прием за ироническую, поэтическую трагедию»[21].
В фильме определенно есть что-то тревожное, он странным образом колеблется между поэтической мелодрамой и грязным юмором. Под покровительственным взглядом родителей жениха возникает счастливая пара (девушка и убийца ее предыдущего жениха) – именно этот взгляд создает фантазийные рамки их отношений, так что встает очевидный вопрос: делают ли они это на самом деле ради родителей, или же этот взгляд является оправданием, позволяющим им заняться сексом? Этот очевидный вопрос, разумеется, ложен, поскольку не важно, какой из ответов верен: даже если взгляд родителей является оправданием секса, он все равно является необходимым оправданием.
На децентрирование также опирается одна из лучших шуток абсолютного шедевра Любича «Быть или не быть». Польский актер Юзеф Тура в разговоре с высокопоставленным польским коллаборационистом изображает полковника Эрхардта из гестапо и (как ему кажется) с нелепой преувеличенной эмоциональностью комментирует слухи о себе: «Так, значит, они зовут меня Эрхардтом, концентрационных дел мастером?» – сопровождая свои слова пошлым смехом. Чуть позже Туре приходится бежать, кроме того, появляется настоящий Эрхардт; когда в разговоре речь заходит об окружающих его слухах, Эрхардт ведет себя точно так же, как актер, исполнявший его роль, то есть с нелепой преувеличенной эмоциональностью… Послание ясно: даже сам Эрхардт не является непосредственно собой, он также имитирует свою собственную копию или, точнее, нелепое представление о себе. Тура играет Эрхардта, а Эрхардт играет самого себя.
В «Магазинчике за углом» (The Shop Around the Corner, 1940) это децентрирование представлено под видом пересекающихся фантазий. Этот фильм, действие которого происходит в одном из магазинчиков Будапешта, рассказывает историю двух его работников – Клары Новак и Альфреда Кралика, испытывающих сильную неприязнь друг к другу и одновременно поддерживающих друг с другом тайные отношения по переписке, даже не подозревая, кому они пишут. Они влюбляются друг в друга по переписке, в то время как в реальной жизни испытывают друг к другу антипатию и ругаются. (Более новый голливудский хит «Вам письмо» – You’ve Got Mail – является имейл-ремейком «Магазинчика за углом»; кроме того, следует упомянуть о забавном случае, который произошел пару лет назад – как это ни удивительно – в Сараево: муж и жена поддерживали горячую любовную связь с анонимными партнерами; когда же они наконец решили встретиться со своими партнерами во плоти, то обнаружили, что флиртовали друг с другом… – стало ли результатом счастливое возрождение брака, когда они обнаружили друг в друге партнеров мечты? Пожалуй, нет – подобное претворение мечты в реальность, как правило, оборачивается кошмаром.)
Урок этого децентрирования заключается просто-напросто в том, что в любовных отношениях мы никогда не бываем наедине с партнером: мы всегда играем роль перед чужим взглядом, воображаемым или реальным. Именно с учетом этого нам следует перечитать текст Лакана о логическом времени, в котором он дает блестящую интерпретацию логической задачи о трех заключенных[22]. Интересен тот малоизвестный факт, что оригинальная форма этой задачи возникла в XVIII в., в эпоху французского либертинажа с его смесью секса и холодной логики (кульминацию которого мы находим у де Сада)[23]. В этой сексуализированной версии начальник женской тюрьмы решает, что дарует амнистию одной из трех заключенных; победительницу определит испытание на интеллект. Три женщины – обнаженные ниже пояса – будут поставлены вокруг большого круглого стола и наклонены к нему, давая возможность для проникновения a tergo. Затем в каждую женщину войдет черный либо белый мужчина, так что она сможет видеть лишь цвет мужчин, входящих в остальных двух женщин, стоящих перед ней; ей будет известно только то, что начальник может использовать в этом эксперименте пять мужчин – трех белых и двух черных. С учетом этих входных параметров победительницей станет та женщина, которая первой сможет определить цвет кожи мужчины, который ее трахает, оттолкнуть его и покинуть комнату. Здесь возможны три варианта, причем каждый следующий вариант превосходит предыдущий по сложности:
В первом случае женщин трахают один белый и два черных мужчины. Поскольку женщина, которую трахает белый мужчина, знает, что черных мужчин может быть лишь два, она может мгновенно встать и выйти из комнаты.
Во втором случае женщин трахают один черный и два белых мужчины. Следовательно, две женщины, которых трахают белые мужчины, могут видеть одного черного и одного белого мужчину. Женщина, которую трахает черный мужчина, может видеть двух белых мужчин, но поскольку всего белых мужчин трое, она не может моментально подняться со своего места. Тогда победительница может появиться лишь в том случае, если одна из женщин, которых трахает белый мужчина, станет рассуждать следующим образом: «Я вижу одного белого мужчину и одного черного мужчину, так что парень, который трахает меня, может оказаться как белым, так и черным. Однако если меня трахает черный мужчина, женщина, которую трахает белый мужчина, увидела бы двух черных мужчин и мгновенно заключила бы, что ее трахает белый, – она могла бы немедленно встать и уйти. Но она этого не сделала, значит, тот, кто меня трахает, должен быть белым».
В третьем случае всех трех женщин трахают белые мужчины, так что каждая из них видит двух белых мужчин. Следовательно, каждая из них может рассуждать так же, как победительница во втором случае: «Я вижу двух белых мужчин, поэтому тот, кто меня трахает, может быть как черным, так и белым. Но если бы меня трахал черный мужчина, остальные две женщины могли бы рассуждать так (как победительница во втором случае): “Я вижу одного белого мужчину и одного черного мужчину, так что парень, который трахает меня, может оказаться как белым, так и черным. Однако если меня трахает черный мужчина, женщина, которую трахает белый мужчина, увидела бы двух черных мужчин и мгновенно заключила бы, что ее трахает белый, – она могла бы немедленно встать и уйти. Но она этого не сделала, значит, тот, кто меня трахает, должен быть белым”. Но поскольку ни одна из них не встала, значит, тот, кто меня трахает, также должен быть не черным, а белым».
Но тут в игру вступает само логическое время. Если бы все три женщины были равны в своих интеллектуальных способностях и действительно встали в одно и то же время, это бы вызвало у них радикальные сомнения в том, кто их трахает. Почему? Ни одна из женщин не может знать, встали ли остальные потому, что провели те же рассуждения, что и она, поскольку ее трахал белый мужчина, или потому, что они рассуждали так же, как победительница во втором случае, поскольку ее трахал черный мужчина. Победительницей окажется женщина, которая первой сможет корректно интерпретировать эту неопределенность и прийти к выводу: эта неопределенность говорит о том, что всех трех женщин трахали белые мужчины.
Утешительным призом для двух оставшихся женщин должно послужить то, что их, по крайней мере, будут трахать до конца, и этот факт обретает смысл в тот момент, когда на ум приходит политическая сверхдетерминация в выборе мужчин: разумеется, было недопустимо, чтобы женщина из высшего общества в середине XVIII в. имела черного сексуального партнера, но черные мужчины были желанны как тайные любовники из-за представления об их превосходстве над белыми мужчинами в половой силе и длине полового члена. Следовательно, трах с белым мужчиной означает социально приемлемый, но не удовлетворяющий интимно секс, в то время как трах с черным мужчиной означает социально недопустимый, но более удовлетворяющий секс. Однако такой выбор более сложен, чем может показаться, поскольку в сексуальной активности всегда присутствует наблюдающий за нами вымышленный взгляд. Таким образом, посыл этой логической задачи становится двояким: три женщины наблюдают друг за другом во время секса, и им необходимо определить не просто «кто трахает меня, черный или белый парень?», а «какой я предстаю перед взором Другого, когда меня трахают?», словно сама идентичность женщины определяется этим взором. Это заставляет нас вернуться к «Недопетой колыбельной», где скрытый вопрос, который пара как бы задает в конце фильма, таков: «Какими мы предстаем перед взором родителей, когда трахаемся?»
Разумеется, это децентрирование не может полностью определить вселенную Любича – необходимо добавить еще одну особенность, наиболее очевидную в «Плане жизни» (Design for Living, 1933). «План жизни», историю, поставленную по пьесе Ноэла Коуарда, стоило бы назвать «Неприятностями в раю» (Trouble in Paradise) – название другого фильма Любича, снятого на год раньше. Художница рекламы Гилда Фаррелл работает на руководителя рекламной фирмы Макса Планкетта, изо всех сил старающегося соблазнить ее. В поезде по дороге в Париж она встречает художника Джорджа Кертиса и драматурга Томаса Чамберса – двух, как и она, американцев, снимающих одну на двоих квартиру в Париже, которые влюбляются в нее. Не в силах выбрать между ними, Гилда предлагает жить с ними как друг, муза и критик – с условием, что у них не будет секса. Однако когда Том уезжает в Лондон, чтобы следить за постановкой своей пьесы, между Гилдой и Джорджем возникает романтическая связь. Вернувшись в Париж, Том обнаруживает, что Джордж уехал в Ниццу рисовать портрет, и также использует возможность соблазнить Гилду. Когда же все трое встречаются вновь, Гилда выставляет обоих мужчин за порог и решает исход соперничества, выходя замуж за Макса в Нью-Йорке, однако так огорчается, получив в качестве свадебного подарка от Тома и Джорджа домашнее растение, что даже не вступает в брачные отношения с мужем. Когда Макс устраивает в Нью-Йорке вечеринку для своих клиентов-рекламодателей, Том и Джордж портят ее и прячутся в спальне Гилды. Макс обнаруживает троицу, весело смеющуюся на кровати, и велит мужчинам убираться. Во время следующего за этим скандала Гилда объявляет, что уходит от мужа; она, Том и Джордж решают вернуться в Париж, к своему ménage à trois.
Что же за неприятности происходят в раю счастливого ménage à trois? Является ли неприятностью моногамный брак, который вводит в счастливый промискуитет, предшествующий Грехопадению, измерение Грехопадения, Закона и его преступления, или же «неприятности в раю» – это состязательная ревность двух мужчин, нарушающая покой Гилды и заставляющая ее искать убежище в браке? Можно ли сделать из фильма вывод: «Лучше неприятности в раю, чем счастье в аду брака»? Каким бы ни был ответ, в финале изображено возвращение в рай, так что суммарный итог можно перефразировать языком Г. К. Честертона:
Брак сам по себе – это самый сенсационный побег и самый романтический бунт. Когда пара влюбленных произносит свои брачные клятвы, одиноко и даже бесстрашно стоя в гуще многочисленных соблазнов удовольствий множественных связей, это определенно заставляет нас вспомнить, что именно брак является оригинальным и поэтическим образом, в то время как неверные супруги и участники оргий – всего лишь старые тихие космические консерваторы, находящие радость в первобытной респектабельности среди неразборчивых в своих связях обезьян и волков. Супружеские клятвы основаны на том факте, что брак – это самый мрачный и дерзкий из заговоров[24].
Когда в 1916 г. любовница (на тот момент бывшая) Ленина Инесса Арманд написала ему, что даже мимолетная страсть более поэтична и чиста, чем поцелуи без любви между мужем и женой, он ответил: «Поцелуи без любви у пошлых супругов грязны. Согласен. Им надо противопоставить… что?.. Казалось бы: поцелуи с любовью? А Вы противопоставляете “мимолетную” (почему мимолетную?) “страсть” (почему не любовь?) – выходит, по логике, будто поцелуи без любви (мимолетные) противопоставляются поцелуям без любви супружеским… Странно»[25]. Ответ Ленина обычно отвергают как доказательство его личных мелкобуржуазных сексуальных ограничений, поддерживаемых горькой памятью о закончившейся связи; однако в нем есть нечто большее: понимание, что «поцелуи без любви» в браке и внебрачная «мимолетная связь» – это две стороны одной медали: они обе избегают соединения Реальности безусловной страстной привязанности с формой символического провозглашения. Скрытое допущение (или, скорее, предписание) стандартной идеологии брака состоит именно в том, что в нем не должно быть любви: человек вступает в брак, чтобы излечиться от излишних страстных привязанностей, заменить их скучным ежедневным ритуалом (а если он не в состоянии противостоять искушениям страсти, существуют внебрачные связи…).
Любич, к сожалению, не делает этого ключевого дополнения, не объявляет брак высочайшей трансгрессией – точнее, он видит, что брак – это дерзкий заговор, но выбирает старый, тихий и консервативный ménage à trois. Таким образом, он остается в рамках циничной позиции уважения к внешним проявлениям и одновременно их тайной трансгрессии. Так что, если Любич выступает как режиссер-аналитик, субъективная позиция его фильмов близка к той, что поддерживает Жак-Ален Миллер, для которого психоаналитик
занимает место ироничного человека, старающегося не вступать на территорию политики. Он действует так, чтобы видимости оставались на своих местах, одновременно следя за тем, чтобы субъекты, находящиеся под его наблюдением, не принимали их за реальность… человеку следует неким образом сохранять увлеченность ими (подверженность их обману). Лакан мог бы сказать, что «те, кто этого не делает, совершают ошибку»: если человек не ведет себя так, словно видимости реальны, если он подвергает проверке их реальность, ситуация меняется к худшему. Те, кто считает, что все знаки власти лишь видимость, опирающаяся на тиранию дискурса их хозяина, плохие мальчики – и их отчуждение даже более велико[26].
Таким образом, в вопросах политики психоаналитик «не предлагает проектов и не может их предлагать, он может лишь высмеивать чужие проекты, что ограничивает рамки его утверждений. У ироничного человека нет великих планов, он ждет, когда заговорит другой, а затем подталкивает его к скорейшему падению… Будем считать, что это просто политическая мудрость и ничего больше»[27]. Аксиома этой «мудрости» заключается в том, что
человеку следует защищать внешние проявления власти по той простой причине, что он должен иметь возможность продолжать испытывать наслаждение. Смысл в том, чтобы не привязываться к внешним проявлениям существующей власти, но считать их необходимыми. «Это соответствует определению цинизма по Вольтеру, согласно которому бог – это наша выдумка, необходимая для поддержания людьми внешних приличий» (Миллер). Целостность общества поддерживается только внешними атрибутами, «что означает: нет общества без подавления, без идентификации и – в первую очередь – без общепринятой практики. Такая практика необходима» (Миллер)[28].
Можно ли не заметить в этой цитате эхо «Процесса» Кафки, в котором публичный Закон и Порядок утверждаются как видимость, лишенная истинности и тем не менее необходимая? Выслушав толкование священником истории о Вратах Закона, Йозеф К. качает головой и говорит: «Нет, с этим мнением я никак не согласен. Если так думать, значит, надо принимать за правду все, что говорит привратник. А ты сам только что вполне обоснованно доказал, что это невозможно». «Нет, – говорит священник, – вовсе не надо все принимать за правду, надо только осознать необходимость всего». «Печальный вывод! – говорит К. – Ложь возводится в систему»[29]. Разве не это основная позиция Любича? Закон и Порядок – это видимость, но нам следует притворяться, что мы уважаем их, и наслаждаться своими маленькими радостями и другими трансгрессиями… Вспомним знаменитую остроту Генриха Гейне о том, что превыше всего человеку следует ценить «свободу, равенство и крабовый суп». «Крабовым супом» здесь названы все маленькие радости, в отсутствие которых мы становимся (ментальными, если не реальными) террористами, следующими абстрактной идее и пытающимися воплотить ее в реальность без всякого внимания к конкретным последствиям… (Здесь следует подчеркнуть, что как раз этой «мудрости» совершенно не подразумевали Кьеркегор и Маркс, когда предлагали свои версии остроты Гейне – их послание прямо противоположно: сам принцип в своей чистоте уже окрашен частностью элемента крабового супа – «свобода, равенство и Бентам»; «офицеры, домработницы и трубочисты», – то есть частность поддерживает саму чистоту принципа).
Эта позиция мудрости отчетливее всего изображена в фильме «Небеса могут подождать» (Heaven Can Wait, 1943). В начале фильма старый Генри ван Клиф входит в роскошную приемную Ада, где его лично встречает «Его Превосходительство» (Дьявол). Генри рассказывает ему историю своей распутной жизни, которая позволит определить его место в аду. Выслушав историю, Его Превосходительство, очаровательный старик, отказывает ему в праве входа и предлагает попытать счастья «в другом месте», где его ждут его умершая жена Марта и его добрый дедушка – «возможно», наверху «в пристройке найдется небольшая свободная комнатка». Итак, Дьявол оказывается не кем иным, как Богом, наделенным мудростью и не принимающим запреты слишком серьезно, прекрасно сознавая, что небольшие нарушения делают нас людьми… Но если Дьявол – добрый и мудрый, не является ли настоящим Злом сам Бог, которому недостает иронической мудрости и который слепо настаивает на подчинении своему Закону?[30] Вспомним еще одну симпатично-вульгарную шутку об Иисусе: в ночь перед тем, как он был арестован и распят, его ученики начали волноваться – Иисус все еще девственник, возможно, ему не помешало бы испытать немного удовольствия, прежде чем он умрет? Они попросили Марию Магдалину отправиться в шатер, где отдыхал Иисус, и соблазнить его; Мария сказала, что с радостью исполнит это поручение и вошла в шатер, но через пять минут выскочила из него с криком ужаса и ярости. Ученики спросили ее, что пошло не так, и она объяснила: «Я медленно разделась, раздвинула ноги и показала Христу свою киску; он посмотрел на нее и сказал: “Какая ужасная рана. Ее необходимо исцелить!” – и мягко приложил к ней руку…» В общем, опасайтесь людей, слишком настойчиво стремящихся исцелить других: чтобы мы наслаждались раем, в нем должны быть хоть какие-то неприятности.
Разве не это «мрачная и жуткая» тайна, лежащая в самой основе христианства? В своем религиозном триллере «Человек, который был Четвергом» Честертон рассказывает историю Гэбриела Сайма, молодого англичанина, совершающего архетипическое честертоновское открытие о том, что порядок – величайшее чудо, а ортодоксия – величайший бунт. Центральная фигура романа – это не сам Сайм, а загадочный начальник сверхсекретного департамента Скотланд-Ярда, который нанимает Сайма. Первое задание Сайма заключается в том, чтобы проникнуть в состоящий из семи членов Центральный Совет анархистов, управляющий орган тайной сверхмогущественной организации, намеренной уничтожить нашу цивилизацию. В целях сохранения секретности его члены знают друг друга лишь по имени – названию дня недели; посредством сложных манипуляций Сайм становится Четвергом. На своей первой встрече Совета он знакомится с Воскресеньем, удивительным президентом Центрального Совета анархистов, большим человеком, наделенным невероятной властью, глумливо-ироничным и весело-беспощадным. В ходе дальнейших приключений Сайм узнаёт, что остальные пятеро членов совета также являются секретными агентами, членами того же тайного подразделения, что и он, нанятыми неким невидимым шефом, голос которого они слышали; наконец они объединяют свои силы и выступают против Воскресенья. Здесь роман превращается из детектива в метафизическую комедию: мы обнаруживаем две удивительные вещи. Во-первых, Воскресенье, президент Совета анархистов, – это тот же самый человек, что и загадочный шеф, нанявший Сайма (и остальных элитных детективов) для борьбы с анархистами; во-вторых, он не кто иной, как сам Бог. Разумеется, эти открытия толкают Сайма и других агентов к серьезным размышлениям – в своем по-английски немногословном комментарии один из детективов говорит: «Это так глупо, что ты был на обеих сторонах и боролся с самим собой»[31]. Если существует британское гегелианство, то это именно оно: буквальный перенос ключевого тезиса Гегеля о том, что в борьбе с отчужденной субстанцией субъект сражается со своей собственной сущностью. Герой романа Сайм в конце концов вскакивает на ноги и с безумным возбуждением разъясняет загадку:
Я вижу все, все, что есть. Почему каждая вещь на планете ведет войну против каждой другой вещи? Почему каждая маленькая вещичка должна сражаться с самим миром? Почему муха должна сражаться со всей вселенной? Почему одуванчик должен сражаться со всей вселенной? По той же причине, по которой мне пришлось остаться одному в ужасном Совете Дней. Для того, чтобы каждая вещь, покорная закону, могла насладиться славой и изоляцией анархиста. Для того, чтобы каждый человек, борющийся за порядок, мог быть храбрым и добрым террористом. Для того, чтобы настоящая ложь Сатаны могла быть брошена в лицо этому богохульнику и своими слезами и мучениями мы заслужили бы право сказать: «Ты лжешь!» Никакая агония не может быть слишком велика, если она дает право сказать этому обвинителю: «Мы тоже страдали»[32].
Таким образом, мы получаем формулу: «Для того, чтобы каждая вещь, подчиняющаяся закону, могла насладиться славой и изоляцией анархиста». Закон – это величайшая трансгрессия, а защитник Закона – величайший бунтарь. Однако где предел этой диалектики? Справедлива ли она в отношении самого Бога? Является ли Он, воплощающий космический порядок и гармонию, также и настоящим бунтарем, или Он – милостивая сила, с задумчивой мудростью наблюдающая с мирной Высоты за причудами смертных, сражающихся друг с другом? Когда Сайм обращается к Богу с вопросом: «Ты когда-нибудь страдал?», ответ Бога таков:
На глазах [у Сайма] большое лицо выросло до ужасающих размеров, стало больше грандиозной маски Мемнона, заставив его закричать, как ребенка. Оно росло и росло, заполняя все небо; затем все стало черным. Лишь в этой черноте, прежде чем она окончательно уничтожила его мозг, ему показалось, что он слышит далекий голос, произносящий банальные слова, которые он где-то уже слышал: «Можешь ли ты испить из чаши, из которой пью я?»[33]
Последнее откровение – о том, что сам Бог страдает даже больше, чем мы, смертные, – приводит нас к фундаментальному прозрению «Ортодоксии», теологического шедевра Честертона (принадлежащего к тому же периоду – он был опубликован через год после «Четверга»), содержащего не только догадку о том, что ортодоксия – это величайшая трансгрессия, самая мятежная и отчаянная, но и гораздо более мрачную догадку о главной тайне ортодоксии:
То, что хороший человек может быть поставлен спиной к стене, мы давно знаем; но то, что сам Бог может быть поставлен спиной к стене, является предметом вечной гордости мятежников. Христианство – единственная религия на земле, почувствовавшая, что всемогущество сделало Бога неполным. Лишь христианство почувствовало, что Бог, для того чтобы полностью быть Богом, должен быть одновременно и бунтовщиком, и царем[34].
Если точнее, консервативная предпосылка, согласно которой лучше не исследовать происхождение власти (если мы сделаем это, то обнаружим преступление узурпации), относится и к самому Богу: Бог тоже мятежник, захватывающий место царя (и не только царя, который изображает мятежника, чтобы оживить скучный и затхлый порядок своего творения). Именно этого последнего шага к тому, что Гегель назвал бы спекулятивной идентичностью, не смог сделать Любич, именно этого не хватает в его вселенной. Это ограничение можно почувствовать в трогательный момент фильма «Быть или не быть», когда старый еврейский актер произносит перед Гитлером знаменитые реплики Шейлока, – настоящим переворотом было бы вообразить, например, что то же самое говорит Гитлер, неким чудом оказавшийся на Нюрнбергском процессе и обвиненный в бесчеловечных зверствах: «Я нацист, я немец. Разве нет у нациста глаз? Разве нет у нациста рук, органов, чувств, эмоций, страстей? Разве его питает не та же пища, ранит не то же оружие, поражают не те же болезни, исцеляют не те же лекарства, греют и остужают не те же лето и зима, что и еврея? Если вы уколете нас, разве не польется кровь? Если вы защекочете нас, разве мы не засмеемся? Если вы отравите нас, разве мы не умрем? И если вы причините нам зло своим еврейским заговором, разве мы не отомстим?» Иными словами, убитые евреи – это просто «фунт плоти», вырезанный за всю несправедливость, от которой страдала Германия в недавней истории… Такое перефразирование, разумеется, является отвратительным непотребством, но оно делает очевидной одну вещь: призывом к элементарной человечности можно прикрыть любой ужас, он относится к жертве в той же мере, в которой относится к палачу. Истиной такого призыва была бы его крайняя форма – представьте, что Шейлок говорит: «Если у нас запор, разве не нужно нам слабительное? Если мы слышим грязные сплетни, разве не хочется нам распространить их дальше, подобно вам? Если нам выпадает шанс украсть или обмануть, разве не воспользуемся мы им, подобно вам?» Настоящая защита евреев должна быть не призывом к нашей общей человечности, а обращением к специфическому и уникальному характеру евреев (как ни странно, не кто иной, как Гегель, утверждал, что проблема освобождения евреев Наполеоном была не в том, что он даровал им гражданство, несмотря на религию – или независимо от нее, – но в том, что это освобождение не было вызвано их особыми свойствами, делающими их уникальными). Вместо «Вы должны принять нас, потому что, несмотря на наши различия, все мы люди!» должно было быть «Вы должны принять нас в силу того, что мы представляем в своей уникальности!».
Не все работы Любича можно свести к этой позиции гуманистической цинической мудрости – во многих его фильмах («Недопетая колыбельная», «Быть или не быть») присутствуют элементы, указывающие на сверхъестественное измерение за пределами мудрости, а его последний (завершенный) фильм «Клуни Браун» (1946) определенно оставляет мудрость позади и использует своего рода «эпистемологический разрыв» в любичевском œuvre – но это уже предмет другого анализа[35]. Чтобы закончить, мы должны ответить на вопрос: поскольку фильмы Любича явно отмечены своей эпохой, как бы выглядела современная версия «почерка Любича»? На время отвлечемся и рассмотрим два показательных фильма: «Жестокую игру» (The Crying Game) Нила Джордана и «М. Баттерфляй» Дэвида Кроненберга.
Несмотря на свой фундаментально различный характер, оба фильма рассказывают историю мужчины, страстно влюбленного в красивую женщину, которая оказывается мужчиной, наряженным женщиной (трансвеститом в «Жестокой игре», оперным певцом в «М. Баттерфляй»), и в центральных сценах обоих фильмов изображено травматическое столкновение мужчины с тем фактом, что объект его любви – тоже мужчина. Почему это столкновение с телом любимого так травматично? Не потому, что субъект сталкивается с чем-то чужим, а потому, что он сталкивается с фантазией, лежащей в основе его желания. Гетеросексуальная любовь мужчины гомосексуальна, ее поддерживает фантазия о том, что женщина – это мужчина, переодетый женщиной. Здесь мы видим, что значит проходить через фантазию: не смотреть сквозь нее и воспринимать замутненную ею реальность, а столкнуться с фантазией как таковой: как только мы это делаем, она теряет власть над нами (над субъектом). Как только герои «Жестокой игры» и «М. Баттерфляй» сталкиваются с фактом, игра заканчивается (конечно же, с разным результатом: в одном случае имеет место счастливый финал, в другом – самоубийство).
Так каков же выход? Как нам избежать этого тупика? Переформатировав само универсальное измерение, установив новую универсальность, которая будет содержать все желанные детали. В заключение обратимся к другому кинематографическому примеру – к фильму «Стрелла» (2009) Паноса Кутраса. Получив отказ от государственных финансовых органов и всех крупных кинокомпаний, Кутрас был вынужден снимать фильм при полном отсутствии финансирования, так что «Стрелла» оказалась совершенно независимым произведением, в котором почти все роли были сыграны непрофессионалами. Однако в результате получился культовый фильм, заслуживший многочисленные награды. Его сюжет таков: Йоргас выходит из тюрьмы, отсидев 14 лет за убийство, которое он совершил в родной греческой деревушке (в порыве ярости он убил семнадцатилетнего брата, застав его за сексуальными играми со своим пятилетним сыном). За долгое время пребывания в тюрьме он потерял связь с сыном Леонидасом, которого он теперь пытается найти. В свою первую ночь на свободе он останавливается в дешевом отеле в центре Афин, где встречает Стреллу, молодую проститутку-транссексуала. Они проводят вместе ночь и скоро влюбляются друг в друга, Йоргас становится своим в компании транссексуалов – друзей Стреллы и восхищается тем, как Стрелла изображает Марию Каллас. Однако вскоре Йоргас обнаруживает, что Стрелла и есть его сын Леонидас, с которым он потерял связь: она знала об этом все время, следила за ним, когда он вышел из тюрьмы, и ждала его в коридоре отеля. Сначала она просто хотела увидеть его, но когда он начал флиртовать с ней, она подыграла… Травмированный Йоргас бежит от нее и переживает нервный срыв, но пара восстанавливает связь и обнаруживает, что, несмотря на невозможность продолжать сексуальные отношения, они по-настоящему дороги друг другу. Постепенно они находят modus vivendi и в финальной сцене фильма празднуют Новый год: Стрелла, ее друзья и Йоргас собираются вместе; с ними – маленький мальчик, которого решила опекать Стрелла, сын ее погибшего друга. Ребенок предоставляет пространство для их любви и для тупика их отношений.
«Стрелла» доводит извращение до его (нелепо-возвышенной) высшей точки: травматическое открытие повторяется. Сначала, в первой части фильма, Йоргас обнаруживает, что его любимая/желанная женщина – трансвестит, и принимает это сразу же, без патетического шока: когда он замечает, что его партнерша – мужчина, та просто говорит: «Я транс. У тебя с этим проблемы?», и они продолжают обниматься и целоваться. За этим следует по-настоящему травмирующее открытие, что Стрелла – это сын Йоргаса, которого он искал и который сознательно соблазнил его, – теперь Йоргас реагирует так же, как Фергюс в «Жестокой игре», увидевший пенис Дил: он полностью сокрушен отвращением, бежит, бродит по городу, не в состоянии справиться с тем, что узнал. Финал также напоминает о «Жестокой игре»: любовь помогает преодолеть травму, образуется счастливая семья с маленьким сыном.
«Стрелла» описана в рабочих заметках как «история из тех, что рассказывают за ужином с друзьями, своего рода городская легенда», а значит, нам не следует толковать ее так же, как «Жестокую игру»: открытие героем того факта, что его любовник – трансвестит, на самом деле не является воплощением бессознательной фантазии в реальности, его реакция отвращения – это действительно просто реакция на возникший извне неприятный сюрприз. Иными словами, нам не следует поддаваться искушению задействовать психоаналитический аппарат и интерпретировать инцестуальные отношения отца и сына: здесь нечего интерпретировать, ситуация, которую мы видим в конце фильма, совершенно нормальна – это ситуация подлинного семейного счастья. Фильм как таковой служит проверкой для защитников христианских семейных ценностей: прими эту особую семью, состоящую из Йоргаса, Стреллы и их приемного ребенка – или не заикайся о христианстве. Семья, возникающая в конце фильма, это настоящая священная семья, что-то вроде Бога Отца, живущего с Иисусом и трахающего его, настоящий гомосексуальный брак и инцест – триумфальное переформатирование фантазии.
Именно так нам стоит поступать с христианскими семейными ценностями: единственный способ восстановить их – это переопределить семью и изменить ее формат так, чтобы она включала в себя как характерные примеры ситуации, подобные той, что изображена в финале «Стреллы». Это и есть «современный Любич», копия его знаменитого «почерка»: даже если семья, состоящая из отца и сына, нарушает все божественные запреты, можно быть уверенным, что для этой пары все же найдется «небольшая свободная комнатка в пристройке» на Небесах.
2 Альфред Хичкок, или Можно ли снять хороший киноремейк?
В любом крупном американском книжном магазине можно купить несколько томов уникальной серии «Шекспир упрощенный» (Shakespeare Made Easy) под редакцией Джона Дюрбана, опубликованной Barron’s. Это «двуязычное» издание пьес Шекспира с оригинальным архаичным английским на левой странице и переводом на обычный современный английский на правой. Непристойное удовлетворение, которое получаешь от чтения этих томов, связано с тем, что предполагаемый перевод на современный английский оказывается чем-то намного большим: как правило, Дюрбан пытается переформулировать каждое выражение так, чтобы отразить тот смысл, который (как ему кажется) передает метафорическая идиома Шекспира: например, «Быть или не быть – вот в чем вопрос» становится чем-то вроде «Меня волнует вопрос: должен ли я покончить с собой?». Моя идея, конечно же, заключается в том, что стандартные ремейки фильмов Хичкока – это точно такой же «Хичкок упрощенный»: хотя нарратив остается прежним, «сущность», стиль фильмов – то, что составляет уникальность Хичкока, исчезает. Здесь, однако, следует отказаться от нагруженного специальными терминами разговора об уникальном почерке Хичкока и т. п. и взяться за непростую задачу выявить то, что придает фильмам Хичкока их уникальный стиль.
Но что, если эта уникальность – миф, результат нашего (зрительского) переноса, нашей оценки Хичкока как Субъекта-Который-Должен-Знать? Я имею в виду сверхинтерпретированность: в фильмах Хичкока все должно иметь особый смысл, в них нет случайностей, а если что-то не сходится, то это вина не Хичкока, а наша – мы не до конца его поняли. В двадцатый раз пересматривая «Психо», я заметил странную деталь в финальном объяснении психотерапевта: Лайла (Вера Майлз) слушает его завороженно и дважды удовлетворительно кивает – словно бы ее совсем не потрясает окончательное подтверждение бессмысленной смерти сестры. Быть может, это чистая случайность? Или же Хичкок хотел указать на странную либидинальную двусмысленность и соперничество между двумя сестрами? Можно также вспомнить сцену, в которой Мэрион, убегая из Феникса, едет ночью в автомобиле: перед тем как попасть в мотель Бейтса, она слышит воображаемые голоса своего босса и покупавшего дом миллионера, разгневанного ее обманом, – она больше не выглядит измученной, мы видим странную маниакальную улыбку глубокого удовлетворения, выражение, которое удивительным образом напоминает о последнем кадре Нормана в ипостаси матери как раз перед тем, как его/ее лицо превращается в череп, а из болота поднимают автомобиль. Так что в каком-то смысле Мэрион уже становится Норманом еще до встречи с ним; другая деталь, подтверждающая эту догадку: это выражение появляется на ее лице тогда, когда она слышит голоса в своей голове – в точности как Норман в последних кадрах… Другой превосходный пример: сцена, в которой Мэрион регистрируется в мотеле Бейтса. Когда Норман поворачивается к ней спиной, чтобы осмотреть висящие ключи от номеров, она украдкой оглядывается по сторонам, ища подсказку: какое бы указать место проживания, – видит слово «Лос-Анджелес» в газетном заголовке и записывает его. Здесь перед нами двойное сомнение: пока Мэрион сомневается, какой написать город (что солгать), Норман сомневается, в какой комнате ее разместить (если это будет номер один, он сможет подглядывать за ней через отверстие в стене). Когда после недолгих колебаний она останавливается на Лос-Анджелесе, Норман выбирает и дает ей ключ от первого номера. Являются ли его сомнения просто знаком того, что он оценивал ее сексуальную привлекательность и в итоге решил ее добиваться, или же – на более тонком уровне – он заметил в ее колебаниях намерение солгать ему и поэтому противопоставил ее лжи собственный незаконный поступок, сочтя ее маленькое преступление оправданием своему? (Или же, услышав, что она из Лос-Анджелеса, он подумал, что девушка из этого города разврата может стать легкой добычей?) Хотя автор сценария Джозеф Стефано утверждал[36], что создатели фильма хотели лишь передать растущее сексуальное притяжение Нормана к Мэрион, остается легкое подозрение, что одновременно испытываемое сомнение не может быть чистой случайностью… Теоретически это называется настоящей любовью. Исходя из этой настоящей любви я утверждаю, что уникальный стиль Хичкока существует.
Мой первый тезис таков: этот уникальный стиль не следует искать на уровне нарративного содержания – его изначальный центр находится в другом месте. Где? Позвольте мне начать со сравнения двух сцен из фильмов других режиссеров. В целом скучный и претенциозный фильм Роберта Редфорда «Там, где течет река» (A River Runs Through It) примечателен одной сценой. У проповедника два сына, и мы весь фильм наблюдаем, как младший из них (Брэд Питт) идет по пути саморазрушения, приближаясь к катастрофе, спровоцированной его маниакальным пристрастием к азартным играм, выпивке и распутству. Двух сыновей связывает с отцом рыбалка на реке Монтана: воскресные походы на рыбалку являются своего рода священным семейным ритуалом, во время которого все тревоги жизни вне семьи отступают. Так что когда сыновья и отец отправляются рыбачить в последний раз, мастерство Питта достигает совершенства, ему удается поймать самую большую рыбу, однако все, что он делает, сопровождает тень неотступной угрозы: поглотят ли его темные воды речной излучины, где он заметил крупную форель? вынырнет ли он, после того как поскользнулся и упал в бурный поток? – эти потенциальные опасности словно предвещают финальную трагедию, которая вскоре произойдет (труп Питта будет найден с переломанными пальцами – в счет карточных долгов).
Эту сцену из вполне ординарного фильма «Там, где течет река» выделяет то, что масштабы скрытой угрозы напрямую прописываются в основной линии повествования, словно некий знак, указывающий на финальную катастрофу. В отличие от «Там, где течет река» выдающийся фильм «Уходя в отрыв» (Breaking Away, 1979) Питера Йетса (нежная комедия/драма о взрослении четырех школьников из Блумингтона, Индиана, о последнем лете, отделяющем их от неумолимого времени выбора: работа, колледж или армия) сумел устоять перед подобным искушением. В числе самых запоминающихся эпизодов – сцена, где один из парней, Дейв, на своем велосипеде соревнуется с грузовиком на скоростном шоссе. Здесь создается такой же тревожный эффект, как и в паре сцен в заброшенном карьере, когда мальчишки прыгают в темную глубокую воду, скрывающую острые камни: Йетс все время указывает на возможность внезапной катастрофы. Мы постоянно ждем ужасного несчастного случая (Дейв будет сбит и раздавлен грузовиком, кто-нибудь из ребят утонет в темной глубине или порежется об острый камень, прыгая в воду), но ничего не происходит, хотя намеки на такую возможность (тень угрозы создается общей атмосферой, в которой сняты сцены, а не прямыми психологическими указаниями, вроде чувства беспокойства, которое могли бы испытывать ребята) придают героям странную уязвимость. Эти намеки словно подводят нас к финалу фильма, когда из текста на экране мы узнаем, что позже один из парней погиб во Вьетнаме, а с другим произошел несчастный случай… Я хочу обратить внимание именно на это напряжение между двумя уровнями нарратива, на зазор, разделяющий прямую линию повествования и размытое угрожающее послание, читаемое между строк этого повествования.
Позвольте мне провести параллель с Рихардом Вагнером (в конце концов, разве не является кольцо из вагнеровского цикла о Нибелунгах величайшим макгаффином всех времен?). Вагнер использовал такой же прием в двух своих последних операх: в конце «Гибели богов», когда Хаген подходит к мертвому Зигфриду, чтобы похитить с его пальца кольцо, тот угрожающе вскидывает руку; ближе к финалу «Парсифаля», в момент отчаяния Амфортаса и его отказа произвести священный обряд снятия покрова с Грааля, его мертвый отец Титурель также чудесным образом поднимает руку. Подобные детали говорят о том факте, что Вагнер был avant la lettre (предтечей) Хичкока: в фильмах Хичкока мы также обнаруживаем подобные визуальные и прочие мотивы, повторяющиеся со странной навязчивостью и возникающие от фильма к фильму в совершенно различных нарративных контекстах. Самый известный из таких мотивов – то, что Фрейд называл Niederkommenlassen, «разрешением-себе-упасть», содержащий все нюансы депрессивного суицидального падения[37] – когда человек отчаянно цепляется своей рукой за руку другого человека: в «Диверсанте» (Saboteur) нацист-диверсант цепляется за руку доброго американского героя, протянутую с факела статуи Свободы; в финальной схватке «Окна во двор» (The Rear Window) Джеймс Стюарт со сломанной ногой висит на окне, пытаясь схватить за руку своего преследователя, который, вместо того чтобы помочь ему, старается его свалить; в «Человеке, который слишком много знал» (The Man Who Knew Too Much, ремейк, 1955) на залитом солнцем рынке Касабланки умирающий западный агент, переодетый арабом, тянет руку к ни о чем не подозревающему американскому туристу (Джеймс Стюарт), увлекая его вниз; лишенный в конце концов своей маски вор висит на руке Кэри Гранта в «Поймать вора» (To Catch a Thief); Джеймс Стюарт висит на дымовой трубе и отчаянно пытается схватить протянутую ему руку полицейского в самом начале «Головокружения» (Vertigo); Эва Мари Сейнт висит над пропастью, цепляясь за руку Кэри Гранта (и тут же скачок: она цепляется за его руку на полке спального вагона в финале «К северу через северо-запад», North by Northwest). При ближайшем рассмотрении мы понимаем, что фильмы Хичкока изобилуют подобными мотивами. В «Подозрении» (Suspicion) и «К северу через северо-запад» присутствует мотив автомобиля на краю пропасти – в обоих фильмах один и тот же актер (Кэри Грант) ведет автомобиль и оказывается в опасной близости от пропасти; хотя эти фильмы разделяет двадцатилетний интервал, сцены сняты в одной манере, вплоть до взгляда, который герой бросает в пропасть. (В последнем фильме Хичкока под названием «Семейный заговор», The Family Plot, этот мотив разрастается до размеров длинного эпизода, в котором машина мчится вниз по холму и не может остановиться, потому что злодеи испортили ее тормоза.) Есть также мотив «женщины, которая слишком много знает», умной и проницательной, но сексуально непривлекательной, в очках и, что важно, напоминающей дочь Хичкока Патрицию или даже сыгранной ею: это сестра Рут Роман в «Незнакомцах в поезде» (Strangers on a Train), Барбара Бел Геддес в «Головокружении», Патриция Хичкок в «Психо» и даже сама Ингрид Бергман до своего сексуального пробуждения в «Завороженном» (Spellbound). Другой мотив – мумифицированный череп – впервые появляется в фильме «Под знаком козерога» (Under Capricorn), а затем и в «Психо», и в обоих случаях ужасно пугает молодую женщину (Ингрид Бергман, Веру Майлз) в момент финального столкновения. Есть также мотив готического дома с большой лестницей, по которой герой поднимается в комнату, где не находит ничего, хотя через окно он видел здесь женский силуэт: в «Головокружении» это загадочный эпизод, в котором Мадлен видится Скотти как тень в окне и после этого неожиданно исчезает из дома; в «Психо» это появление в окне тени матери, – тела, которые возникают ниоткуда и растворяются в пустоте. Причем тот факт, что в «Головокружении» отсутствует объяснение этого эпизода, порождает соблазн толковать его как своего рода futur antérieur, раннюю отсылку к «Психо»: возможно, старушка-администратор в гостинице – своего рода странное сгущение Нормана Бейтса и его матери, то есть администратор (Норман) в то же время и старушка (мать), что заранее дает подсказку об их тождественности, которая составляет большую загадку «Психо». «Головокружение» представляет особый интерес, поскольку в нем один и тот же синтом спирали, затягивающей нас вглубь бездны, повторяется и отражается на множестве уровней: сначала как чисто формальный мотив абстрактной формы, возникающий из глаза во время вступительных титров; затем как завиток волос Карлотты Вальдес на ее портрете, повторенный в прическе Мадлен; далее как бесконечная круговая лестница башни церкви; и, наконец, как знаменитый поворот на триста шестьдесят градусов вокруг Скотти и Джуди-Мадлен, страстно обнимающихся в ветхой комнатке отеля, во время которого задний план сменяется конюшней миссии Хуан-Баутиста, а затем вновь становится комнатой отеля; возможно, этот эпизод дает ключ к временно́му измерению «головокружения» – замкнутой на себя временной петле, в которой прошлое и настоящее сконцентрированы в двух аспектах одного бесконечно повторяющегося кругового движения. Именно этот множественный резонанс поверхностей создает особую плотность, «глубину» текстуры фильма.
Итак, перед нами набор (визуальных, формальных, материальных) мотивов, «остающихся неизменными» в различных смысловых контекстах. Как же нам толковать эти настойчиво повторяющиеся жесты или мотивы? Не стоит поддаваться искушению и рассматривать их как юнгианские архетипы с глубинным смыслом: поднятую руку у Вагнера как символическую угрозу мертвых живым, а человека, цепляющегося за руку другого человека, как символическое напряжение между духовным падением и спасением… В данном случае мы имеем дело с уровнем материальных знаков, сопротивляющихся смыслу и устанавливающих связи, не укорененные в символических структурах нарратива, – они просто соотносятся друг с другом в своеобразном досимволическом перекрестном резонансе. Это не означающие и не знаменитые хичкоковские «пятна» – это элементы того, что пару десятилетий назад назвали бы кинематографическим письмом, écriture. В последние годы своего преподавания Жак Лакан провел границу между симптомом и синтомом: в отличие от симптома, являющегося шифром к смыслу, который он представляет, синтом не имеет определенного смысла – его повторяющийся паттерн просто предоставляет тело для некой элементарной матрицы jouissance, или крайнего наслаждения, – хотя синтомы лишены смысла, они излучают jouis-sense[38]. По свидетельству дочери Сталина Светланы, последним жестом умирающего вождя, многозначительно предваренным недобрым взглядом, был тот же жест, что и в последних операх Вагнера, – угрожающее поднятие левой руки:
В какой-то момент – не знаю, так ли на самом деле, но так казалось, – очевидно, в последнюю уже минуту, он вдруг открыл глаза и обвел ими всех, кто стоял вокруг. Это был ужасный взгляд, то ли безумный, то ли гневный и полный ужаса перед смертью и перед незнакомыми лицами врачей, склонившихся над ним. Взгляд этот обошел всех в какую-то долю минуты. И тут, – это было непонятно и страшно, я до сих пор не понимаю, но не могу забыть, – тут он поднял вдруг кверху левую руку (которая двигалась) и не то указал ею куда-то наверх, не то погрозил всем нам. Жест был непонятен, но угрожающ, и неизвестно, к кому и к чему он относился… В следующий момент душа, сделав последнее усилие, вырвалась из тела[39].
Что же означал этот жест? По Хичкоку, ответ таков: ничего, однако это ничто не было пустотой – оно было полнотой либидинального выражения, мгновением, предоставившим тело шифру наслаждения. Возможно, его ближайший эквивалент в живописи – это растянутые пятна, которые суть желтое небо у позднего Ван Гога или вода и трава у Мунка: подобная необъяснимая «массивность» не имеет отношения ни к прямой материальности цветовых пятен, ни к материальности изображаемых объектов – она пребывает в своего рода промежуточной призрачной сфере, которую Шеллинг называл geistige Koerperlichkeit, духовной материальностью. С точки зрения Лакана, эту «духовную материальность» легко определить как материализовавшееся jouissance, «jouissance, облеченное в плоть». Таким образом, синтомы Хичкока – это не просто формальные паттерны – в них сконцентрировано определенное либидинальное выражение. Именно они определяли творческий процесс Хичкока: он не шел от сюжета к его переводу на аудиовизуальный язык, скорее, он начинал с набора (обычно визуальных) мотивов, наполнявших его воображение и занимавших место его синтомов; затем он конструировал нарратив, который служил поводом для их использования… Эти синтомы создают особенный стиль, существенную плотность кинематографической текстуры фильмов Хичкока – без них у нас бы остался формальный безжизненный нарратив. Поэтому во всех разговорах о Хичкоке как о «мастере саспенса», о его уникальных, закрученных сюжетах и т. д. отсутствует ключевое измерение. Фредрик Джеймисон сказал о Хемингуэе, что тот подбирал свои сюжеты так, чтобы иметь возможность писать определенные (напряженные, мужественные) фразы. То же самое можно сказать о Хичкоке: он изобретал истории так, чтобы иметь возможность снять определенные сцены. И хотя нарратив его фильмов дает забавные и чуткие комментарии о нашем времени, Хичкок будет жить вечно именно в своих синтомах. Именно благодаря им его фильмы остаются объектами нашего желания.
Следующая деталь связана со статусом взгляда. Так называемые посттеоретики (критики-когнитивисты психоаналитической теории кино) любят варьировать один мотив: как писатели «теории» ссылаются на такие мифические сущности, как (с большой буквы) Взгляд, сущности, которым не соответствуют никакие эмпирические, наблюдаемые факты (вроде настоящих кинозрителей и их поведения), – одно из эссе в книге, посвященной посттеории[40], называется «Дело пропавшего зрителя». В данном случае посттеория опирается на соответствующее здравому смыслу понятие о зрителе (субъекте, воспринимающем кинореальность на экране, обладающем эмоциональными и когнитивными предпочтениями и т. д.), и, разумеется, внутри этого простого противопоставления субъекта и объекта восприятия кино взгляду как точке, из которой сам наблюдаемый объект «возвращает взгляд» и смотрит на нас, зрителей, не остается места. В понимании взгляда Лаканом главное то, что взгляд подразумевает инверсию отношения между субъектом и объектом: сам Лакан в своем «Семинаре XI» утверждает, что между глазом и взглядом существует антиномия, то есть взгляд находится на стороне объекта, он представляет собой слепую точку в видимом поле, из которой само изображение фотографирует зрителя – или, как он выражается в «Семинаре I» (странная отсылка к которому в центральной сцене «Окна во двор» подкреплена тем фактом, что этот семинар был проведен в том же году, когда был снят фильм Хичкока, – 1954-м):
Я чувствую на себе взгляд чьих-то глаз, которых я не вижу и даже не могу разглядеть. Необходимо лишь, чтобы что-то указывало мне: там есть другие. Такое окно, за которым начинает темнеть и за которым, как мне кажется, кто-то есть, является прямым взглядом[41].
Разве это понятие о взгляде не находит идеального воплощения в образцовых хичкоковских сценах, когда субъект приближается к некоему ужасному, угрожающему объекту – как правило, к дому? Здесь мы сталкиваемся с антиномией между глазом и взглядом в ее чистейшем проявлении: глаз субъекта видит дом, и кажется, что дом, объект, непостижимым образом возвращает взгляд… В таком случае не удивительно, что посттеоретики говорят о «пропавшем взгляде», сетуя: фрейдистско-лакановский Взгляд – это мифическая сущность, которую невозможно обнаружить в реальности зрительского опыта, – этот взгляд по своей сути является пропавшим, а его статус чисто фантазматический. На базовом уровне здесь мы имеем дело с позитивизацией невозможности, порождающей объект-фетиш. Например, как объект-взгляд становится фетишем? Посредством гегелианского противоположения приходим от невозможности увидеть объект к объекту, который предоставляет тело для этой самой невозможности: поскольку субъект не может напрямую увидеть то, истинный объект притягательности, он совершает своего рода отражение-в-себя, посредством которого притягательный для него объект становится самим взглядом. В этом смысле (хотя и не полностью симметричным образом) взгляд и голос – это «рефлексивные» объекты, то есть объекты, предоставляющие тело для невозможности (на языке «матем» Лакана – малое a под минус малое фи).
В данном смысле фантазия как таковая – это не само чувство, притягивающее нас, но воображаемый/несуществующий взгляд, который за ней наблюдает, подобно невозможному взгляду сверху, для которого ацтеки рисовали на земле гигантские изображения птиц и животных, или невозможному взгляду, для которого были созданы детали скульптур на старых акведуках в Риме, невидимые с земли. Короче говоря, самая элементарная фантазматическая сцена – это не та сцена, которая пленяет при просмотре, а понимание того, что «снаружи есть кто-то, кто смотрит на нас»; это не мечта, а понимание того, что «мы объекты в чьем-то сне»… В «Неспешности» (La lenteur) Милан Кундера изображает абсолютный знак сегодняшнего фальшивого, стерильного, псевдочувственного секса: пара симулирует анальное соитие у бассейна отеля, под взглядами гостей из расположенных наверху комнат, изображая стоны удовольствия, но, в сущности, даже не осуществив проникновения, – этому соитию противопоставляются неспешные, любовные, интимные, эротические утехи Франции XVIII в. …Что-то похожее на сцену из «Неспешности» действительно имело место в Камбодже красных кхмеров – после того, как от чисток и голода там погибло слишком много народа, режим, стремящийся к увеличению численности населения, объявил каждый первый, десятый и двадцатый дни месяца днями копуляции: вечером в такие дни женатые пары (которые обычно спали в отдельных бараках) получали разрешение спать вместе и обязывались заниматься любовью. Их личным пространством были небольшие кабины, закрытые полупрозрачной бамбуковой занавеской; перед рядами таких кабин прохаживались охранники, проверявшие, что пары на самом деле заняты копуляцией. Поскольку пары знали, что отказ от занятий любовью будет считаться актом саботажа, за которым последует суровое наказание, и поскольку, с другой стороны, к концу четырнадцатичасового рабочего дня они, как правило, уставали настолько, что не могли по-настоящему заниматься сексом, они притворялись, что занимаются любовью, – чтобы обмануть охранника, они совершали фальшивые движения и издавали фальшивые звуки… Разве это не прямо противоположно кое-чьему юношескому опыту возраста запретов, когда приходилось проникать в спальню тайком и делать это как можно тише, чтобы еще не уснувшие родители не заподозрили, что рядом занимаются сексом? В таком случае что если подобный спектакль для взгляда Другого является частью сексуального акта, что если, поскольку сексуальных отношений не существует, он может быть лишь постановкой, предназначенной для взгляда Другого?
Разве последняя мода на веб-сайты с онлайн-камерами, реализующая логику «Шоу Трумана» (на таких сайтах мы можем непрерывно следить за неким событием или местом: за жизнью человека в его доме, видом улицы и т. д.), не отражает эту же насущную необходимость в фантазматическом Взгляде Другого, служащем гарантией существования субъекта? «Я существую лишь в том случае, если на меня непрерывно смотрят…» (Клод Лефор обратил внимание на похожий феномен: постоянно включенный телевизор, который, в сущности, иногда никто не смотрит, но который служит минимальной гарантией существования социальной связи.) Таким образом, данная ситуация является трагикомической инверсией идей Бентама и Оруэлла об обществе паноптикума, в котором за нами (потенциально) «непрерывно наблюдают» и в котором нет места, где можно было бы укрыться от вездесущего взгляда Власти: здесь тревога возникает вследствие возможности не быть на виду у Другого непрерывно, так что субъекту требуется взгляд камеры в качестве своего рода онтологической гарантии его существования…
В связи с этим парадоксом вездесущего взгляда можно вспомнить одну забавную историю, которая произошла недавно с моим другом в Словении. Он вернулся в офис поздно ночью, чтобы закончить какую-то работу, и, еще не успев зажечь свет, заметил, что в офисном здании напротив пара – пожилой (женатый) менеджер и его секретарша – страстно совокупляется на столе. В порыве страсти они забыли о существовании здания напротив, из которого их можно было отчетливо видеть благодаря яркому освещению в офисе и отсутствию на окнах занавесок… Мой друг позвонил по телефону в этот офис и, когда менеджер, сделавший небольшой перерыв в сексуальном акте, взял трубку, зловеще прошептал: «Бог следит за тобой!» Бедняга менеджер, чуть не заработавший сердечный приступ, упал на пол… Вмешательство пугающего голоса, непосредственное местонахождение которого в реальности нельзя установить, – возможно, самое близкое из доступных нам переживаний Возвышенного.
Напрямую вовлекая нас на точку зрения этого внешнего фантазматического взгляда, Хичкок делает это переживание максимально необъяснимым и пугающим. Один из стандартных приемов в фильмах ужасов – это «переобозначение» объективных кадров как субъективных (то, что зритель поначалу воспринимает как объективные кадры – например, дом, в котором ужинает семья, – внезапно, посредством таких закодированных сигналов, как легкое дрожание камеры, «субъективированный» саундтрек и т. д., превращается в субъективные кадры, снятые с точки зрения убийцы, следящего за своими потенциальными жертвами). Однако этот ход должен быть дополнен противоположным ходом – неожиданным переходом от субъективного кадра к объективному: в середине длинного эпизода, однозначно маркированного как субъективный, зритель внезапно вынужден признать, что в данном пространстве диегетической реальности не может быть субъекта, находящегося в точке, из которой снят эпизод. Таким образом, здесь мы имеем дело не просто с преобразованием объективного кадра в субъективный, но с конструированием места невозможной субъективности, субъективности, придающей объективности оттенок невыразимого, чудовищного зла. Здесь можно увидеть целую еретическую теологию, тайно отождествляющую самого Творца с Дьяволом (такой тезис уже выдвигался французскими еретиками-катарами в XII в.). Примерами такой невозможной субъективности являются «субъективные» кадры, снятые из точки, в которой находится само убийственное Нечто, и показывающие застывшее от ужаса лицо умирающего детектива Арбогаста в «Психо», или знаменитые кадры Божественного вида на залив Бодега в «Птицах», которые затем, с появлением в кадре птиц, переобозначаются, субъективизируясь и превращаясь в точку зрения самих зловещих агрессоров.
Существует еще один, третий аспект, придающий специфическую плотность фильмам Хичкока: скрытый резонанс множественных концовок. Разумеется, самый очевидный и обоснованный пример – это «Топаз». Прежде чем выбрать всем известную концовку «Топаза», Хичкок снял две альтернативные концовки, и я считаю, что недостаточно сказать: Хичкок просто остановился на наиболее подходящем финале, – известный нам финал в определенном смысле включает в себя два других финала, так что три финала формируют своего рода силлогизм. Гранвиль (Мишель Пикколи), русский шпион, говорит себе: «Они не могут ничего доказать, я могу просто вернуться в Россию» (первая отвергнутая концовка); «Но теперь я не нужен даже самим русским, теперь я опасен даже для них, так что они, скорее всего, убьют меня» (вторая отвергнутая концовка); «Что мне остается делать, если, как русский шпион, во Франции я изгой и самой России я больше не нужен? Мне остается лишь покончить с собой…» – окончательно утвержденная концовка. Существуют, однако, и более утонченные версии этого имплицитного присутствия альтернативных концовок. Мне кажется, что фильм «Дурная слава» (Notorious), по крайней мере частично, обязан своим мощным эффектом тому факту, что его развязку следует воспринимать на фоне по меньшей мере двух других возможных исходов, резонирующих в ней как своего рода альтернативная история[42]. В первом наброске истории Алисия к концу фильма искупает свою вину, но теряет Девлина, который погибает, спасая ее от нацистов. Идея заключалась в том, что этот акт самопожертвования должен был снять напряжение между Девлином, неспособным признаться Алисии в своей любви, и Алисией, неспособной поверить, что она заслуживает любви: Девлин признаётся ей в своей любви без слов, погибая, чтобы спасти ее жизнь. В финале мы снова видим Алисию в Майами, в окружении выпивающих друзей: хотя ее слава становится еще более «дурной», чем прежде, в ее сердце живет память о мужчине, любившем ее и погибшем ради нее, и, как выразился Хичкок в записке Селзнику, «для нее это то же самое, что счастливая жизнь в браке». Вторая основная версия имеет противоположный исход; здесь мы уже знаем о том, что Себастьян и его мать отравляют Алисию медленно действующим ядом. Девлин вступает в борьбу с нацистами и бежит вместе с Алисией, но Алисия погибает во время побега. В эпилоге Девлин в одиночестве сидит в кафе «Рио», где он когда-то встретил Алисию, и случайно становится свидетелем обсуждения смерти развратной и неверной жены Себастьяна. Однако в его руках письмо президента Трумана с выражением благодарности Алисии за ее храбрость. Девлин убирает письмо в карман и допивает свой напиток… Наконец, в финале версии, известной нам как окончательная, Девлин и Алисия женятся. Позже Хичкок отказался от этого финала, чтобы закончить на более трагической ноте: Себастьян, по-настоящему любивший Алисию, остается один и сталкивается со смертоносной яростью нацистов. Смысл в том, что обе альтернативные концовки (смерти Девлина и Алисии) встроены в фильм как своего рода фантазматический фон действий, разворачивающихся на экране: чтобы стать парой, Девлин и Алисия должны пройти через «символическую смерть», так что счастливый финал возникает из комбинации двух несчастливых финалов, то есть развязка, которую мы на самом деле видим, опирается на два альтернативных фантазматических сценария.
Это позволяет нам поставить Хичкока в один ряд с художниками, предсказавшими сегодняшнюю цифровую вселенную. Историки искусства часто обращали внимание на тот феномен, что старые художественные формы раздвигают свои собственные границы и используют методы, которые, по крайней мере с нашей ретроактивной точки зрения, указывают на новые технологии, которые смогут послужить более «естественным» и уместным «объективным коррелятом» по отношению к жизненному опыту старых форм, пытавшихся создать изображение посредством «избыточных» экспериментов. Целая серия нарративных методов романа XIX в. предвестила не только стандартный нарративный кинематограф (замысловатое использование «флешбэков» у Эмили Бронте, «монтажные врезки» и «крупные планы» у Диккенса), но даже модернистский кинематограф (использование «закадрового пространства» в «Мадам Бовари») – так, словно новое восприятие жизни уже существовало, но все еще пыталось найти подходящие средства для своего выражения, пока наконец не нашло кино. Таким образом, здесь мы имеем дело с историчностью вида futur antérieur: лишь с появлением кино и развитием его стандартных приемов мы можем по-настоящему уловить нарративную логику великих романов Диккенса или «Мадам Бовари».
Возможно ли, что сегодня мы приближаемся к аналогичной границе: в воздухе витает новый «жизненный опыт», восприятие жизни, разрывающее изнутри форму линейного центрированного нарратива и изображающее жизнь как поток, имеющий множество форм: кажется, что все, вплоть до области «серьезной» науки (квантовая физика с ее многомировой интерпретацией или вопиющие случайности, задавшие направление движения эволюции жизни на Земле: как продемонстрировал Стивен Джей Гулд в своей книге «Чудесная жизнь»[43], предки медведя из Бёрджес-Шейл являются свидетельством того, что эволюция могла пойти в совершенно ином направлении), одержимо случайным характером жизни и альтернативными версиями реальности. Либо жизнь переживается как последовательность множественных параллельных судеб, взаимодействующих друг с другом и подвергающихся критическому влиянию бессмысленных случайных встреч, точек, в которых одна последовательность взаимодействует с другой и вклинивается в нее (см. «Короткие истории» Олтмена), либо многократно повторяются различные версии/исходы одного и того же сюжета («параллельные вселенные» или сценарии «возможных альтернативных миров»: см. «Случай», «Двойная жизнь Вероники» и «Три цвета: Красный» Кеслёвского; даже «серьезные» историки недавно написали книгу «Виртуальная история», содержащую толкование важнейших событий современности – от победы Кромвеля над Стюартами и американской Войны за независимость до распада коммунизма – как зависимых от непредсказуемых и иногда даже маловероятных случайностей[44]). Это восприятие нашей реальности как одного из возможных – и иногда даже не самого вероятного – исходов «открытой» ситуации, это представление о том, что остальные возможные исходы не просто сходят на нет, но продолжают отражаться в нашей «истинной» реальности как спектр возможностей, которые могли бы иметь место, заставляя нашу реальность выглядеть крайне хрупкой и случайной, неявным образом конфликтует с доминирующими в нашей литературе и кино «линейными» формами нарратива – похоже, что они требуют новых художественных средств, которые превратят их из эксцентричной избыточности в «надлежащий» способ функционирования. С этим новым переживанием мира возникает и новое понятие о творчестве: отныне оно обозначает не позитивный акт создания нового порядка, но негативный жест выбора, ограничения возможностей, предпочтения одного из вариантов в ущерб всем остальным. Кто-то может утверждать, что гипертекст киберпространства и есть новая среда, в которой этот новый опыт жизни найдет свой «естественный», более адекватный объективный коррелят, так что лишь с появлением гипертекста мы сможем по-настоящему понять, что вообще имели в виду Олтмен и Кеслёвский – а также, неявно, Хичкок.
Возможно, это свойство также служит указанием на то, каким должен быть достойный ремейк фильма Хичкока. Попытка имитации хичкоковских синтомов заранее обречена на провал; ремейк с тем же нарративом даст результат в духе «Шекспира упрощенного». Так что остаются лишь два пути. Один указан «Психо» Гаса ван Сента, который, как это ни парадоксально, я склонен считать не просто неудачным, а неудачным шедевром. Идея точного покадрового ремейка оригинальна, и, с моей точки зрения, проблема заключается в том, что фильм не пошел до конца в этом направлении. В идеале фильм должен стремиться к тому, чтобы достичь сверхъестественного эффекта двойника: то, что формально снимается тот же самый фильм, сделает различие еще более очевидным – все будет одинаковым – эпизоды, ракурсы, диалоги – и все же, благодаря этой одинаковости, мы будем лишь отчетливее воспринимать фильм как совершенно иной. Этот разрыв должен был быть обозначен едва уловимыми нюансами игры, подбора актеров, использования цвета и т. д. Некоторые элементы фильма ван Сента уже указывают на это направление: роли Нормана, Лайлы (она изображена лесбиянкой) и Мэрион (бесплодная, равнодушная, холодная сука в отличие от большегрудой, излучающей материнское тепло Джанет Ли) и даже Арбогаста и Сэма тонко указывают на переход из 50-х в сегодняшнюю вселенную. В то время как некоторые добавленные кадры (такие как загадочные субъективные виды покрытого облаками неба во время двух убийств) можно также считать приемлемыми, проблемы создают более грубые изменения (например, мастурбация Нормана, который подглядывает за Мэрион, перед тем как жестоко убить ее, – возникает искушение сделать очевидный вывод, что, в данном случае, если бы он был в состоянии достичь своеобразного сексуального удовлетворения, у него не было бы необходимости совершать жестокий passage à l’acte и убивать Мэрион!); вдобавок к этому некоторые сцены полностью провалены, а их эффект потерян, в силу отступления от точной структуры кадров Хичкока (пример – ключевая сцена, в которой, уйдя из офиса с деньгами, Мэрион дома готовится к побегу). Ремейки, снятые самим Хичкоком (две версии «Человека, который знал слишком много», а также «Диверсант» и «К северу через северо-запад»), следуют в этом же направлении: при очень похожем нарративе в ремейках заложена совершенно иная скрытая либидинальная экономика, словно похожесть служит цели создания Отличия[45].
Второй путь – все хорошо просчитав и продумав стратегию, воплотить один из альтернативных сценариев, лежащих в основе снятого Хичкоком, – например, создать ремейк «Дурной славы», в котором выжила бы лишь Ингрид Бергман. Это было бы достойным способом отдать должное Хичкоку как художнику, принадлежащему нашей эпохе. Сцены, предвещающие такой достойный ремейк, находятся скорее не в прямых оммажах Хичкоку у де Пальмы и других режиссеров, а в самых неожиданных местах. Один из примеров – сцена в комнате отеля, на месте преступления, в «Разговоре» (Conversation) Фрэнсиса Форда Копполы – совершенно нехичкоковском фильме. Следователь осматривает комнату хичкоковским взглядом, подобно тому как осматривают комнату Мэрион в мотеле Лайла и Сэм, перемещаясь из спальни в ванную и сосредотачивая свое внимание на туалете и душе. Это перемещение от душа (идеально чистого, без следов преступления) к унитазу, поднимающее его на высоту хичкоковского объекта, притягивающего наш взгляд и завораживающего нас предчувствием невыразимого ужаса, играет здесь решающую роль (вспомните битву Хичкока с цензурой за показ внутреннего содержимого унитаза, откуда Сэм достает клочок бумаги, на котором почерком Мэрион записано количество потраченных денег – доказательство, что она была здесь). Вслед за серией очевидных отсылок к «Психо», связанных с душем (резко открытая занавеска, осмотр сливного отверстия), следователь сосредотачивается на (якобы вымытом) туалетном сиденье, смывает, и тогда в унитазе, словно из ниоткуда, появляются улики: кровь и прочие следы преступления льются через край унитаза. Эта сцена – своего рода прочтение «Психо» в стиле «Марни» (с его красными пятнами, частично скрывающими изображение на экране) – содержит основные элементы вселенной Хичкока: хичкоковский объект, овеществляющий некую неясную угрозу и функционирующий как отверстие, ведущее в другое измерение, в бездну (разве не похоже смывание туалета в этой сцене на нажатие кнопки, уничтожающее целую вселенную, в научно-фантастических романах?); этот объект, одновременно привлекающий и отталкивающий субъекта, можно считать точкой, из которой исследуемое пространство возвращает взгляд (разве, загадочным образом, унитаз не смотрит на героя?); и, наконец, Коппола реализует альтернативный сценарий, в котором сам туалет становится окончательным центром тайны. Этот мини-ремейк сцены работает благодаря тому, что Коппола отвергает запрет, действующий в «Психо»: угроза действительно раскрывается, камера действительно показывает ту угрозу, которая подразумевается в «Психо», – хаотическое кровавое месиво, извергающееся из унитаза. (Разве не является болото за домом, в котором Норман топит автомобили с телами своих жертв, своего рода гигантским бассейном с испражнениями и грязью, так что можно сказать, в определенном смысле, что он смывает автомобили в унитаз? Знаменитое выражение тревоги на его лице в момент, когда автомобиль Мэрион на пару секунд перестает погружаться в болото, на самом деле говорит о беспокойстве, что унитаз не поглотит следов преступления. Таким образом, самая последняя сцена «Психо», в которой мы видим, как автомобиль Мэрион достают из болота, является своего рода хичкоковским аналогом поднимающейся из унитаза крови: иными словами, это болото – одна из множества входных точек в доонтологическую Преисподнюю.)
Возможно, в финальной сцене «Головокружения» мы видим эту же отсылку к доонтологическому Загробному миру? Помню, как в доцифровую эпоху, когда я был еще подростком, мне попалась плохая копия «Головокружения» – последние секунды фильма в ней просто отсутствовали, так что казалось, будто у фильма счастливый конец: Скотти примиряется с Джуди, прощая ее и делая своей партнершей, и они страстно обнимаются… С моей точки зрения, такая концовка не так искусственна, как это может показаться: скорее, в настоящей концовке внезапное появление на лестнице матери-настоятельницы действует как своего рода негативный deux ex machina, непредвиденное вмешательство, никоим образом не подкрепленное логикой нарратива и препятствующее счастливой развязке[46]. Откуда появляется монахиня? Из того же доонтологического царства теней, из которого сам Скотти тайно наблюдает за Мадлен в магазине флориста[47]. Именно отсылка к этому доонтологическому царству позволяет нам приблизиться к неснятой квинтэссенции хичкоковской сцены – поскольку такая сцена прямо изображала бы матрицу его работы; будучи снятой, она, без сомнения, производила бы эффект вульгарной и безвкусной. Вот сцена, которую Хичкок хотел добавить в фильм «К северу через северо-запад», описанная в разговорах Трюффо с Мастером:
Я хотел добавить длинный диалог между Кэри Грантом и одним из рабочих [автомобильного завода Форда], который они ведут, шагая вдоль сборочного конвейера. Позади них производится сборка автомобиля – деталь за деталью. Наконец автомобиль, собранный на их глазах из простых гаек и болтов, закончен, заправлен бензином и готов съехать с конвейера. Двое мужчин переглядываются и говорят друг другу: «Разве это не чудо?» Затем они открывают дверь машины, и из нее вываливается труп[48].
Откуда взялся, откуда выпал этот труп? Из той же самой пустоты, из которой Скотти наблюдает за Мадлен в магазине флориста, – из той же пустоты, из которой появляется кровь в «Разговоре». (Следует учесть: то, что мы могли видеть в этом длинном эпизоде, – один единый процесс производства, а значит, не является ли труп, загадочным образом выпадающий ниоткуда, идеальной заменой добавочной стоимости, появляющейся «ниоткуда» в процессе производства?) Вероятно, такое шокирующее восхождение от абсурдно низкого (Другая сторона, на которой исчезает дерьмо) к метафизически Возвышенному составляет одну из загадок искусства Хичкока. Разве Возвышенное не становится иногда частью наших самых обычных повседневных переживаний? Когда в процессе выполнения простой задачи (например, подъема по лестнице) нас внезапно и неожиданно охватывает усталость, вдруг оказывается, что простая задача, которую мы хотим решить (достичь вершины лестницы), отделена от нас непостижимым барьером и поэтому превращается в метафизический Объект, всегда находящийся вне пределов нашей досягаемости, словно есть что-то вечно мешающее нам выполнить ее… Царство, в котором исчезают экскременты, когда мы смываем туалет, по сути, является одной из метафор ужасающе возвышенной Другой стороны изначального, доонтологического Хаоса, в котором исчезают вещи. Хотя с рациональной точки зрения нам известно, что происходит с экскрементами, воображаемая тайна сохраняется – дерьмо остается излишком, не помещающимся в нашу повседневную реальность, и Лакан был прав в том, что мы превращаемся из животных в людей в тот момент, когда возникает проблема избавления от экскрементов, в тот момент, когда экскременты превращаются в вызывающий раздражение излишек[49]. Таким образом, в данной сцене «Разговора» Реальность – это главным образом не ужасающе-отвратительная субстанция, поднимающаяся из унитаза, а само отверстие, брешь, служащая дорогой к иному онтологическому порядку. Здесь играет существенную роль сходство между пустым унитазом – прежде чем из него появляются следы убийства – и «Черным квадратом» Малевича, – разве взгляд в унитаз сверху не воспроизводит почти ту же самую «минималистическую» визуальную схему: черный (или, по крайней мере, более темный) квадрат воды в обрамлении белого фона унитаза? Нам, разумеется, известно, что исчезнувшие экскременты находятся где-то в канализационной сети – «реально» здесь топологическое отверстие или воронка, «искривляющая» пространство нашей реальности, так что мы воспринимаем/представляем экскременты как исчезающие в альтернативном измерении, не являющемся частью нашей повседневной реальности.
Хорошо известно, что Хичкок был одержим чисткой ванной или туалета после их использования[50], и важно, что, когда после убийства Мэрион он хочет сделать точкой идентификации взгляд Нормана, он делает это посредством длительного изображения процесса тщательной чистки ванной – возможно, это ключевая сцена фильма, сцена, обеспечивающая невероятно глубокое удовлетворение от хорошо выполненной работы, от возвращения к нормальному положению вещей, от того, что ситуация снова под контролем, от того, что следы вселяющей ужас преисподней стерты. Возникает искушение толковать эту сцену исходя из широко известного утверждения святого Фомы Аквинского, согласно которому добродетель (определяемая как надлежащий способ совершения поступка) может служить целям зла: некто может быть идеальным вором, убийцей или вымогателем, то есть совершать злые деяния «добродетельным» образом. Сцена мытья ванной в «Психо» показывает, как «низкое» совершенство может незаметно влиять на «высокую» цель: «добродетельное» совершенство Нормана в чистке ванной, разумеется, служит злой цели устранения следов преступления; однако это же совершенство, усердие и тщательность его действий заставляют нас, зрителей, предположить, что, если его действия настолько «совершенны», в целом он должен быть хорошим и приятным человеком. Иными словами, тот, кто моет ванную так тщательно, как это делает Норман, не может быть плохим человеком, несмотря на некоторые свои особенности… (Или, выражаясь более остроумно, если бы страной управлял Норман, поезда всегда приходили бы вовремя!) Недавно, просматривая эту сцену, я заметил, что волнуюсь: ванная не была как следует отмыта – на боку ванны осталось два небольших пятнышка! Я чуть не закричал: эй, ты еще не закончил, доделай свою работу до конца! Возможно, «Психо» указывает на сегодняшнее идеологическое восприятие, в котором не секс, а работа (ручной труд, противопоставляющийся «символической» деятельности) стала местом грязной непристойности, которая должна быть скрыта от глаз общественности? Традиция, восходящая к «Золоту Рейна» Вагнера и «Метрополису» Ланга, традиция, в соответствии с которой работа происходит под землей, в темных пещерах, достигла своего апогея сегодня, когда миллионы безымянных рабочих трудятся в поте лица на фабриках «третьего мира» – от китайских гулагов до индонезийских и бразильских конвейеров, – и благодаря их невидимости Запад может позволить себе разглагольствовать об «исчезновении рабочего класса». Но ключевую роль в этой традиции играет приравнивание труда к преступлению – идея, что труд, тяжелая работа изначально является неподобающей, преступной деятельностью, которая должна быть скрыта от глаз общественности. Единственные моменты голливудских фильмов, позволяющие нам увидеть процесс производства во всей его полноте, связаны с проникновением героя на секретную территорию главного преступника и обнаружением там места тяжелого труда (очистки и упаковки наркотиков, сборки ракеты, которая должна уничтожить Нью-Йорк…). Разве то, как в фильмах о Джеймсе Бонде, главный злодей демонстрирует пленному Бонду свой незаконный завод, не напоминает голливудскую версию гордой социалистическо-реалистической презентации заводского производства?[51] И конечно же, цель вмешательства Бонда состоит в том, чтобы устроить фейерверки в этом месте производства, позволив нам вернуться к привычному повседневному образу существования в мире «исчезающего рабочего класса»…
Разве не бросается в глаза подобное отношение насильственного отождествления у тех левых теоретиков кино, которые также вынуждены любить Хичкока, либидинально отождествлять себя с ним, прекрасно зная, что на шкале политической корректности его работы оцениваются как каталог грехов (одержимость чистотой и контролем, женщины, воплощающие мужские образы…)? Мне никогда не казалось убедительным стандартное объяснение левых теоретиков, неспособных совладать со своей любовью к Хичкоку: да, он создает вселенную мужского шовинизма, но в то же время разоблачает ее изъяны, разрушает ее изнутри. Мне представляется, что подобное социально-политическое измерение стоит искать не в фильмах Хичкока, а где-нибудь в другом месте. Давайте рассмотрим два финала в конце «Психо»: сначала психиатр дает исчерпывающее объяснение произошедшему, а затем сам Норман в ипостаси матери произносит последний монолог «Я и мухи не обижу!». Это расщепление на два финала говорит о тупике современной субъективности больше, чем десяток эссе культурных критиков. Может показаться, что мы имеем дело с расщеплением на экспертное знание и наши личные солипсистские вселенные, о котором сегодня сокрушаются многие социальные критики: здравый смысл, общий для всех набор этических допущений, постепенно разрушается, и у нас остается, с одной стороны, объективированный язык экспертов и ученых, уже недоступный для перевода на простой, понятный каждому язык, но присутствующий внутри него в виде фетишизированных формул, которых никто по-настоящему не понимает, но которые, однако, придают форму нашей художественной и популярной фантазии (черная дыра, большой взрыв, суперструны, квантовые осцилляции…), а с другой стороны – множество стилей жизни, которые невозможно свести друг к другу: все, что мы можем сделать, – это обеспечить условия для их толерантного сосуществования в мультикультурном обществе. Возможно, лучшим примером здесь является пресловутый индийский программист, в течение дня усердно применяющий свои экспертные знания, а вечером, вернувшись домой, зажигающий свечи перед местным индусским божеством и уважающий священность коров.
Однако при ближайшем рассмотрении быстро становится очевидным то, что в финале «Психо» это противопоставление смещено: именно психиатр, представляющий холодное объективное знание, говорит человечно, с участием, почти с теплотой, его объяснение изобилует индивидуальными особенностями и сочувственными жестами, в то время как Норман, удалившийся в собственный мир, уже не является собой – он полностью одержим чужой психической сущностью, призраком матери. Это последнее изображение Нормана напоминает мне, как в Мексике снимают мыльные оперы: из-за чрезвычайно плотного графика съемок (студия должна ежедневно выпускать получасовое продолжение сериала) актер не успевает заранее выучить свою роль, и поэтому у него в ухе скрыт крошечный микрофон, через который человек из будки, расположенной за декорациями, просто дает ему указания о том, что он должен делать (какие слова говорить, какие действия совершать), – актеры тренируются следовать этим указаниям немедленно, без задержки… Это и есть Норман в финале «Психо», и это также хороший урок тем последователям нью-эйджа, которые утверждают, что мы должны просто отбросить социальные маски и освободить свои самые сокровенные внутренние «я», – пусть так, но в результате мы получим Нормана, который в финале «Психо», в сущности, воплощает свое истинное «я» и следует старому девизу Рембо, сформулированному им в письме Демени («Car je est un autre. Si le cuivre s’éveille clairon, il n’y a rien de sa faute» – «Потому что я – это другой. Если медь проснется горном, в этом нет ее вины»): если Норман начинает говорить странным голосом своей матери, это не его вина. Цена, которую мне приходится заплатить за то, чтобы стать «по-настоящему собой», цельным субъектом, это полное отчуждение, это мое становление Другим в отношении самого себя: препятствием для моего полного самоотождествления является само условие моей Самости.
Другой аспект того же антагонизма связан с архитектурой: Нормана можно считать субъектом, разделенным между двумя домами – современным горизонтальным мотелем и вертикальным готическим домом матери, – вечно мечущимся между ними и неспособным найти себе подходящего места. В этом смысле зловещий (unheimlich) характер финала фильма означает, что в полном отождествлении с собственной матерью Норман наконец находит свой Heim, свой дом. В таких модернистских произведениях, как «Психо», этот разрыв все еще виден, в то время как основной задачей современной постмодернистской архитектуры является его затирание. Достаточно вспомнить «новый урбанизм» с его возвращением к небольшим семейным домам в маленьких городках, с передними крыльцами и воспроизведением уютной атмосферы местного сообщества, – и становится ясно, что это тот самый случай, когда архитектура превращается в идеологию чистой воды, предоставляя воображаемый (хотя и «настоящий», материализованный в фактическом расположении домов) выход из реального социального тупика, не имеющего никакого отношения к архитектуре, зато самое непосредственное – к динамике позднего капитализма. Более двусмысленный пример того же антагонизма – работы Фрэнка Гери. Почему он так популярен, почему стал настоящей культовой фигурой? Он берет за основание один из двух полюсов антагонизма: старомодный семейный дом или модернистское здание из стекла и бетона – и либо подвергает его своего рода кубистскому анаморфическому искажению (скругленные углы стен и окон и т. п.), либо встраивает в старый семейный дом модернистское дополнение так, чтобы, как заметил Фредрик Джеймисон, фокусной точкой стало место (комната) на пересечении двух пространств. Иными словами, похоже, что Гери делает с помощью архитектуры то же, чего индейцы кадувео (согласно великолепному описанию Леви-Стросса в его «Les tristes tropiques») пытались достичь с помощью татуирования лица: посредством символического акта снять реальный социальный антагонизм, конструируя утопическое решение, промежуточное звено между противоположностями. Итак, моя финальная гипотеза: если бы мотель Бейтса был построен Гери и непосредственно сочетал бы в новой гибридной сущности старый дом матери и плоский современный мотель, Норману не пришлось бы убивать своих жертв, поскольку он был бы свободен от невыносимого напряжения, заставляющего его метаться между двумя зданиями, – у него было бы третье место, переход между двумя крайностями.
3 «В бесстыдном его взгляде – моя погибель»
Чтобы выполнить аксиому диалектики, согласно которой единственный способ достичь соответствующего закона мироздания заключается в нахождении исключения из этого закона, начнем с фильма «Не тот человек», одного из тех фильмов, что явно «выдаются» из всего œuvre Хичкока:
с одной стороны, «Не тот человек» – это Хичкок в наиболее чистом виде. Его особая привязанность к этому фильму подтверждается исключительным характером появления режиссера в кадре: в прологе Хичкок обращается непосредственно к зрителям, напоминая им, что они увидят трагедию, взятую из реальной жизни. Этот пролог производит впечатление безоговорочного оправдания: извините, но вы не увидите обычных трюков из комических фильмов или триллеров – здесь все взаправду, я выложу свои карты на стол и сообщу то, что хотел, напрямую, не облачая в обычный комедиантский костюм…[52];
с другой стороны, столь же очевидно и то, что в самой основе этого фильма что-то не так: в нем есть некий глубинный изъян. Следовательно, надо ответить на два вопроса: что за послание Хичкок пытался выразить в «Не том человеке» «напрямую» и почему ему это не удалось?
Ответ на первый вопрос содержится в том, что обычно называют теологическим измерением творчества Хичкока. История музыканта Балестреро, равновесие спокойной жизни которого внезапно оказалось нарушено непредвиденным случаем (его по ошибке приняли за грабителя банка), являет собой квинтэссенцию хичкоковского мировоззрения, где жестокий, непостижимый и своенравный Бог садистски играет человеческими судьбами. Но что это за Бог, который без видимой причины может превратить нашу повседневную жизнь в кошмар? В своем первопроходческом труде «Хичкок» (1957) Ромер и Шаброль[53] искали ключ к «хичкоковской вселенной» в католицизме; хотя такой подход сегодня кажется в значительной степени дискредитированным (его затмили великие семиотические и психоаналитические анализы 1970-х гг.), к нему все-таки стоит вернуться, особенно если учесть, что католическая традиция, на которую ссылаются Ромер и Шаброль, – это не католицизм вообще, а янсенизм. Янсенистская проблематика греха, отношений между добродетелью и благодатью, фактически впервые очерчивает отношения между субъектом и Законом, определяющие «хичкоковскую вселенную».
В предисловии к английскому изданию «Образа-Движения» Жиль Делёз обнаруживает связующее звено между Хичкоком и традицией английской мысли в теории внешних отношений[54], которую английский эмпиризм противопоставлял континентальной традиции, понимавшей развитие объекта как раскрытие свойственного ему потенциала; разве «хичкоковская вселенная», где некое совершенно внешнее и случайное вмешательство Судьбы, никоим образом не основанное на имманентных свойствах субъекта, внезапно изменяющее его символический статус (ошибочная идентификация Торнхилла как Каплана в фильме «К северу через северо-запад», ошибочная идентификация Балестреро в качестве грабителя банка в «Не том человеке» и т. д. – вплоть до супружеской четы в фильме «Мистер и миссис Смит», которая внезапно узнаёт, что их брак был недействительным), – разве она не вписывается в традицию английского эмпиризма, согласно которой объект погружен в случайную сеть внешних отношений? И все-таки этой традиции не хватает субъективного измерения, напряжения, абсурдного разлада между переживанием субъектом собственного «я» и внешней сетью, определяющей его Истину, – то есть не хватает обусловленности этой сети внешних отношений не как простой эмпирической «смеси», а как символической сети, сети интерсубъективной символической структуры. Более подробное изложение можно найти в янсенистской теологии Пор-Рояля.
Отправная точка янсенизма – пропасть, отделяющая человеческую «добродетель» от божественной «благодати»: с точки зрения своей имманентной природы все люди греховны, грех есть нечто определяющее сам их онтологический статус; по этой причине их спасение не может зависеть от добродетели, которая свойственна им как людям, спасение может прийти к ним лишь извне, в качестве божественной благодати. Следовательно, благодать с необходимостью предстает в виде чего-то совершенно случайного – она не имеет отношения к характеру человека или к его поступкам; непостижимым образом Бог заранее решает, кто будет спасен, а кто – проклят[55]. Таким образом, отношение, которое мы в своей повседневной жизни считаем «естественным», полностью переворачивается: Бог не принимает решение о нашем спасении на основании наших добродетельных поступков, но мы совершаем добродетельные поступки, потому что мы спасены заранее. Трагедия главных героев в пьесах Жана Расина, драматурга, разделявшего идеи школы Пор-Рояль, в том, что в этих героях воплощено чрезмерное обострение антагонистических отношений между добродетелью и благодатью: именно Арно, современник Расина, назвал Федру «одной из праведниц, не удостоившихся благодати».
Последствия такого янсенистского раскола между имманентной добродетелью и трансцендентными благодатью или проклятием заходят весьма далеко: янсенизм зачаровывал французских коммунистов в период их наиболее последовательного «сталинизма», поскольку в разобщенности между добродетелью и благодатью им было легко угадать предвестие того, что они называли «объективной ответственностью»: сам по себе человек может быть выше всяких похвал, честным, добродетельным и т. д., и все-таки если он не отмечен печатью «благодати» прозрения исторической Истины, воплощенной в Партии, то он «объективно виновен» и как таковой подлежит осуждению. Таким образом, янсенизм in nuce, в зародыше, содержит такую логику, которая на чудовищных сталинских процессах побуждала виновных признавать свою вину и требовать для себя наиболее сурового наказания: основной парадокс расиновской «Гофолии» заключается в том, что в этой драме о конфликте между приверженцами Иеговы – истинного Бога – и сторонниками языческого Ваала всякий, включая Матфана, верховного жреца Ваала, верит в Иегову, подобно тому как обвиняемые на сталинских процессах знали, что сами они – «отбросы истории», то есть знали, что Истина на стороне Партии[56]. Таким образом, позиция расиновских злодеев выражает парадокс героя де Сада, переиначивающего девиз Паскаля: «Даже если вы не веруете, становитесь на колени и молитесь, действуйте так, как если бы вы веровали, и вера придет сама собой», – герой Сада – это тот, кто (хотя в глубине души он и знает, что Бог существует) действует так, как если бы Бога не существовало, и нарушает все Его заповеди[57].
Если такое включение Хичкока в янсенистскую родословную кажется натянутым, то достаточно вспомнить важнейшую роль, которую играет взгляд и в фильмах Хичкока, и в пьесах Расина. Сюжет его самой знаменитой пьесы «Федра» вращается вокруг неверной интерпретации взгляда: Федра, жена царя Тесея, открывает свою любовь Ипполиту, царскому сыну от предыдущего брака, и получает жестокий отказ; когда входит ее муж, она принимает мрачное выражение лица Ипполита – на самом деле знак его печали – за дерзкую решимость выдать ее царю и мстит ему, результатом чего становится ее собственная гибель[58]. Стих 910 «Федры», где высказано это неверное толкование («В бесстыдном его взгляде – моя погибель!»[59]), может служить подходящим эпитетом для хичкоковской вселенной, где взгляд Другого – вплоть до последнего взгляда Нормана Бейтса в камеру из «Психо» – воплощает угрозу смерти, где саспенс никогда не бывает результатом физического столкновения между субъектом и агрессором, но всегда включает в себя опосредование того, что субъект вкладывает во взгляд другого[60]. Иными словами, взгляд Ипполита служит превосходной иллюстрацией тезиса Лакана о том, что взгляд, с которым я встречаюсь, «есть не зримый взгляд, а взгляд, воображаемый мною в поле Другого»[61]: взгляд – это не взгляд другого как таковой, но способ, каким этот взгляд «касается меня (me regarde)», способ, каким субъект видит самого себя затронутым своим желанием, – взгляд Ипполита – это не просто ситуация, когда Ипполит смотрит на Федру, но угроза, которую Федра видит в нем, «вкладывает в него» с позиции своего желания»[62].
Таинственная связь, которая соединяет две указанные черты: чистую «машину» (множество внешних отношений, обусловливающих судьбу субъекта) и чистый взгляд (в терминах Лакана «структура означающего», его automaton, – и objet petit a, его случайный остаток, tyche, судьба), – служит ключом как к расиновской, так и к хичкоковской вселенной. Первый намек на характер этой связи можно обнаружить при более внимательном рассмотрении указанной сцены из «Федры»: важнейшая ее особенность – присутствие третьего взгляда, взгляда царя Тесея. Взаимодействие взглядов Федры и Ипполита предполагает некую Третичность, агента, под чьим бдительным взором оно развертывается, агента, которого необходимо любой ценой держать в неведении касательно истинного характера дела. И не случайно роль эта отведена царю – кто, как не царь, основной гарант социальной ткани, лучше всего способен воплотить слепой механизм символического порядка как такового? Конфигурация напоминает здесь конфигурацию из новеллы Э. По «Похищенное письмо», где мы также присутствуем при поединке двух взглядов (королевы и министра) на фоне третьего взгляда (взгляда короля), которого следует держать в неведении относительно сути дела. И разве мы не сталкиваемся со схожей конфигурацией в «39 ступенях», а также в двух более поздних хичкоковских вариациях той же формулы («Саботажник», «К северу через северо-запад»), а именно – в сцене поединка между героем и его противниками на фоне ничего не ведающей толпы (политическое собрание в первом фильме, благотворительный бал – во втором, аукцион – в третьем)? В «Саботажнике», к примеру, герой пытается вызволить свою подругу из рук нацистских агентов и бежать с ней; но сцена происходит в большом зале, на виду у сотен гостей, и потому обеим сторонам приходится соблюдать правила этикета, то есть действия, которые каждая из них предпринимает против противной стороны, должны согласовываться с правилами социальной игры; Другого (воплощенного в толпе) следует держать в неведении относительно истинных ставок в игре[63].
Следовательно, ответ на наш первый вопрос таков: в фильме «Не тот человек» в наиболее чистом виде инсценирована теологическая подоплека хичкоковской вселенной, где героями по своему произволу распоряжается Dieu obscur (темный бог), непредсказуемый Фатум, воплощенный в гигантских каменных статуях, регулярно появляющихся в фильмах Хичкока (от египетской богини в Британском музее в «Шантаже» и статуи Свободы в «Саботажнике» – до голов президентов на горе Рашмор в «К северу через северо-запад»). Эти боги слепы в своем блаженном неведении; их механика работает независимо от мелких человеческих дел; Фатум же вмешивается в виде случайного совпадения, которое радикально изменяет символический статус героя[64]. На самом деле лишь тонкая линия отделяет это понятие – Dieu obscur – от садовского понятия «верховного злого существа»[65].
Что же касается нашего второго вопроса, то ответ на него дает другая статуя, которая как раз не появляется ни в одном из фильмов Хичкока: Сфинкс. Здесь мы имеем в виду фотографию Хичкока на фоне Сфинкса, оба лика даны в профиль, что подчеркивает параллелизм между ними – в конечном счете Хичкок и сам в своем отношении к зрителю берет на себя парадоксальную роль «великодушного злого Бога», дергающего за веревочки и играющего в игры с публикой. Иначе говоря, Хичкок в качестве великого автора представляет собой уменьшенное, «эстетизированное» зеркальное отражение непостижимого и своевольного Творца. А сложность с «Не тем человеком» заключается в том, что в этом фильме Хичкок отверг такую роль «великодушного злого Бога» и попытался передать послание «напрямую» и «серьезно», получив парадоксальный результат – само его послание лишилось своей убедительности. Иными словами, метаязыка не существует: послание (взгляд на мироздание, подчиняющееся произволу жестокого и непостижимого Dieu obscur) можно передать только в художественной форме, которая сама подражает своей структуре[66]. Когда Хичкок поддался искушению «серьезного» психологического реализма, даже самые трагические моменты, запечатленные в фильме, почему-то не трогают нас, несмотря на то что Хичкок прилагает неописуемые усилия, чтобы вызвать у нас потрясение…
Здесь мы соприкасаемся с вопросом об «изначальном опыте» Хичкока, о травматическом ядре, вокруг которого вращаются его фильмы. Сегодня такая проблематика может казаться устарелой, будучи примером наивных «редукционистских» поисков «действительной» психологической основы художественной литературы, вследствие чего психоаналитическая критика приобрела весьма дурную репутацию. Но есть и другая разновидность такого подхода. Возьмем три далеких друг от друга произведения: «Империю солнца» Дж. Г. Балларда, «Идеального шпиона» Джона Ле Карре и «Черный дождь» Ридли Скотта – что общего между ними? Во всех трех случаях автор – после ряда произведений, которые устанавливали известную тематическую и стилистическую преемственность, очерчивающую контуры особой художественной «вселенной», – в конечном итоге берется за «эмпирический» фрагмент реальности, который служил ее опорой в сфере опыта.
Вслед за рядом научно-фантастических романов, одержимых мотивом блуждания по заброшенному миру, оказавшемуся в состоянии упадка; по миру, заполненному обломками погибшей цивилизации, «Империя солнца» дает литературное описание детства Балларда, когда в одиннадцатилетнем возрасте после оккупации Шанхая японцами он оказался оторванным от родителей, оставшись в одиночестве в городском квартале, где раньше жили богатые иностранцы; ему оставалось блуждать между заброшенными виллами с высохшими, растрескавшимися бассейнами… «Цирк» Ле Карре – блестящее описание мира шпионов с предательством, манипуляцией и двойным обманом; в «Идеальном шпионе», написанном сразу же после смерти отца, Ле Карре раскрыл источник своей одержимости предательством: двусмысленные отношения с отцом, порочным мошенником. В фильмах Ридли Скотта показываются развращенные и разлагающиеся мегаполисы (как ехидно заметил один критик, Скотт не может снять улицу без «атмосферной» грязи и омерзительного тумана); в «Черном дожде» он наконец-то нашел объект, реальность которого подкрепляет эту картину: сегодняшний Токио – там нет нужды придумывать мрачные образы Лос-Анджелеса 2080 г., как в «Бегущем по лезвию бритвы»…
Теперь должно стать ясно, почему то, о чем здесь идет речь, не является «психологическим редукционизмом»: извлеченный на свет фрагмент опыта (детство в оккупированном Шанхае; непристойная фигура отца; сегодняшний японский мегаполис) – это не просто «действительная» точка отсчета, позволяющая нам свести фантазию к реальности, но, напротив, точка, где сама реальность соприкасается с фантазией (возникает даже соблазн сказать: посягает на нее), – то есть точка короткого замыкания, вследствие которого травматическая фантазия вторгается в реальность, – здесь, в этот уникальный момент столкновения, реальность кажется «более похожей на грезу, чем сами грезы». На этом фоне причины провала «Не того человека» становятся немного яснее: фильм действительно передает эмпирическую основу хичкоковской вселенной, но этой основе просто недостает фантазматического измерения – чудесного столкновения не происходит, реальность остается «просто реальностью», фантазия не встречает в ней своего отзвука.
Иными словами, в «Не том человеке» отсутствует аллегорическое измерение: высказываемое в этом фильме (диегетическое содержание) не указывает на процесс своего высказывания (отношения Хичкока с публикой). Такое модернистское представление об аллегории, конечно, противопоставляется традиционному: в рамках традиционного пространства повествования диегетическое содержание функционирует как аллегория некоей трансцендентной сущности (индивиды из плоти и крови воплощают трансцендентные принципы: Любовь, Искушение, Измену и т. д.; они предоставляют внешнее облачение для сверхчувственных идей), тогда как в пространстве модернизма диегетическое содержание постулируется и воспринимается как аллегория собственного процесса высказывания. В книге «Убийственный взгляд»[67] Уильям Ротман расшифровывает все œuvres Хичкока как аллегорическую инсценировку «великодушно-садистских» отношений между Хичкоком и его публикой; возникает даже искушение сказать, что фильмы Хичкока в конечном счете содержат только две субъектные позиции: позицию режиссера и позицию зрителя – все диегетические персонажи по очереди занимают одну из этих двух позиций.
Наиболее ясный случай такой аллегорической саморефлексивной структуры встречается в «Психо»: гораздо более убедительным, нежели традиционное аллегорическое прочтение (интерпретация полицейского, который останавливает Мэрион как раз перед тем, как она попадает в мотель к Бейтсу, к примеру, как ангела, посланного Провидением, чтобы остановить ее на пути к погибели), является прочтение, интерпретирующее диегетическое содержание как то, что дублирует позицию зрителя (его вуайеризм) либо режиссера (наказание режиссером вуайеризма зрителя)[68]. «Чтобы избежать перечисления хорошо известных примеров, свидетельствующих о том, как Хичкок обыгрывает двусмысленный и раздвоенный характер зрительского желания (замедленное погружение в болото автомобиля Мэрион в “Психо”; многочисленные намеки на вуайеризм зрителя, начиная с “Окна во двор” и заканчивая “Психо”; рука Грейс Келли, протянутая за помощью к камере, т. е. к зрителю, в фильме “В случае убийства набирайте ‘М’”; “наказание” зрителя, состоящее в полной реализации его желания и живописующее смерть злодея во всех ее отвратительных деталях, от “Саботажника” до “Разорванного занавеса” и т. д.), ограничимся второй сценой из “Психо”: Мэрион (Джанет Ли) входит в свой офис, за ней следуют босс с нефтяным миллионером, который в хвастливо-непристойной манере показывает сорок тысяч долларов. Ключом к этой сцене служит эпизод с участием самого Хичкока»[69]: на мгновение мы видим его сквозь оконное стекло стоящим на мостовой; когда же через несколько секунд с того места, где стоял Хичкок, в офис входит миллионер, на нем та же ковбойская шляпа – таким образом, миллионер является своеобразным дублером Хичкока, посланным им в фильм, чтобы ввести Мэрион в искушение и тем самым подтолкнуть сюжет в желаемом направлении… Хотя «Не тот человек» и «Психо» во многих отношениях схожи (черно-белая блеклость изображаемой в них повседневной жизни; разрыв в повествовательной линии и т. д.), различие между ними непреодолимо.
Классический марксистский упрек здесь, разумеется, заключался бы в том, что основная функция такой аллегорической процедуры, посредством которой результат отражает свой формальный процесс, состоит в том, чтобы сделать невидимым социальное опосредование этой аллегории и тем самым нейтрализовать ее социально-критический потенциал, – словно для того, чтобы заполнить пустоту социального содержания, произведение обращается к собственной форме. И разве упрек не подтверждается per negationem, через отрицание, в фильме «Не тот человек», который из всех фильмов Хичкока – вследствие отказа от аллегории – ближе всего подходит к «социальной критике» (мрачная повседневная жизнь, затянутая в иррациональные шестеренки судебной бюрократии…)? Но здесь возникает соблазн выступить в защиту линии аргументации, полностью противоположной этой[70]: наиболее мощный критико-идеологический потенциал фильмов Хичкока содержится как раз в их аллегорическом характере. Чтобы этот потенциал хичкоковской «благожелательно-садистской» игры со зрителем стал очевидным, следует принять во внимание понятие садизма в том строгом виде, как его разработал Лакан. В своей работе «Кант с Садом» Лакан предложил две схемы, отражающие матрицу двух стадий садовской фантазии[71], – вот первая схема:
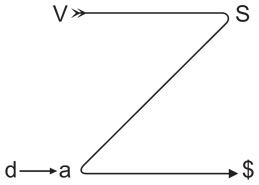
V (volonté) обозначает волю-к-наслаждению, основополагающее качество садовского субъекта, его стремление находить наслаждение в боли другого; тогда как S и есть этот страдающий субъект, и притом (в этом соль лакановского утверждения) как таковой, «не перечеркнутый», полный: садист – это в некотором роде паразит, ищущий подтверждения собственного бытия. Посредством его страдания другой – его жертва – подтверждает себя в качестве сопротивляющейся плотной субстанции: живая плоть, в которую садист врезается, так сказать, удостоверяет полноту бытия. Таким образом, верхний уровень схемы, V → S, обозначает явные садистские отношения: извращенец-садист воплощает волю-к-наслаждению, которая мучит жертву, чтобы достичь полноты бытия. Лакановский тезис, однако, состоит в том, что в этих явных отношениях кроются и другие, латентные, каковые являются «истиной» первых. Эти другие отношения находятся на нижнем уровне схемы: отношения между объектом-причиной желания и расщепленным субъектом. Иначе говоря, садист как агрессивная воля-к-наслаждению есть не что иное, как видимость, чьей «истиной» является objet a: его «истинная» позиция – быть объектом-орудием наслаждения Другого.
Садист действует не для собственного наслаждения; скорее, он стремится избежать субъектообразующей расщепленности, беря на себя роль объекта-орудия, служащего большому Другому (историко-политический пример: коммунист-сталинист, считающий себя орудием истории, средством осуществления исторической Необходимости). Тем самым расщепленность переносится на другого, на мучимую жертву: жертва никогда не бывает чисто пассивной субстанцией, неперечеркнутой «полнотой бытия», поскольку результативность садистских действий зависит от расщепленности жертвы (например, от ее стыда за то, что с ней происходит) – садист наслаждается лишь постольку, поскольку его деятельность вызывает такое расщепление в другом. (В сталинском коммунизме это расщепление приводит к непристойному «прибавочному наслаждению», характерному для позиции коммуниста: коммунист действует во имя Народа – то есть то, что он по своему произволу терзает народ, и есть для него сама форма «служения народу»; сталинист же действует как чистый посредник, как инструмент, посредством которого народ, так сказать, терзает себя сам…) Поэтому подлинное желание садиста (d – désir, желание – в левом нижнем углу схемы) – действовать в качестве орудия наслаждения Другого как «верховного злого существа»[72]. Однако же здесь Лакан делает следующий важный шаг: первая схема в ее полноте передает структуру этой садовской фантазии; но все-таки Сад не позволял собственной фантазии себя одурачить, он прекрасно осознавал, что место ее – в других структурах, которые ее обусловливают. Мы можем получить эти другие структуры, просто повернув первую схему на 90°:
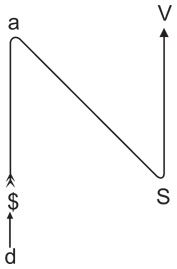
Таково «действительное» положение субъекта, предающегося садистским фантазиям: это объект-жертва, зависящий от произвола садовской воли большого Другого, которая, как говорит Лакан, «переходит в моральное принуждение». Лакан иллюстрирует этот тезис на примере самого Сада, в случае с которым это принуждение приняло форму морального давления, оказываемого на него его окружением, тещей, которая непрерывно отправляла его в заточение, и так вплоть до Наполеона, поселившего его в психиатрической лечебнице.
Таким образом, Сад – субъект, производивший «садистские» сценарии в бешеном ритме, – на самом деле был жертвой бесконечных домогательств, объектом, на котором государственные инстанции изживали собственный моралистический садизм: подлинная воля-к-наслаждению уже работает в государственно-бюрократическом аппарате, который манипулирует субъектом. В результате получается $, перечеркнутый субъект – и здесь это следует читать буквально, как удаление, как стирание субъекта из ткани символической традиции: изгнание Сада из «официальной» (литературной) истории, в результате чего от него как от личности не осталось почти никаких следов. S, патологически страдающий субъект, фигурирует здесь как сообщество тех, кто – когда Сад был жив – оказывал ему поддержку вопреки всевозможным трудностям (его жена, свояченица, слуга), и прежде всего как сообщество тех, кто после его смерти не переставал восхищаться его произведениями (писатели, философы, литературные критики…). Как раз теперь становятся ясными причины, по которым схема садовской фантазии должна прочитываться в обратном направлении – исходя из матрицы четырех дискурсов: схема обретает последовательность, если ее четвертый терм S мы читаем как S2, (университетское) знание, стремящееся проникнуть в тайну творчества Сада. (В этом смысле об а во второй схеме можно сказать, что оно обозначает то, что осталось от Сада после его смерти, объект-продукт, посредством которого Сад провоцировал моралистически-садистскую реакцию Господина: а – это, конечно же, его творчество, его писательское наследие).
Итак, поворот схемы на 90° ставит садиста в позицию жертвы: поначалу выглядело, будто трансгрессия ниспровергает закон, а оказалось, что она сама принадлежит закону – сам Закон и есть изначальное извращение. (В сталинизме этот сдвиг характеризует момент, когда сам сталинист превращается в жертву и вынужден пожертвовать собой во имя высших интересов Партии, признать свою вину на политическом процессе… $ обозначает здесь его стирание из анналов истории, превращение в «неличность»[73].) Этот поворот на 90° также объясняет логику садовской игры со зрителем у Хичкока. Во-первых, он ставит для зрителя ловушку садистской идентификации тем, что возбуждает в нем «садистское» желание увидеть, как герой сокрушит «плохого парня», эту мучительную «полноту бытия»… Когда же зрителя наполняет воля-к-наслаждению, Хичкок захлопывает ловушку, попросту осуществляя зрительское желание: полностью реализовав свое желание, зритель получает больше, чем просил (акт убийства во всем его тошнотворном присутствии – образцовый случай здесь: убийство Громека в «Разорванном занавесе»), и тем самым зрителя заставляют признать, что в тот самый момент, когда он был одержим стремлением увидеть, как «плохой парень» будет уничтожен, им, по сути дела, манипулировал единственный настоящий садист, сам Хичкок. Такое умиротворение приводит зрителя к столкновению с противоречивым, расщепленным характером его желания (он хочет, чтобы плохой парень был безжалостно уничтожен, но в то же время не готов заплатить за это сполна: как только зритель видит свое желание осуществленным, он, будучи пристыженным, удаляется), а результатом, продуктом, является S2: знание, то есть бесконечный поток книг и статей о Хичкоке.
Задействованный здесь сдвиг – или поворот – можно также определить и как переход от I к а, от взгляда как точки символической идентификации к взгляду как объекту. То есть перед тем, как зритель отождествит себя с героями из диегетической реальности, он отождествит себя с ними как с чистым взглядом, то есть с абстрактной точкой, которая смотрит с экрана[74]. «Эта идеальная точка предполагает чистую форму идеологии, поскольку она притязает на свободное плавание в некоем пустом пространстве, не будучи нагруженной каким-либо желанием – как если бы зритель сводился к некоему абсолютно невидимому, не имеющему субстанции свидетелю событий, которые происходят «сами по себе», независимо от присутствия его взгляда. Однако же посредством сдвига от I к а зрителя заставляют столкнуться с желанием, действующим в его будто бы «нейтральном» взгляде, – здесь достаточно вспомнить знаменитую сцену из «Психо», когда Норман Бейтс нервно наблюдает за тем, как автомобиль с телом Мэрион погружается в болото, находящееся за домом его матери: когда же автомобиль на секунду перестает погружаться, тревога, автоматически возникающая у зрителя – знак его солидарности с Норманом, – внезапно напоминает зрителю, что его желание тождественно желанию Нормана; что его безучастность всегда была неискренней. В тот самый момент его взгляд деидеализируется: чистота этого взгляда замарана патологическим пятном, и в результате возникает желание, в котором взгляд находит себе опору: зритель вынужден признать, что сцена, свидетелем которой он оказался, поставлена для его глаз, что его взгляд был включен в нее с самого начала.
Существует известная история об антропологической экспедиции, стремившейся завязать контакт с «диким» племенем из новозеландских джунглей, с племенем, о котором говорили, что оно устраивает зловещие воинские пляски в нелепых масках; когда экспедиция встретилась с этим племенем, ее участники попросили туземцев продемонстрировать этот танец, и выяснилось, что танец на самом деле соответствует описаниям; итак, антропологи получили желаемый материал о странных и страшных обычаях аборигенов. Однако вскоре было доказано, что этой дикой пляски не существует вообще: аборигены всего лишь постарались выполнить желания исследователей; в своих разговорах с исследователями аборигены поняли, чего от них хотят, и воспроизвели это для исследователей… Именно это Лакан и имеет в виду, когда говорит, что желание субъекта есть желание другого: аборигены вернули исследователям их собственное желание; извращенная странность, казавшаяся исследователям «чудовищно жуткой», была разыграна специально для них. Тот же парадокс стал объектом превосходной сатиры в фильме «Совершенно секретно» (братья Цукер и Абрахамс, 1978), в комедии о западных туристах в (теперь уже бывшей) ГДР: на пограничной железнодорожной станции сквозь окно поезда они видят ужасное: жестокую полицию, собак, избитых детей, – однако же как только досмотр заканчивается, все сотрудники таможни уходят, избитые дети встают, стряхивая с себя пыль, – словом, все представление «коммунистической жестокости» было поставлено для западных глаз.
Здесь мы имеем точку, обратно симметричную иллюзии, определяющей идеологическую интерпелляцию: иллюзию, будто Другой всегда/уже смотрит на нас, обращается к нам. Если мы узнаем самих себя в качестве подвергшихся интерпелляции, в качестве адресатов идеологического призыва, то мы не узнаем радикальную случайность того, что мы оказались в месте, где к нам интерпеллировали, – то есть нам не удается обнаружить, как наше «спонтанное» восприятие того, что Другой (Бог, Нация и т. д.) избрал нас в качестве адресата своего обращения, происходит из ретроактивного превращения случайности в необходимость: дело не в том, что мы узнаем себя в призыве идеологии из-за того, что мы оказались избранными; наоборот, мы считаем себя избранными, адресатами призыва из-за того, что в этом призыве мы узнали самих себя – случайный акт узнавания ретроактивно порождает свою собственную необходимость (та же иллюзия возникает, когда читатель гороскопа «узнает» себя в качестве адресата этого гороскопа, воспринимая случайные совпадения невразумительных предсказаний с собственной жизнью как доказательство того, что гороскоп «говорит о нем»).
С другой стороны, иллюзия, связанная с нашим отождествлением с чистым взглядом, гораздо тоньше: когда мы воспринимаем самих себя в качестве посторонних наблюдателей, украдкой бросающих взгляд на некую величественную Тайну, которая безразлична по отношению к нам, мы остаемся слепыми к тому обстоятельству, что зрелище, каковым является Тайна, инсценировано специально для нашего взгляда, чтобы привлекать и зачаровывать наш взор; здесь Другой обманывает нас тем, что заставляет поверить, что мы – не избранные; здесь сам подлинный адресат по ошибке принимает собственную позицию за позицию случайного постороннего наблюдателя[75].
Элементарная стратегия Хичкока заключается в следующем: благодаря рефлексивному включению зрительского взгляда зритель начинает понимать, что этот его взгляд всегда/уже пристрастен, «идеологичен», отмечен «патологическим» желанием. Здесь хичкоковская стратегия носит куда более подрывной характер, чем может показаться на первый взгляд: каков же на самом деле точный статус желания зрителя, которое осуществлено в вышеупомянутом примере убийства Громека из «Разорванного занавеса»? Основополагающий факт состоит в том, что это желание воспринимается как «трансгрессия» социально разрешенного, как желание того, чтобы наступил момент, когда, так сказать, будет позволено нарушить Закон во имя самого же Закона, – здесь мы опять-таки сталкиваемся с извращением как с социально «конструктивной» позицией: можно предаваться беззаконным порывам, пытать и убивать во имя защиты закона и порядка и т. д. Это извращение основывается на расщеплении поля Закона на Закон как «Я-Идеал», то есть символический порядок, который регулирует общественную жизнь и поддерживает социальный мир, – и на его непристойную изнанку Сверх-Я.
Как показали многочисленные исследования, начиная с Бахтина, периодические трансгрессии суть неотъемлемая часть общественного порядка; они играют роль условия стабильности последнего. (Ошибка Бахтина – или, скорее, некоторых его последователей – заключалась в том, что они дали идеализированный образ этих «трансгрессий»; в том, что они обходили молчанием линчевания и т. д. как важнейшую форму «временной карнавальной отмены социальной иерархии».) Глубочайшая идентификация, «способствующая сплоченности сообщества», – это не столько идентификация с Законом, который регулирует «нормальное» течение повседневной жизни этого сообщества, сколько идентификация с особой формой трансгрессии этого Закона, его приостановкой (в психоаналитических терминах со специфической формой наслаждения). Вспомним белые общины небольших городов американского Юга 1920-х гг., где господство официального, публичного Закона сопровождалось его темным двойником, ночным террором Ку-клукс-клана, линчеванием бессильных негров и т. д.: (белому) человеку легко прощаются по крайней мере незначительные прегрешения против Закона, особенно когда их можно оправдать «кодексом чести»; сообщество по-прежнему считает его «одним из нас» (легендарные примеры солидарности с преступившим закон в изобилии имеются среди белых общин Юга); но его действительно отлучат от сообщества и будут воспринимать не как «одного из нас», как только он отречется от специфической формы трансгрессии, которая подобает этому сообществу, – скажем, как только он откажется принимать участие в ритуальных ку-клукс-клановских линчеваниях или, более того, сообщит о них Закону (который, конечно, ничего не желает слышать о них, ибо они суть воплощение его собственной изнанки).
Сообщество нацистов основывалось на той же общности вины, устанавливаемой соучастием в общей трансгрессии: тех, кто не был готов принять темную изнанку идиллической Volksgemeinschaft, народной общины, оно подвергало остракизму – ночные погромы, избиение политических противников – словом, все, что «было известно каждому, но о чем не хотели говорить вслух». В этом и состоит суть того, что мы хотим сказать: «отчужденная» идентификация, идентификация, функционирование которой подвешивается в результате аллегорической игры Хичкока со зрителем, и есть эта самая идентификация с трансгрессией. И именно тогда, когда Хичкок предстает в своей наиболее конформистской ипостаси, когда он восхваляет положения Закона и т. д., критико-идеологический крот уже проделал свою работу – основополагающая идентификация с «трансгрессивным» режимом наслаждения, которая сплачивает сообщество, – короче говоря, материя, из которой на самом деле сотканы идеологические грезы, – непоправимо замарана…
«Психо» доводит такое хичкоковское опрокидывание идентификации зрителя до самого предела, заставляя его идентифицировать себя с бездной по ту сторону идентификации. Другими словами, ключ, позволяющий нам проникнуть в тайну фильма, следует искать в разрыве, в смене модальности, отделяющей первую треть фильма от двух последних третей (в соответствии с теорией «золотого сечения», согласно которой отношение меньшей части к большей совпадает с отношением большей части к целому). На протяжении первой трети фильма мы отождествляем себя с Мэрион, воспринимаем события с ее точки зрения, и именно поэтому ее убийство обескураживает нас, выбивая у нас почву из-под ног, – до самого конца фильма мы ищем новой опоры, склоняясь к точке зрения детектива Арбогаста, Сэма и Лайлы… Но все эти вторичные идентификации являются «пустыми» или, точнее говоря, дополнительными: в них мы отождествляем себя не с субъектами, но с безжизненной и вялой машиной расследования, на которую мы полагаемся в стремлении раскрыть тайну Нормана, «героя», который заменяет Мэрион в центральный момент фильма и господствует в его последней части: в известном смысле Норман есть не кто иной, как ее зеркальное отражение (что выражается в самом зеркальном соотношении их имен: Мэрион (Марион) – Норман). Словом, после убийства Мэрион становится невозможной идентификация с личностью, господствующей в диегетическом пространстве[76]. Откуда возникает эта невозможность идентификации? Иными словами, в чем состоит смена модальности, вызванная переходом от Мэрион к Норману? Совершенно очевидно, что мир Мэрион – это мир современной американской повседневной жизни, тогда как мир Нормана – его ночная изнанка:
Автомобиль, мотель, полицейский, дорога, офис, деньги, детектив и т. д. – вот знаки настоящего, реальной позитивности и самоотречения; вилла (= замок с призраками), чучела животных, мумия, лестницы, нож, фальшивая одежда – таковы знаки из арсенала ужасающих образов запретного прошлого. И только диалог между этими двумя знаковыми системами, их взаимоотношения, вызванные не аналогиями, но противоречиями, создают визуальное напряжение этого триллера[77].
Поэтому мы далеки от обычного хичкоковского выворачивания наизнанку идиллической повседневной жизни: подорванной и буквально вывернутой наизнанку «поверхностью» в «Психо» оказывается не идиллический образ, какой мы встречаем в самом начале «Окна во двор» или «Неприятностей с Гарри», но мрачное и серое «свинцовое время», полное «банальных» забот и тревог. Это американское отчуждение (финансовая нестабильность, страх перед полицией, отчаянная погоня за своей крупицей счастья – словом, истерия повседневной капиталистической жизни) противопоставляется его психотической изнанке: кошмарному миру патологических преступлений.
Отношения между двумя этими мирами ускользают от простой оппозиции между поверхностью и глубиной, между реальностью и фантазией и т. д. – единственная подходящая здесь топология – топология двух поверхностей ленты Мебиуса: если мы продвинемся по одной ее поверхности достаточно далеко, то внезапно окажемся с ее изнанки. Этот момент перехода от одной стороны поверхности к ее изнанке, из регистра истерического желания в регистр психотического влечения можно обозначить с большой точностью: постепенный переход после убийства Мэрион от крупного плана водостока, куда стекают вода и кровь, к крупному плану ее мертвого глаза. Здесь спираль сначала входит в водосток, а затем выходит из глаза[78], как будто проходя через нулевую точку затмения времени или, говоря словами Гегеля, «ночи мира», – в терминах научной фантастики можно сказать, что мы «проходим сквозь врата времени» и входим в другую временную модальность. Суть здесь открывается благодаря сравнению с «Головокружением»: в «Психо» мы попадаем как раз в ту бездну, которая притягивает Скотти из «Головокружения», но Скотти все-таки может ей противостоять.
В результате двум поверхностям этой ленты Мебиуса нетрудно дать лакановские названия, предложив элементарную формулу, регулирующую вселенную Мэрион и Нормана:

Мэрион находится под знаком Отца – то есть символического желания, образованного Именем Отца; Норман же оказался в ловушке желания матери, еще не подпавшего под действие отцовского Закона (это желание как таковое – еще не желание stricto sensu, но скорее досимволическое влечение): истерическая женская позиция обращается к Имени Отца, тогда как психотик склоняется к желанию матери. Короче говоря, в переходе от Мэрион к Норману запечатлена «регрессия» от регистра желания к регистру влечения. В чем же состоит противоположность между ними?
Желание – это метонимическое скольжение, вызванное нехваткой и стремящееся ухватить ускользающую приманку: оно всегда – по определению – остается «неудовлетворенным», подверженным всевозможным интерпретациям, так как в конечном итоге оно совпадает с собственной интерпретацией. Желание – это не что иное, как движение интерпретации, переход от одного означающего к другому, бесконечное производство новых означающих, которые ретроактивно наполняют смыслом предшествующую цепь. В противоположность таким поискам утраченного объекта, который всегда остается «где-нибудь еще», влечение в каком-то смысле всегда/уже удовлетворено: содержащееся в собственном замкнутом кругу, оно – по выражению Лакана – «окружает» свой объект и находит удовлетворение в собственном пульсировании, в постоянной неспособности добиться объекта. Именно в этом смысле влечение – в отличие от символического желания – относится к сфере Реального-Невозможного, определяемого Лаканом как то, что «всегда возвращается на свое место». И именно по этой причине идентификация с ним невозможна: с другим можно идентифицироваться лишь в качестве желающего субъекта; такая идентификация даже лежит в основе желания, которое, согласно Лакану, по определению является «желанием Другого», то есть интерсубъективным и опосредованным другим, в отличие от «аутического» влечения, замкнутого на самое себя.
Стало быть, Норман ускользает от идентификации постольку, поскольку он остается пленником психотического влечения, поскольку ему отказано в доступе к желанию: чего ему недостает, так это осуществления «изначальной метафоры», посредством которой символический Другой (структурный Закон, воплощенный в Имени Отца) замещает jouissance – замкнутый круг влечения. Основная задача закона состоит в ограничении желания – не собственного желания субъекта, но желания его Материнского Другого. Поэтому Норман Бейтс – это своего рода анти-Эдип avant la lettre, уже являет собой то, что потом будет названо анти-Эдипом: его желание отчуждено в материнском Другом, подчинено произволу жестоких капризов этого Другого.
Противоположностью между желанием и влечением определяется контрастная символическая экономия в двух выдающихся сценах убийства из «Психо»: в убийстве Мэрион под душем и в убийстве детектива Арбогаста на лестнице. Сцена убийства в душе всегда была pièce de résistance, лакомым куском, для интерпретаторов, и ее притягательная сила отвлекала внимание от второго убийства, поистине травматического момента фильма, – хрестоматийный пример того, что Фрейд называл «смещением». Насильственная смерть Мэрион оказывается полной неожиданностью, шоком, не имеющим ни малейшего основания в повествовательной линии и резко обрывающим ее «нормальное» развертывание; она снята очень «кинематографично», и ее воздействие объясняется монтажом: не видно ни убийцы, ни всего тела Мэрион; сам акт убийства «расчленен» на множество обрывочных крупных планов, следующих друг за другом в бешеном ритме (поднимающаяся темная рука; лезвие ножа рядом с животом; крик открытого рта…), – как если бы многочисленные удары ножа испортили саму катушку с фильмом и вызвали разрыв непрерывного кинематографического взгляда (или, скорее, наоборот, как если бы убийственная тень в диегетическом пространстве дублировала способность к самомонтажу…).
Как же тогда преодолеть это потрясение от вторжения Реального? Хичкок нашел решение: ему удалось усилить эффект, представив второе убийство как нечто ожидаемое, – ритм этой сцены спокоен и непрерывен, преобладают общие планы, все, что предшествует акту убийства, как будто возвещает о нем: когда Арбогаст входит в «дом матери», останавливается у нижней ступени пустой лестницы – основополагающий хичкоковский лейтмотив – и бросает пытливый взгляд вверх, мы сразу же узнаем, что «в воздухе что-то нависло»; когда же через несколько секунд – пока Арбогаст поднимается по лестнице – мы видим крупным планом щель в двери второго этажа, то наше предчувствие только подтверждается. Затем следует знаменитый план, снятый с верхней точки, позволяющий нам увидеть – если можно так выразиться, геометрический – нижний план всей сцены, словно для того, чтобы подготовить нас к тому, что произойдет в конечном итоге, – к появлению фигуры «матери», которая заколет Арбогаста… Урок этой сцены убийства заключается в том, что мы переживаем сильнейшее потрясение, когда оказываемся свидетелями точного осуществления того, чего с нетерпением ожидали, словно в этот момент tyche и automaton парадоксальным образом совпали между собой: самое ужасное вторжение tyche, полностью нарушающее символическую структуру – бесперебойную работу automaton, – происходит тогда, когда структурная необходимость просто осуществляется со слепым автоматизмом.
Этот парадокс напоминает один знаменитый софизм, который доказывает невозможность чего-то неожиданного: ученики некоего класса знают, что через несколько дней им придется писать контрольную работу, – как же учитель сможет застать их врасплох? Ученики рассуждают так: пятница, последний день, исключается, так как в четверг вечером каждый будет знать, что контрольная состоится на следующий день, так что неожиданности не будет; четверг также исключается, так как в среду вечером каждый будет знать, что, поскольку пятница уже исключена, единственным возможным днем окажется четверг, и т. д. И вот: Лакан называет Реальным как раз тот факт, что – вопреки неопровержимой точности этого рассуждения – любой день, кроме пятницы, все-таки окажется неожиданностью.
Таким образом, вопреки своей внешней простоте убийство Арбогаста основывается на утонченной диалектике ожидаемого и неожиданного – словом, (зрительского) желания: единственным способом объяснить эту парадоксальную экономию, где величайшее удивление вызывается именно исполнением наших ожиданий, будет согласиться с гипотезой о субъекте, расщепленном желанием, – о субъекте, чье ожидание нагружено желанием. Мы имеем здесь, разумеется, логику такой фетишистской расщепленности: «Я прекрасно знаю, что событие X будет иметь место (что Арбогаст будет убит), и все-таки до конца в это не верю (поэтому, несмотря ни на что, я удивлен, когда убийство действительно происходит)». Где же здесь на самом деле находится желание – в знании или в вере?
В противоположность очевидному ответу (в вере – «Я знаю, что X будет иметь место, но отказываюсь верить, так как это идет наперекор моему желанию…»), ответ Лакана здесь совершенно недвусмыслен: в желании. Устрашающая реальность, в которую мы отказываемся «поверить» и которую отказываемся принять, интегрировать в свою символическую вселенную, есть не что иное, как Реальное чьего-либо желания, а подсознательная вера (в то, что X на самом деле случиться не может) является в конечном счете защитой от Реального желания: в качестве зрителей «Психо» мы желаем смерти Арбогаста, и функция нашей веры в то, что на Арбогаста не нападет фигура «матери», заключается как раз в том, чтобы помочь нам избежать конфронтации с Реальным нашего желания[79]. А то, что Фрейд называет «влечением» – в противоположность желанию, природа которого по определению расщеплена, – возможно, как раз и есть другое название для абсолютной «замкнутости», когда то, что происходит на самом деле, в точности соответствует тому, что произойдет в соответствии с нашим точным знанием…
В фильме «Психо» следует обратить внимание именно на то, что оппозиция между желанием и влечением – далеко не просто абстрактная пара понятий: в нее вложено определяющее историческое противоречие, на которое указывает разная обстановка двух убийств, соотносящаяся с тем, как Норман разрывается между двумя местами действия. То есть места действия двух убийств никоим образом не являются архитектурно нейтральными: первое происходит в мотеле, воплощающем безликую американскую современность, тогда как второе – в готическом доме, воплощающем американскую традицию, – не случайно оба эти мотива преследовали воображение Эдварда Хоппера, са́мого американского живописца, в картинах «Мотель на Западе» и «Дом у железной дороги», например (согласно исследованию Ребелло «Альфред Хичкок и съемки “Психо”», «Дом у железной дороги» фактически послужил прототипом для «дома матери»).
Эта оппозиция (визуальным соответствием которой служит контраст между горизонталью – очертаниями мотеля – и вертикалью – очертаниями дома) не только вводит в «Психо» неожиданное историческое противоречие между традицией и современностью; одновременно она помогает нам разместить в пространстве фигуру Нормана Бейтса, его пресловутую психотическую расщепленность, сочтя его своего рода невозможным «посредником» между традицией и современностью, обреченным до бесконечности циркулировать между двумя местами действия. Тем самым расщепленность Нормана воплощает неспособность американской идеологии поместить опыт настоящего, реального общества в контекст исторической традиции, осуществить символическое посредничество между двумя уровнями. Именно из-за этой расщепленности «Психо» по-прежнему остается «модернистским» фильмом, ведь в постмодернизме утрачено диалектическое напряжение между историей и настоящим (в постмодернистском фильме «Психо» сам мотель был бы перестроен в подражание старинным усадьбам).
Следовательно, саму дихотомию желания и влечения можно понимать как либидинальное соответствие дихотомии современного и традиционного обществ: матрицей традиционного общества служит «влечение», круговращение Того-же-самого, тогда как в современном обществе оно заменяется линейным поступательным движением. Воплощение метонимического объекта-причины желания, который способствует этому бесконечному прогрессу, – не что иное, как деньги (следует вспомнить, что именно деньги – сорок тысяч долларов – прерывают повседневное вращение Мэрион и побуждают ее к роковой поездке).
Таким образом, «Психо» является своего рода гибридом двух разнородных частей: нетрудно вообразить две «закругленные» самодовлеющие истории, склеенные в «Психо» для того, чтобы образовать какое-то чудовищное целое. Первая часть (история Мэрион) могла бы вполне функционировать сама по себе: легко провести мысленный эксперимент и представить ее в качестве получасовой теленовеллы, своего рода нравоучительной пьесы, в которой героиня поддается искушению и вступает на путь проклятия только для того, чтобы исцелиться при встрече с Норманом, который показывает ей бездну, ожидающую ее в конце пути, – в нем она видит зеркальное отражение своего собственного будущего; опомнившись, она решает вернуться к нормальной жизни[80]. Поэтому с ее точки зрения разговор с Норманом в комнате, наполненной чучелами птиц, представляет собой образцовый случай успешной коммуникации в лакановском смысле термина: партнер возвращает ей ее же послание (правду о подстерегающей ее катастрофе) в перевернутой форме. Поэтому когда Мэрион принимает душ, ее история – в том, что касается повествовательной замкнутости, – строго говоря, заканчивается: душ явно играет роль метафоры очищения, поскольку она уже приняла решение вернуться и отдать долг обществу, то есть вновь занять свое место в сообществе. Ее убийство не оказывается совершенно неожиданным потрясением, врезающимся в сердцевину развития повествования: оно происходит во время интервала, в промежуточное время, когда решение, хотя уже и принятое, еще не осуществлено, не вписано в публичное интерсубъективное пространство, – во время, когда на традиционную линию повествования можно уже просто не обращать внимания (многие фильмы фактически заканчиваются моментом «внутреннего» принятия решения).
Идеологическая предпосылка здесь, разумеется, состоит в предустановленной гармонии между Внутренним и Внешним: раз уж субъект действительно «берется за ум», то осуществление его внутреннего решения в социальной действительности следует автоматически. Поэтому выбор времени для убийства Мэрион основывается на тщательно подобранной критико-идеологической шутке: он напоминает нам, что мы живем в мире, где «внутреннее решение» от его социального осуществления отделяется непреодолимой бездной, то есть где – в противоположность господствующей американской идеологии – определенно невозможно ничего совершить, даже если мы всерьез приняли решение что-то сделать[81].
Вторую часть фильма, историю Нормана, также легко представить в виде замкнутого целого, вполне традиционного раскрытия тайны патологического серийного убийцы – весь подрывной эффект «Психо» держится на соединении двух разнородных, несовместимых частей[82]. В этом отношении структура «Психо» издевательски переиначивает миф Аристофана из платоновского «Пира» (расщепление изначальной андрогинной сущности на мужскую и женскую половины): если каждую из двух составных частей взять саму по себе, то они совершенно непротиворечивы и гармоничны – именно слияние в более крупное Целое искажает их. В отличие от внезапного окончания истории Мэрион, вторая часть как будто бы прекрасно согласуется с правилами «повествовательной замкнутости»: в конце все объяснено, поставлено на подобающее ему место… И все-таки при пристальном рассмотрении развязка оказывается куда более двусмысленной.
Как отметил Мишель Шион[83], «Психо» в конечном счете является историей голоса («голоса матери») в поисках собственного носителя, тела, с которым он мог бы слиться; статус этого Голоса Шион называет акусматическим – это голос без носителя, без места, которое можно было бы ему приписать, парящий в некоем промежуточном пространстве и настолько всепроникающий, что его можно назвать образом абсолютной Угрозы. Фильм заканчивается моментом «воплощения», когда мы наконец-то видим тело, в котором зарождается Голос, – но как раз в этот момент все перепутывается; в рамках же традиционного повествования момент «воплощения» демистифицирует устрашающий призрачный Голос, его околдовывающая сила рассеивается благодаря тому, что мы, зрители, можем идентифицировать его с его носителем. (Переворачивание, в результате которого непостижимый Фантом обретает форму и тело – то есть сводится к общим измерениям, – далеко не ограничивается фильмами ужасов: к примеру, в «Волшебнике из страны Оз» голос Волшебника «воплощается», когда собачка, идущая на запах за занавес, обнаруживает беззащитного старика, который обретает внешность Волшебника при помощи сложной системы механизмов[84].)
Итак, если в «Психо» Голос и «воплощается», то следствием этого становится прямая противоположность той социальной сети, которая сделала бы возможной нашу, зрительскую, идентификацию: именно теперь мы сталкиваемся с «абсолютной Другостью», не допускающей никакой идентификации. Голос связывается не с тем телом, и в результате мы видим настоящего зомби, подлинное создание Сверх-Я, нечто само по себе совершенно бессильное (Норман-Мать «даже мухи не обидит»), но по этой самой причине тем более жуткое.
Определяющая черта функционирования аллегорий в «Психо» состоит в том, что именно в тот момент, когда Голос находит свое тело, Норман – в предпоследнем кадре фильма, за которым сразу следуют титры «Конец», – поднимает взгляд и смотрит прямо в камеру (то есть на нас, зрителей) с издевательским выражением на лице, обнаруживающим, что ему известно о нашей сопричастности: тем самым свершается вышеупомянутое переворачивание от I к а, от нейтрального взгляда «Я-Идеала» к объекту. Мы ищем «тайны за занавесом» (кому принадлежит тень, сдергивающая занавес и убивающая Мэрион?), а в конце получаем ответ в духе Гегеля: мы всегда/уже сопричастны абсолютной Другости, отвечающей взглядом на взгляд.
Жуткий взгляд в камеру возвращает нас к «янсенизму» Хичкока: он свидетельствует о «триумфе взгляда над глазом», как говорит Лакан в «Семинаре XI»[85]. Этот «триумф» можно представить посредством формальной процедуры, к которой Хичкок прибегает в связи с неким травматическим объектом: как правило, он вводит его как сущность, зависящую от взгляда. Во-первых, он показывает застывший взгляд, «выбитый из колеи» и притягиваемый пока еще не идентифицированным X; лишь затем Хичкок переходит к его причине, как будто ее травматический характер исходит из самого взгляда, из загрязненности объекта взглядом.
Например, как в фильме «Подозрение» изображены первые объятья Кэри Гранта и Джоан Фонтейн? Две подруги Джоан разговаривают у церковной паперти, атмосфера идиллична и спокойна, совершенный штиль, когда внезапно взгляд одной из девушек «застывает», будучи прикованным тем, что она видит, только затем камера переходит к «первосцене», зачаровавшей взор девушки: Грант силой пытается обнять Фонтейн на холме неподалеку от церкви, они борются, почти дерутся, затем следует первый насильственный поцелуй, сопровождаемый сильным ветром, который начинает дуть ниоткуда, вопреки всем правилам «реализма»… Чуть менее драматичный вариант того же приема встречается в «Не том человеке»: адвокат разъясняет Балестреро и его жене тупиковый характер его положения; внезапно взгляд адвоката цепенеет, как будто чем-то потрясенный, а затем камера показывает объект, вызвавший это замешательство, – жену Балестреро, которая с отсутствующим взглядом уставилась вперед и утрачивает контакт со своим окружением… В самом «Психо» мы сталкиваемся с тем же приемом в вышеупомянутой сцене с Кессиди – двойником Хичкока в диегетическом пространстве, – хвастливо демонстрирующим сорок тысяч долларов наличными: камера показывает сослуживицу Мэрион (сыгранную Патрицией Хичкок), которая, не успев закончить фразу, глядит на что-то разинув рот, словно она увидела нечто непристойное; за этим следует кадр с Кессиди, выставляющим напоказ пачку банкнот…
Оцепенелый взгляд изолирует пятно Реального, деталь, выходящую за рамки символической реальности, – словом, травматическую прибавку Реального к Символическому, и все же основополагающая черта таких сцен заключается в том, что у этой детали как таковой нет субстанции: она, так сказать, «субстантивирована», создана, сотворена самим окаменелым взглядом. Поэтому objet petit a описываемой сцены – это сам взгляд, взгляд, который в течение краткого мига навязывается зрителю: в случае с «Подозрением», например, это точка зрения, позволяющая нам видеть любовную схватку на обдуваемом ветром холме, где «нормальный» взгляд не видит ничего, кроме умиротворенной сельской местности[86]. Этот прием полностью противоположен отправной точке фильма «К северу через северо-запад», где означающее, «Джордж Каплан», пустое символическое место (имя несуществующего человека), функционирует как избыток Символического по отношению к реальности.
Основная особенность символического порядка в его отношении к «реальности» состоит в том, что у этого порядка всегда есть избыточное означающее, означающее, каковое является «пустым» в том смысле, что в реальности нет ничего ему соответствующего, – этот парадокс был впервые проговорен Леви Строссом, который в «Структурной антропологии» заметил, что разделение племени на роды всегда порождает избыточное название рода, не существующего в реальности. Функция Господина в лакановском смысле термина тесно связана с этим парадоксом: господствующее означающее (S1) по определению является «пустым», и «Господин» есть тот, кто в силу чистой случайности занимает это пустое место. В сущности, по этой причине Господин всегда самозванец: основополагающая иллюзия Господина состоит в том, что он является Господином вследствие присущей ему харизмы, а не благодаря случайному занятию определенного места в структуре.
Две модальности «выдающегося» избыточного элемента – S1 или а – можно в дальнейшем определить при помощи еще одного излюбленного формального приема Хичкока: диалектики кадра и закадрового пространства, способа, каким инородное тело входит в кадр. Вспомним убийство под душем в «Психо» или любое из нападений птиц в «Птицах»: орудие агрессии (рука с ножом, птицы) не воспринимается просто как часть диегетической реальности; скорее, оно воспринимается как своего рода пятно, которое извне – точнее говоря, из пространства, промежуточного между диегетической реальностью и нашей «подлинной» реальностью, – нападает на диегетическую реальность (в «Птицах» это подтверждается буквально, так как птицы часто включались в кадры «задним числом» или даже попросту рисовались, как в мультфильмах). Здесь показателен знаменитый план, снятый «с точки зрения Бога», изображающий Бодега-Бей, где птицы внезапно попадают в кадр, вылетая из-за камеры: его воздействие основано на имплицитном допущении, что перед тем, как попасть в кадр, птицы не были частью диегетической реальности, но вошли в нее из внешнего по отношению к ней пространства[87]. Здесь Хичкок вызывает ощущение угрозы, которое действует, когда утрачивается дистанция, отделяющая зрителя – его безопасное положение «чистого» взгляда – от диегетической реальности: пятна стирают границу между внешним и внутренним, которая дает нам ощущение безопасности.
Вспомним наше положение, когда, находясь в автомобиле или в доме, мы наблюдаем за бурей на улице: хотя мы совсем близко к «реальной вещи», оконное стекло служит экраном, предохраняющим нас от непосредственного соприкосновения. Очарование путешествия на поезде заключается именно в такой дереализации мира за экраном: все выглядит так, словно мы застыли на месте, а мир за окном проносится мимо… Вторжение пятна нарушает эту безопасную дистанцию: в поле зрения врывается элемент, не принадлежащий к диегетической реальности, и нас заставляют согласиться с тем, что пульсирующее пятно, нарушающее ясность нашего видения, представляет собой часть нашего глаза, а не реальность, на которую мы смотрим. Итак, неудивительно, что в фильме «Леди исчезает», действие которого происходит по большей части в поезде, история «вращается» вокруг такого появления пятна на оконном стекле; но возникающее здесь «пятно» – означающее, а не объект. Разумеется, мы имеем в виду здесь сцену в вагоне-ресторане, когда посреди разговора два решающих доказательства существования мисс Фрой (сначала ее имя, написанное на пыльном стекле, затем чайный пакетик той марки, которую предпочитала мисс Фрой) появляются на самом «экране» (на оконном стекле вагона-ресторана, сквозь которое герой и героиня обозревают пейзажи) только для того, чтобы тотчас же быть стертыми.
Это призрачное появление означающего на экране следует логике симптома как возврата вытесненного, как бы переиначивая лакановскую формулу психоза: «что отвержено из Символического, возвращается в Реальном» – в случае симптома то, что исключается из реальности, появляется вновь в виде означающего следа (как элемент символического порядка: имя, марка чая) на самом экране, сквозь который мы наблюдаем за реальностью. Иными словами, имя «Фрой» и пустой чайный мешочек на оконном стекле иллюстрируют то, что Лакан, интерпретируя Фрейда, описывает как Vorstellungs-Repräsentanz: означающее, которое действует в качестве представителя – следа исключенного («вытесненного») представления, в данном случае представления мисс Фрой, исключенной из диегетической реальности.
Вторжение пятна в сценах из «Птиц» и «Психо», напротив, имеет психотический характер: несимволизированное возвращается здесь под видом травматического объекта-пятна. Vorstellungs-Repräsentanz – означающее, которое заполняет пустоту исключенного представления, тогда как психотическое пятно является представлением, заполняющим «дыру» в Символическом, воплощая «неописуемое», – инертное присутствие такого пятна свидетельствует о том, что мы попали в сферу, где «не хватает слов». Избыточное означающее «истеризирует» субъект, а воздействие ничего не означающего пятна является психотическим – тем самым мы вновь приходим к оппозиции «истерия – психоз», к элементарной оси вселенной «Психо».
Асимметрия этих двух возвращений (возвращение пятна Реального, где не хватает слов; возвращение означающего, чтобы заполнить пустоту, зияющую посреди репрезентативной реальности) зависит от расщепления между реальностью и Реальным. «Реальность» – это поле символически структурированных представлений, результат символического «облагораживания» Реального; и все-таки избыток Реального всегда избегает символического схватывания и продолжает существовать в качестве несимволизированного пятна, дыры в реальности, которая обозначает окончательный предел, где «нет слов». Именно на этом фоне Vorstellungs-Repräsentanz следует понимать как попытку вписать в символический порядок избыток, не попадающий в поле представления[88]. Успех того, что мы называем «сублимацией», зависит от рефлексивного переворачивания «нехватки означающего» на «означающее нехватки» – то есть на ту изначальную метафору, посредством которой пятно – грубое наслаждение, для которого не существует означающего, – заменяется на пустое означающее, на означающее, не обозначающее никакой реальности, – то есть на заместитель представления, конститутивным образом исключаемый из реальности; чтобы «реальность» могла сохранить свою непротиворечивость, оно должно выпасть:
Vorstellungs-Repräsentanz
___________________________
пятно
Образцовым случаем такого замещения является, конечно же, переход от языческой религии к иудаизму. Языческие боги, как говорит Лакан, все еще «принадлежат к Реальному»: это гигантские пятна наслаждения, их сфера – сфера Неназываемого, и потому единственный санкционированный доступ к ним – это экстаз священных оргий. В иудаизме же, напротив, сфера «божественного» очищена от наслаждения: Бог превращается в чистый символ, в Имя, которое должно оставаться пустым, и ни одному реальному субъекту не позволено его заполнить – своего рода теологический «Джордж Каплан», окруженный запретами, не дающими никакому Торнхиллу занять его место. Иначе говоря, эта замена божественной Вещи божественным Именем влечет за собой своего рода саморефлексию запрета: Божественное как сфера сакральной Вещи-Наслаждения было неназываемым, запрет объяснялся опасностью его загрязнения именем; а вот в иудаистском переворачивании запрет переходит на само Имя – запрещено не называть Неназываемое, а наполнять Имя позитивным содержанием[89]. А гигантские статуи в фильмах Хичкока (статуя Свободы, четыре президента, высеченные на горе Рашмор, и т. д.), эти памятники окаменелому Наслаждению, разве они не указывают на то, что сегодня замена Вещи Именем утрачивает свою остроту, – на то, что «Боги» возвращаются к Реальному?[90]
Самая большая мечта Хичкока заключалась, конечно, в возможности манипулировать зрителем напрямую, в обход Vorstellungs-Repräsentanz (промежуточного уровня представления и его рефлексивного удвоения в представителе). Эрнест Леман, написавший сценарий фильма «К северу через северо-запад», вспоминает следующие замечания Хичкока, относящиеся ко времени их совместной работы над этим фильмом:
Эрни, ты понимаешь, что мы делаем в этой картине? Аудитория похожа на гигантский орган, на котором мы с тобой играем. В один из моментов мы играем на нем такую-то ноту и получаем такую-то реакцию, а затем мы играем другую ноту и они реагируют другим образом. А когда-нибудь у нас даже не будет необходимости делать кино – электроды будут вмонтированы к ним в мозг, и мы будем просто нажимать разные кнопки, а они – восклицать «ох!» и «ах!», и мы будем пугать и смешить их. Разве не чудесно?[91]
Здесь нужно не упустить из виду истинную природу элемента, исключавшегося фантазией Хичкока: «опосредующий» элемент, который стал бы излишним, если бы фантазия непосредственного влияния на зрителя была реализована, есть не что иное, как означающее, символический порядок. Мечта о влечении, которое могло бы функционировать, не имея собственного представителя в психическом аппарате, служит олицетворением того, что возникает соблазн назвать психотическим ядром хичкоковской вселенной – ядром, строго гомологичным фрейдовской мечте о том, что настанет время, когда символические процедуры психоанализа будут заменены чистой биологией. Но пока мы остаемся в рамках символического порядка, отношение Хичкока к зрителю по необходимости основывается на аллегории: символический порядок (в случае с фильмом – порядок диегетической реальности) всегда содержит своеобразную «пуповину», парадоксальный элемент, который связывает его с исключенным уровнем взаимодействия между режиссером и публикой. Иными словами, нельзя не согласиться с тем, что Хичкок в конечном счете ставит своей целью так называемое «эмоциональное манипулирование публикой», но все-таки это аллегорическое измерение может быть действенным лишь постольку, поскольку оно вписывается в саму диегетическую реальность благодаря элементу, присутствие которого «искривляет» повествовательное пространство.