Глава 2. Многое в жизни приходится делать добровольно
Это спасло человечество от вымирания из-за лени.
Уодних от рождения головы светлые, у других голоса соловьиные, у третьих руки золотые, а у меня только задница с приключениями. Впрочем, ж… без приключений – всего лишь толстые ягодицы, что, согласитесь, еще обидней…
Вот кто тянул меня вмешиваться?!
– Куда это он?
От такого простого вопроса Суетилов почему-то вздрогнул, словно они с Тютелькиным совершали нечто недозволенное.
– Забыл кое-что в Тарасюках. Догонит. – Директор попытался отмахнуться, но не тут-то было, терпеть не могу, когда мне врут!
– Кое-что или кое-кого?
Пароход дал гудок, что позволило Суетилову сделать вид, будто он не расслышал уточнения. Однако я не собиралась сдаваться:
– Это Любовь Петровну вы потеряли?
Директор нехотя согласился.
– Все обыскали – нет ее на пароходе. Только умоляю, Руфина Григорьевна, молчите. Привезет Тютелькин нашу звезду, прямо в Гадюкино привезет.
Значит, мои подозрения справедливы, Любовь Петровна капризничает. Едва ли Тютелькину удастся быстро уговорить звезду не дуться, даже если пообещает отдать ей заглавную роль юной Клеопатры в новой пьесе. Я с сомнением покачала головой:
– Не успеет. Как там наш Борис Михайлович?
Обсудить здоровье первой скрипки нам не удалось. Попутный ветер хорош для парусников, для пассажиров верхней палубы парохода – это сущее наказание. Дым из трубы первым же порывом развернуло вдоль правого борта, заставив задержать дыхание. Но минуту спустя «Володарский» начал набирать ход, и дым больше не беспокоил.
Зато… этого не могло быть, но это было! Из каюты молодоженов доносился голос Павлиновой – Прима пела: «Ну почему изо всех одного можем мы в жизни любить? Сердце в груди…» Мы наперегонки бросились к каюте. Суетилов оказался проворней.
Рывком распахивая дверь, он вопил:
– Дорогая вы моя! Как вы нас напугали!
Впрочем, последнее «ли» директор произнес уже не столь уверенно.
Дело в том, что Примы в каюте не было, а была ее костюмерша Лиза, которая раскладывала театральные наряды Павлиновой на кровати, чтобы Любовь Петровна могла отобрать то, в чем будет выступать.
– А где Любовь Петровна?
– Не знаю, – удивилась радости директора Лиза. – Я зашла – ее нет, и постель не тронута.
Суетилов сделал мне знак, чтобы плотней закрыла дверь, и строго поинтересовался у Лизы:
– А кто пел?
Девушка пожала плечами:
– Я. Я знаю, что Любовь Петровна не любит, если я пою, но ее же нет. Это не мое дело, но она тут не ночевала. Мне так кажется.
В другое время Суетилов едко заметил бы, что это и впрямь не ее дело. Всем известна его нелюбовь к нарушению дистанции между первым и вторым классами – между элитой и остальными. Хуже только фамильярность между верхней и нижней палубами (на нижней плыла и вовсе «всякая шелупонь», как директор именовал рабочих сцены и иже с ними).
Но сейчас было не до строгой субординации.
– Когда вы видели Павлинову в последний раз? И где?
Лиза снова пожала плечами:
– В Тарасюках. Я помогла ей переодеться после концерта и забрала концертные платья.
– А потом?
– А потом, когда Бориса Михайловича увезли в больницу, я вместе со всеми пошла на пароход.
Теперь Суетилов вместо радости почему-то рассвирепел, даже перешел на «ты»:
– Как могла ты, ее костюмерша, не заметить, что Любовь Петровна не успела со всеми на пароход?!
– Я костюмерша, а не прислуга! – возмутилась в ответ Лиза. – А не успеть невозможно, мы же отплыли почти на рассвете. Она просто капризничает.
Суетилов плюхнулся на кровать, подмяв под себя подол одного из нарядов, который Лиза поспешила вытащить.
Молодец Лиза! Даже маститые актеры вроде Гваделупова не рискуют огрызаться против Суетилова.
Девушка права, «Володарский» после возвращения труппы с концерта простоял еще часа три, а то и больше. Не желая слушать пререкания директора и костюмерши, я выскользнула обратно на палубу и остановилась, опершись на перила.
Пейзажи, видные с правого борта, куда привлекательней тех, что тянутся по левому. По левому все встречные суда, баржи или вовсе пусто, да дальний берег, который толком не разглядишь. Справа же берег недалеко, видны и дома, и причалы, и люди, занимающиеся своими делами. Это как наблюдать чужую жизнь за стеклом – все видно, но ничего не слышно, остается гадать, о чем спорят вон те двое у лодки или что внушает мать ревущему младенцу…
Но я не видела пейзажей, задумавшись над странным отсутствием Павлиновой. Лиза права, пароход отчалил с большущим опозданием и теперь наверстывал упущенное. Времени, чтобы добраться до пристани, у Любови Петровны было достаточно. Что-то слишком раскапризничалась наша звезда. Остановка парохода и срыв выступления в следующем городе даже Павлиновой может не сойти с рук.
Я невольно вздохнула: давно ли Любочка была такой простой и скромной? А вот поди ж ты – Прима! И пролетку ей подайте, и ручку предложите, чтобы взойти-выйти, и каюта вон какая, и гримерка непременно отдельная, рядом с другими переодеваться не станет. Быстро слава человека портит…
Вспомнив о каюте, я даже поежилась, хотя ветерок дул теплый и ласковый. Что-то в ней не так. Просторная, роскошно отделанная, иных Павлинова не признавала, а вот обычного портрета Вадима Сергеевича, ее мужа, не видно. Портрет – миниатюра, написанная маслом по заказу, – всегда стоял там, где жила Любовь Петровна. Неужели поссорились, как болтают вокруг?
Подошел и встал рядом Суетилов, вздохнул:
– Лиза права, Павлинова просто закапризничала и отстала. Сидит в Тарасюках, дуется и ждет, когда все сложат к ее ногам.
Он повторил мои мысли, оставалось усмехнуться:
– И ведь никуда не денетесь – сложите.
– Да, какой бенефис без бенефициантки? Хорошо-то как, а? – неожиданно сменив тему, Суетилов кивнул на берег.
Было и впрямь хорошо. Утреннюю прохладу уже сменил полуденный зной, но пока не успел нагреть правый борт слишком сильно. Ладони с удовольствием ощущали тепло поручней, пахло рекой и немного дымом из трубы.
– Скоро Гадюкино, часа через два там будем.
Честно говоря, я уже поняла заботу Суетилова, но беспечно отозвалась:
– Угу.
– Как нам быть без Павлиновой? – Он явно ждал от меня каких-то предложений, но я молчала. Да и что можно предложить? – Там встречу организовали, я знаю. Ждут. Может, сказать, что у нее зуб болит или воспаление среднего уха? Мол, увидите Павлинову на концерте вечером.
– Вы надеетесь, что Тютелькин успеет ее привезти?
– Да! – горячо согласился Суетилов. – Он знает, что нужно спешить.
И все-таки я поддалась и предложила то, чего он от меня ждал:
– Нужно показать им Лизу вместо Павлиновой. Они похожи, если не приглядываться. Пусть издали ручкой помашет.
Оставалось убедить саму Лизу. Но тут мы получили помощь, откуда не ждали.
– О чем тоскуем, господа? – бас Гваделупова прозвучал неожиданно, заставив вздрогнуть. Отнекиваться глупо, и мы признались, что Павлинова осталась в Тарасюках, Тютелькин отправился за ней, а Лизу нужно уговорить помахать ручкой с палубы, изображая Приму.
– Э, нет! Играть так по-настоящему! – Идея пришлась Гваделупову по душе, он даже руки потер, представляя, какой урок получит Любовь Петровна, обнаружив, что Лиза приняла все приветствия вместо нее.
– Но о Лизе вы подумали? Во-первых, она не согласится, во-вторых…
Гваделупов не дал мне договорить, возопив, что немедленно убедит девушку сыграть Павлинову и даст соответствующие наставления.
Глядя ему вслед, Суетилов поинтересовался:
– А во-вторых?
– Любовь Петровна ее поедом съест за такую игру.
Честно говоря, я не была столь уверена, что наша костюмерша даст себя в обиду. Они друг дружки стоили: случись любой – Любови Петровне или Лизе – упасть в бассейн с акулой, неизвестно, выживет ли акула.
Директор вздохнул, но с явным облегчением, из чего следовало, что его мало заботят отношения Павлиновой с ее костюмершей и куда больше – необходимость заткнуть образовавшуюся прореху.
Не знаю, что уж там говорил Гваделупов Лизе (когда нужно, он умел говорить тихо, голос рокотал из-за двери, но слов не разберешь), но склонил-таки ее к «игре в Павлинову». Взаимодействие с остальной труппой он тоже взял на себя, нам оставалось только ждать успеха или неприятностей.
Ждать пришлось недолго, капитан со своего мостика крикнул, кивая вперед:
– Гадюкино. Скоро будем.
Очередная «Нью-Москва» действительно показалась на горизонте по правому борту.
Пароход на подходе к пристани, как полагается, дал гудок, с пристани откликнулись, но не сиреной, а мощным исполнением почему-то марша «Прощание славянки». Обычно этим маршем провожают, но у местного духового оркестра было не так много мелодий в запасе, чтобы перебирать. Пока причаливали, марш исполнили еще дважды.
Мы с Суетиловым кивнули друг другу, радуясь решению заменить Павлинову Лизой. После такой встречи рассказывать сказки о зубной боли или воспалении среднего уха у Павлиновой было бы просто некрасиво.
Почему-то каждый город чуть больше деревни норовил переплюнуть столицу хоть в чем-то. Причем имперский Петербург перещеголять почему-то не пытались, а вот добродушную матушку-Москву – все и каждый. Возводились ненужные общественные здания, ставились огромные памятники неизвестно кому, переименовывались улицы и переулки, а то и сами города.
Гадюкинцы вознамерились перещеголять всех. Не имея возможности вознести к облакам небоскреб и не найдя боевых предков, коим стоило поставить гигантский конный памятник (а маленькие безлошадные гадюкинцев никак не устраивали), жители решили напомнить о себе проплывающим мимо пароходам агитационным методом.
По обе стороны от пристани на берегу были установлены огромные буквы: ГАДЮКИНО. Это бы ничего, но кому-то пришло в голову, что и приплывающие со стороны Тарасюков должны читать название по ходу движения, то есть справа налево. Потому второй ряд букв вверх по течению от пристани выглядел так: О Н И К Ю Д А Г. Загадочный ОНИКЮДАГ не раз приводил в смятение незнакомых с местным чудачеством пассажиров, а капитаны судов постепенно привыкли.
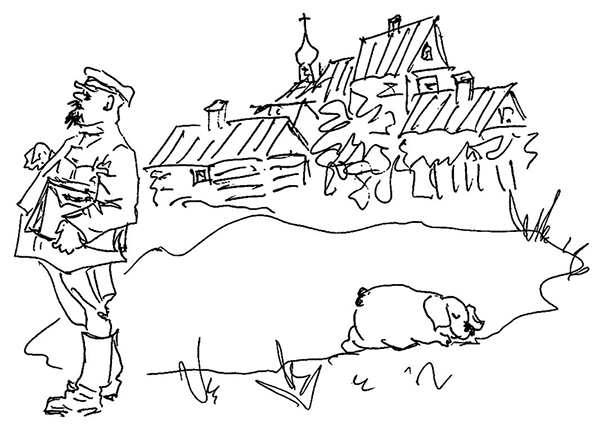
Гадюкино
К тому моменту, когда пароход пристал и опустили сходни, Лиза была готова. Ее опекал Гваделупов, то и дело перемигивающийся с актерами, которых он явно успел посвятить в аферу. Короля играет свита, а наша труппа старательно «играла Павлинову», то и дело слышалось: «посмотрите, Любовь Петровна», «позвольте вам предложить, Любовь Петровна», «как вы полагаете, Любовь Петровна?». Никогда с самой Павлиновой не были столь предупредительны и даже рабски угодливы. Первые минуты Лиза смущалась, но потом… Я даже головой покачала: а она прекрасная актриса, поскольку сыграла роль королевы блестяще. Настоящая Прима, ничего не скажешь!
Суетилов даже хохотнул (впервые за последние сутки):
– Ты смотри, какая фифа!
Сколько в провинции погибло светлых умов и талантов – нью-Кулибиных, Менделеевых, Репиных или Гоголей! Сколько вечных двигателей, новых химических элементов, гениальных картин и даже третьих томов «Мертвых душ» пропало втуне во дворах, на чердаках и подвалах домов в городишках, подобных Гадюкино, Революционерску (бывшему Поповкину) или Верхне-Профсоюзову (Еремеевке)!
Впрочем, может, и не пропали? Изобретатели, художники, поэты и иже с ними были счастливы, создавая свои шедевры, – а это главное.
В повседневной жизни творец будущего эпического полотна «Трудящиеся Гадюкино пишут телеграмму пролетариям всего мира» художник-самоучка Сурикович был вынужден рисовать вывески для лавок и парикмахерских, а также пользующиеся неизменным спросом пейзажи с лебедями на пруду. Несмотря на спрос, следует признать, что лебеди удавались товарищу Суриковичу хуже, чем изображение телеграммы на будущей картине. Их силуэты больше напоминали цифры «2» с оперением, но раскупались лучше некуда – по полтиннику за пару птиц. Однажды он, стремясь побольше выручить, переусердствовал и нарисовал целую стаю, но лебеди слились в одно белое пятно. Картину со стаей никто не купил, пришлось закрашивать. Сурикович сделал вывод, что искусство с наживой не совместимы, и с тех пор не гонялся за большими деньгами, а тех, что были, хватало на скромную жизнь и на краски для будущих шедевров.
Кому еще руководство Гадюкино могло поручить создание приветственного плаката в честь прибытия столичных знаменитостей?
Товарищ Сурикович подошел к делу с привычным для него размахом. Уездное начальство сначала искренне удивилось, выписывая художнику наряд на два ведра красок, каждого из пяти цветов (заборы Гадюкино остались некрашеными до следующего года), потом ужаснулось, узрев размеры создаваемого шедевра, а потом сообразило, что приветственное полотно как нельзя лучше закроет собой огромную лужу подле пристани. Лужа эта была неистребима, она не высыхала даже за лето при полном отсутствии дождей. Нэпман Хваталов пытался продавать грязь из нее, объявив лечебной. Но местным грязи хватало в собственных дворах, а в чужих странах о гадюкинской луже пока не ведали и делегации за гадюкинской грязью не присылали. Лечебная грязь доставалась местным свиньям и явно способствовала их оздоровлению.
На огромном приветственном полотне (кстати, написанном на обороте будущей картины про телеграмму пролетариям) имелось все: собственно приветствие, трудовые будни гадюкинцев, начальство собственной персоной и даже знаменитые лебеди в ярко-синем пруду. Фигура начальства вышла несколько кривоватой, местные жители слишком тучными, но за дорогих сердцу лебедей Суриковичу простили недочеты.
Гадюкинское начальство в окружении счастливо улыбавшихся жителей встречало нас подле картины.
Когда оркестр в очередной раз отыграл «Наш паровоз вперед лети» и замолк, глава местной администрации выступил вперед для приветственной речи. В это мгновение произошло что-то непонятное – вместо голоса тучного чиновника с портфелем под мышкой мы услышали хрюканье, истошный вопль «ой-ой-ой!» и… грохот падающей в лужу картины. Из-под рухнувшего эпического полотна с изображением Гадюкино поспешно выбрались две тощие грязные свиньи и метнулись прямо под ноги главе администрации. Тот взвизгнул неожиданно тонким голосом «Держи их!» и бросился выполнять собственное распоряжение. Толпа гадюкинцев, забыв о нас, последовала его примеру.
Следом за свиньями из-под рухнувшего эпического полотна вылез не менее грязный и тощий автор и принялся зло пинать опору. Оказалось, картина держалась не очень крепко, Суриковичу даже пришлось подпирать ее собственным плечом, а когда местные свиньи, принимавшие грязевые ванны, вдруг заинтересовались происходящим на дороге и подрыли столбик, сооружение рухнуло.
Давно мы так не смеялись.
Потом было все: и приветственные речи, и цветы, и подарки, в основном столь же нелепые, как изделие Суриковича…
Происшествие сыграло на руку нам, позволив Лизе изобразить Павлинову без особых стараний. Просьбе Альфреда Никодимовича перенести начало концерта на час позже гадюкинцы отказать не посмели. Мы вернулись на пароход и смогли перевести дух до самого выступления. Теперь оставалось ждать приезда Тютелькина с Павлиновой.
Чтобы не маяться ожиданием (хуже нет – ждать и догонять!), мы с Гваделуповым отправились обозревать местные достопримечательности. Таковых не было только с точки зрения придирчивых снобов. При желании в каждом уездном городе (и не только уездном или губернском, но и в самой столице) можно найти столько занятного, что лишь успевай примечать или записывать. Гваделупов предпочитал второе, при нем всегда имелся карандаш и старый блокнот.

Обожаю читать вывески и объявления. Иногда кажется, что те, кто их создавал, не дружат с умом. Первое же объявление на пристани, гласившее: «Посадка пассажиров на пароходы начинается за 30 минут до их прибытия», вызвало гомерический хохот Гваделупова, который повторялся еще не раз за время нашей прогулки. Объяснение матроса на пристани все расставило по местам: на причал провожающих не пускают, их предпочитают отсеивать заранее. Таким образом, за полчаса до очередного парохода начинается пропуск пассажиров через небольшую калитку-накопитель, который у местных так и называется – «посадка на пароходы». Обойти ограждение ничего не стоит, но гадюкинцы – люди ответственные, предпочитают стоять в очереди, которая, впрочем, не бывает длинней пяти-шести человек.
На главной улице (как водится, проспекте Коминтерна) в окне старого магазина висело пожелтевшее от возраста и посеревшее от пыли свадебное платье, а вывеска у входа сообщала: «Лучшие в городе свадебные платьи и фаты. Постоянным клиенткам – низкая цена». Меня впечатлили «платьи» и «фаты», а Гваделупова – низкая цена постоянных клиенток.
Вообще, тема бракосочетания явно была в Гадюкино актуальна, как и похоронная: магазинов и контор, предлагающих товары и услуги подобного рода, мы встретили еще немало.
«Шью свадебные фраки и похоронные костюмы на заказ. Срок вместе с примеркой – две недели».
Контора, называвшаяся «Торжество», на своей вывеске предлагала организовать свадьбу или похороны по выбору заказчика и сообщала, что оркестр уже входит в оплату.
Остолбенели мы у конторы с вывеской «Заказные убийства». Даже не сразу увидели, что ниже более мелким шрифтом старательно выведено: «Мыши, тараканы и прочее». Еще ниже кто-то от руки приписал: «Тещи, родственники, соседи…»
Объявление у конторы местной страховой компании убеждало: «Опасайтесь арфистов и мошенников». Нам понадобилось некоторое время, чтобы понять, что аферистов спутали с арфистами.
По поводу такого объявления: «ПВВ торгую днем и ночью» – пришлось обратиться к местному жителю за консультацией. Тот махнул рукой:
– Это баба Клава.
– Чем торгует-то?
Мужик нашей недогадливости удивился:
– Написано же: пиво, вино, водка.
Гваделупов, в восторге от местного творчества, был готов расцеловать любого горожанина, если бы те не жались опасливо к заборам при виде его мощной фигуры и при звуках громоподобного голоса.
– Я в Тарасюках плакат видел, откуда-то привезли и гордились им: «Переходя улицу, оглядись, чтобы не попасть под машину!»
– И что в этом такого?
– Где в Тарасюках машины?
Он прав, в Тарасюках не то что автомобиля – извозчика не увидишь, в лучшем случае лошадь с телегой, опасаться которых при переходе улицы, конечно, стоило, но не так уж сильно.
Вернулись на пароход в прекрасном настроении и очень Гадюкиным довольные. У самой пристани актер обратил мое внимание на вполне привычную глазу вывеску: «Живые раки». Что в ней удивительного? Большущий рак выполз вперед, а из-за букв выглядывали вполне натурально (лучше лебедей) изображенные красные чудовища с клещами.
– Что не так?
– Руфа, какого цвета живые раки?
Я задумалась.
– Вообще-то, темные.
– Бывают даже голубые, – согласился Гваделупов. – Но краснеют раки только при варке. Живых красных раков не бывает.
Он прав, на всех вывесках, этикетках или ценниках, где изображаются раки, они непременно красные и шевелящие клешнями. Но я все равно фыркнула:
– Не придирайтесь.

Через час, когда мы с Суетиловым снова стояли на палубе, созерцая гадюкинские пейзажи, радист парохода принес телеграмму и, передавая директору, чуть смущенно признался:
– Я… это… оно так и было передано.
Директор развернул сложенный листок, прочитал текст, кивнул:
– Все правильно.
Радист отправился к себе с застывшим на лице недоуменным выражением. Дело в том, что текст, присланный Суетилову от режиссера Тютелькина из Тарасюков, гласил: «Корзинка пуста. Продолжаю прополку».
– Не нашел, – вздохнул директор. – Может, разминулись?
– Едва ли, здесь не десять дорог и даже не две. Обиделась наша Любовь Петровна и где-то прячется.
– И что теперь делать?
Вопрос резонный. Выступление через три часа, даже если его еще задержать, положения это не спасет. Объявить, что Павлинова внезапно потеряла голос или подвернула ногу? Что у нее тоже приступ аппендицита или коклюш с ветрянкой заодно? Но вон она, больница, покрепче тарасюковской. Вмиг пришлют целую толпу врачей.
Выход был один, но такой, озвучивать который опасались мы оба.
Решилась все же я, как лицо безответственное, то есть не отвечающее ни за что:
– Пока Тютелькин найдет Павлинову, Лиза должна заменить ее во всем!
– Но это…
– У вас есть другой выход?
– Сможет ли?
Поразмышляв несколько мгновений, я кивнула:
– Она возле Павлиновой все время, тексты песен знает, поет хорошо. А отрывки из спектаклей… Нужно посмотреть, что можно сделать. Поговорите с Лизой, а я с Гваделуповым и остальными.
Так началась основная часть нашей аферы по замещению Павлиновой. Мы хотели как лучше. Во-первых, зрители ждали встречи с народной артисткой, во-вторых, почему бы Любовь Петровна ни отстала, пропуск выступления мог для нее плохо закончиться, обвинение в нарушении трудовой дисциплины и выговор – самое малое, что Павлиновой грозило. Конечно, уволить ее никто не решился бы, но неприятностей не оберешься.
Все понимали, что неприятности у Примы будут обязательно, но хотя бы срыва концерта удастся не допустить. Знать бы нам тогда, к чему все это приведет и что произошло в действительности!
Дворец культуры в Гадюкино имел право так именоваться, если его сравнивать с тарасюковским.
В Тарасюках культура размещалась в бывшем доме купца Поросятникова. Не купец был, а так, купчишка, потому и одноэтажный дом не лучше. Зрительный зал размещался в бывшей «бальной зале», которая больше напоминала конюшню с разрушенными стойлами. Сцена, сооруженная наспех с расчетом переделать позже, ждала переделки уже лет десять и скрипела при каждом шаге артистов, иногда заглушая голоса.
Гадюкино куда крупней, и Дворец культуры в нем помещался в «барском доме» с колоннами и пятью широкими ступенями ко входу. Когда-то слева и справа подле ступней сидели львы, больше похожие на разъевшихся котов, но в волнах революции и НЭПа один из львов утонул, а второй валялся в кустах по соседству без малейших шансов вернуться на свой пост. Гадюкинцы больше любили белых лебедей с картин Суриковича, чем жирных котов, которых и по домам пруд пруди.
Барским двухэтажный особнячок не был никогда, он тоже принадлежал местному купцу, но купец тот был зажиточным и все делал с размахом. Садков, как именовался владелец половины Гадюкино, утверждал, что его предок – сам Садко из «ентой спиктакли», мол, потому и хватка такая. Про кого попало в столицах песни со сцены распевать не станут.
Гадюкинцы с уважением относились к родословной Садкова, но еще больше к его богатству – купец и впрямь владел половиной городка, это он вложил средства в пристань, гонял по Волге множество пароходов и поставил огромные, ныне рухнувшие склады. Садков даже вознамерился переименовать Гадюкино в Садковск, но не успел – грянула советская власть. Не зря купец славился своей хваткой, он не стал бежать, как все, а спокойно распродал свое имущество, прихватив немалый куш и чужого, и только после этого исчез, оставив лишь постройки и смутные воспоминания о тороватости.
Когда местные любители чужого уверовали, что Садков исчез если не навсегда, то надолго, и решили, что его владения пора грабить, обнаружилось, что грабить нечего.
– Все ограблено до нас, – развел руками заводила.
Он ошибался: ограбления не было, Садков лично вывез из своих складов и из особнячка все ценное. Кое-что позже обнаружилось в домах зажиточных гадюкинцев, но те клялись, что купили шедевр у Нила Егорыча за два рублика с полтиной золотом (или иную сумму в зависимости от ценности вещи).
Все верно, для уезжавшего Садкова золотые монеты были важней гипсовых упитанных уродцев, изображавших мраморных купидонов, или картины «Взятие Бастилии», на которой сама Бастилия, почему-то со средневековыми башенками и развевающимися флажками, была далеко на заднем плане, а на переднем присутствовала знаменитая Свобода со знаменем в руке и обнаженной грудью. Местный дьячок, видя эту Свободу, неизменно плевался и крестился, а когда никого рядом не было, осторожно тыкал ей в грудь крючковатым пальцем, словно убеждаясь, что женщина нарисована.

Особняк дорого отапливать, и его отдали культуре. Сами культурные труженики занимали две небольшие комнатки в пристройке, где проводили холодное время года преимущественно подле печки-голландки в мечтах о развитии искусства в родном городе.
В большом зале с осени до весны показывали только кино, он даже в лютые морозы нагревался дыханием зрителей, которые приходили в тулупах и валенках, а к концу сеанса разболакивались. Летом же, когда топить не нужно, культура расцветала, в зале проводились лекции и диспуты на самые разные злободневные темы от скорой гибели мирового капитализма до того, будут ли при коммунизме варить щи или станут питаться диковинным бланманже.
Обо всем этом разузнал Гваделупов, обстоятельно побеседовав за кружкой пива и блюдом вареных раков с пожилым матросом, принимавшим канаты на пристани.
Вот в таком «очаге», отставшем от столичной жизни лет на десять, Лизе предстояло дать первый концерт.
Пела Лиза неплохо, честно говоря, даже лучше самой Любови Петровны, а вот играла… Лучше бы не играла совсем. Лиза знала текст, как выяснилось, помнила все мизансцены, реплики партнеров, но сама стояла столбом, с интересом наблюдая, как другие вокруг нее играют. Актриса из нее получилась никудышная, ее способности дальше изображения Примы не простирались.
Тогда решили каждый песенный номер исполнять на бис хоть по три раза, а сцены из спектаклей сократить. Зрители не заметили, их мало привлекали сцены из «Чайки» или «Бесприданницы», но куда больше вокальные номера Лизы и Гваделупова. Это была находка дирижера Обмылкина, Модест Семеныч предложил нашему трагику покорить сердца гадюкинцев своим басом.
Обмылкин решился на это на волне эйфории от другой удачной находки. До сих пор его главной задачей было найти замену Михельсону. Присланный тарасюковской самодеятельностью Василий Свистулькин оказался трубачом и в качестве не только первой, но и последней скрипки не годился. Прометавшись большую часть ночи без сна, дирижер выскочил на палубу с первыми лучами солнца, разбуженный звуками трубы, – Свистулькин приветствовал утреннюю зарю сигналом побудки.
– Вы фальшивите! Фальшивите! – Обмылкин кубарем скатился к Василию и напел ему место, где Свистулькин брал на полтона ниже, чем нужно.
Тот быстро схватил замечание и исправил. Оказалось, что он и нотную грамоту не знает, все играет на слух. Зато слух у Свистулькина великолепный, и память тоже. Остальные пассажиры «Володарского» были разбужены игрой Василия, которой дирижировал лично Модест Обмылкин.
Когда Суетилов заикнулся о том, чтобы пересадить Василия на встречный пароход, Обмылкин закричал, что только через его труп:
– Он великолепный трубач, и он останется в оркестре!
На вопрос о первой скрипке Модест Обмылкин заявил:
– Черт с ней! Я лучше обойдусь без нее.
Василий поплыл с нами дальше, но жить остался в каюте третьего класса, не пожелав переселяться на место Михельсона. Он снял картуз и галстук и взамен сапог переобулся в ботинки, взятые у кого-то из пароходной команды. Команде Свистулькин понравился, над ним взяли шефство, снабдив всем необходимым. В составе оркестра Василий все же не выходил, но составил пару Гваделупову.
Василий на слух легко наиграл мелодии исполняемых Гваделуповым песен, и они составили уникальную пару – бас трагика и бас трубы Свистулькина. Зрителям очень понравилось, они решили, что для столицы это нормально – петь романсы под аккомпанемент трубы.
Позже он сыграл значительную роль во всей истории, я так и не смогла понять, хорошо или плохо, что Вася вообще появился на «Володарском».
Концерт в Гадюкино удался, несмотря на почти полное бездействие остальной труппы. Лизе вручили невероятных размеров веник, собранный с палисадников всего города, даже Гваделупову и Свистулькину перепало по букету.
Суетилов был доволен, он беспрестанно похохатывал и потирал руки:
– Михельсона заменили. Павлинову и ту заменили!
Лиза, несмотря на настоящий успех, выглядела мрачно, лучше директора понимая, чем обернется замена лично для нее.
Я в качестве бездельницы наблюдала за этим торжеством абсурда со стороны, размышляя, что будет, когда приедет настоящая Павлинова. Не может же Тютелькин не убедить ее в опасности такого поведения. Суетилов договорился, что пароход у гадюкинской пристани задержится, чтобы Тютелькину и Любови Петровне не пришлось догонять нас в следующем городе.
Догонять не пришлось, пролетка с Тютелькиным показалась, едва мы успели вернуться с феерически успешного концерта. Он приехал не один, но…