Часть 1
Становление жанра поэмы в творчестве Пушкина
Первая поэма Пушкина «Руслан и Людмила», как известно, явилась событием в русской литературной жизни начала XIX века, вызвала оживленную журнальную полемику. И хотя для Пушкина «Руслан» вскоре же оказался пройденным этапом, поэма и литературные обстоятельства ее появления остались значительным фактом творческого пути поэта.
Б. В. Томашевский, анализируя лицейское творчество Пушкина, отметил свойственное поэту «явное тяготение к крупным монументальным формам. Пушкина привлекают поэмы, а не лирические сборники»5. «…Не в создании мелких стихотворений видел Пушкин основную задачу поэтического творчества. С первых шагов он пытается создать крупное произведение»6.
Это стремление и было осуществлено в «Руслане». В то же время первая пушкинская поэма решила поставленную арзамасцами задачу, над которой работали Жуковский и Батюшков, – создание большого эпического произведения на историко-фольклорном материале. Все это определяет важность вопроса о формировании жанра поэмы у Пушкина, о развитии его раннего стихотворного эпического творчества.
В рамках поставленного вопроса следует выяснить, во-первых, соотношение «Руслана и Людмилы» с лицейскими эпическими опытами и, во-вторых, связь ранней эпической поэзии с лирикой соответствующего периода.
Простое сравнение показывает, что написанные в Лицее произведения повествовательного рода прямо не ведут к «Руслану». Надо учитывать и то, что «Монах» и «Бова» – опыты незавершенные. Единственное законченное лицейское произведение, которое можно считать поэмой, – «Тень Фонвизина» – по своей тематической и жанровой специфике занимает особое место. Поэтому, чтобы составить сколько-нибудь полную картину развития жанра и появления «Руслана и Людмилы», необходимо привлечь и материал лирики.
Как мне кажется, можно говорить об определенном объединяющем начале в раннем эпическом творчестве Пушкина, которое обеспечивает некоторую ведущую линию становления жанра поэмы. Прежде всего, заметно единство настроения, основанное на гедонистическом, жизнелюбивом мировосприятии молодого Пушкина. То же мы видим и в лицейской лирике, но там в 1816–1817 гг. происходит поворот к элегическому направлению. В эпических же произведениях, как в «Монахе» и «Бове», написанных в 1813 и 1815 гг., так и в «Руслане», над которым Пушкин работал в 1817–1820 гг., ощущается единое, устойчивое настроение. При этом важно, что положение не меняется и в «Руслане», где широко применен опыт элегической поэзии. Конкретизировать отмеченную общность помогает, например, стихотворение 1814 г. «Mon portrait» (написано по-французски). Такая поэма, как «Монах», а затем и «Руслан» естественно выходят из-под пера поэта, заявлявшего о себе:
Я молодой повеса,
Еще на школьной скамье;
Не глуп, говорю не стесняясь
И без жеманного кривлянья. <…>
Спектакли, балы мне очень нравятся,
И если быть откровенным,
Я сказал бы, что я еще люблю…
Если бы не был в Лицее. <…>
Сущий бес в проказах,
Сущая обезьяна лицом,
Много, слишком много ветрености —
Да, таков Пушкин.
Надо отметить повышенный интерес поэта к любовной теме:
Одушеви перо мое, любовь!
Так ты прав, оракул Франции,
Говоря, что жены слабые
Против стрел Эрота юного,
Все имеют душу добрую,
Сердце нежно-непритворное.
Я не Омер: в стихах высоких
Он может воспевать один
Обеды греческих дружин
И звон и пену чаш глубоких,
Милее, по следам Парни,
Мне славить лирою небрежной
И наготу в ночной тени
И поцелуй любови нежной!
Напомню, что некоторые критики ставили в вину Пушкину ряд эпизодов «Руслана и Людмилы», показавшихся им нескромными (с этой стороной «Руслана» и «Монаха» соприкасается позднейшая «Гавриилиада»).
Рассматриваемое объединяющее начало раннего эпического творчества Пушкина включает в себя и «вольтерьянский дух», свойственный «Руслану» и лицейским опытам. Важен именно общий дух насмешки, иронии, выдвижение и обыгрывание эротики, а не только прямые обращения автора к Вольтеру в «Монахе» и «Бове»7.
В связи со всем сказанным находится то, чтo эпический замысел Пушкина и в «Монахе», и в «Бове», и в «Руслане» был замыслом шутливого, комического, развлекательного повествования. Правда, известно, что Пушкин в Лицее намеревался написать также героическую и описательную поэмы. Но это вряд ли противоречит выделенной здесь основной линии развития раннего повествовательного творчества поэта. Во-первых, замыслы героической и описательной поэм, вероятно, так и остались замыслами, а известные нам произведения сходны по настроению, «вольтерьянству», присутствию комического и эротического моментов. Во-вторых, – и это главное – «Руслан и Людмила» полностью реализует и завершает именно указанное направление эпической поэзии, и все отмеченные черты имеются также и в поэме.
Характерна сама запись в дневнике Пушкина от 10 декабря 1815 г., из которой мы узнаем о его намерении написать героическую поэму:
«Третьего дни хотел я начать героическую поэму: Игорь и Ольга, а написал эпиграмму на Шаховского, Шихматова и Шишкова, – вот она:
Угрюмых тройка есть певцов:
Шихматов, Шаховской, Шишков.
Уму есть тройка супостатов:
Шишков наш, Шаховской, Шихматов.
Но кто глупей из тройки злой?
Шишков, Шихматов, Шаховской! – »
С этой эпиграммой сопоставима другая – «Пожарский, Минин, Гермоген…» (1815), высмеивающая эпопею Ширинского-Шихматова. Вообще, литературная позиция Пушкина исключала подражание классической эпопее (ср., в частности, в послании «К Жуковскому» – «Те слогом Никона печатают поэмы»), к опыту которой он обратится лишь спустя много лет в «Полтаве». В период формирования жанра поэмы героическое содержание включается в шутливое сказочное повествование (песнь VI «Руслана и Людмилы»). Именно такое решение отвечало основной тенденции раннего эпического творчества Пушкина.
Относительно же замысла поэмы «Игорь и Ольга» можно предположить, что это явление того же порядка, что и работа Жуковского и Батюшкова над созданием произведения на основе национальной истории и фольклора. Эта линия, нашедшая свое воплощение в «Руслане и Людмиле», в 1822 г. продолжается в замысле поэмы о Мстиславе, известной нам по плану, который, однако, Пушкин не реализовал.
Перейдем теперь к конкретным жанрово-стилевым чертам, изменение которых прослеживается от лицейских опытов до «Руслана и Людмилы». Эти наблюдения касаются сюжета, характера комического, роли автора-рассказчика в повествовании.
В «Монахе» комизм создается в основном за счет построения соответствующих ситуаций; шутка везде прямолинейна и единообразна – суть ее в столкновении эротики и благочестия. Сюжет исчерпывается развитием комического действия. Этот факт, а также то, что, кроме монаха, в поэме еще лишь один персонаж (фантастический), показывает, что Пушкин прежде всего преследовал цель создания комического повествования, отказываясь на первых порах от развитого авантюрного действия. Во всяком случае это вытекает из написанных трех частей, обладавших определенной завершенностью, несмотря на то что работа над поэмой была прервана. «Монах» наметил обращение к фантастическому комическому сюжету. В «Бове» комический сюжет становится также и авантюрным – написанная часть является завязкой авантюрного действия. «Руслан» при всем его своеобразии соприкасается с традицией сказочно-богатырских поэм. «Бова» представляет собой обработку сказочного сюжета и в этом смысле самостоятельно связан с «Русланом и Людмилой». В 1820 г. Пушкин возвращается к замыслу поэмы о «Бове» и разрабатывает подробный план ее. Таким образом, два неосуществленных замысла Пушкина южного периода – поэмы о Мстиславе и Бове – восходят к его раннему эпическому творчеству8.
В лицейских повествовательных опытах заметны следы грубоватого комического стиля, характерного для низких жанров классицизма, в частности для травестированных поэм. Однако, по сравнению с «Бовой» Радищева, в пушкинской «Бове» этот «ирои-комический» стиль смягчен. С другой стороны, в «Монахе», а затем – и более широко – в «Бове» появляются элементы иронии (например, сцена совета в «Бове» снабжена ироническими репликами автора).
Шутливая поэма получает как черты снижения, так и элементы иронии в качестве более тонкого стилевого средства. Именно оно и оказалось продуктивным: ироническая насмешливость, с какой автор относится к происходящему, к героям, а в отступлениях и к читателю, является одной из существенных особенностей стиля «Руслана и Людмилы». Есть в «Руслане» и комические ситуации (таковы сцены бегства Фарлафа, признания Наины, эпизод Людмилы и Черномора в песни II), но юмор «ирои-комического» типа почти не находит применения. Следовательно, при развитии жанра происходит «утончение» комического от простого комизма положений к иронии, окрашивающей повествование в целом. В этом отношении лицейские опыты показывают, от чего шел поэт, и в зачаточном виде – элементы будущего стиля «Руслана и Людмилы».
Поэма о поэтах-современниках «Тень Фонвизина», как уже сказано, стоит несколько особняком. Здесь насмешка Пушкина вызвана злободневными литературными обстоятельствами. В этом смысле поэма отходит от основной линии становления жанра – как шутливого фантастически-сказочного повествования – в сторону сатиры на материале современной литературной жизни. Можно отметить, что литературная современность, являющаяся темой «Тени Фонвизина», присутствует и в «Руслане» – в отступлениях и в знаменитом пародировании «Двенадцати спящих дев». Более того, мы встречаем это уже в «Монахе»:
И снова бес Монаха соблазнять,
Чтоб усыпить, Боброва стал читать.
Важнейшая жанрово-стилевая черта «Руслана и Людмилы» – это активная, организующая позиция автора-повествователя. Здесь также надо отметить известный опыт, накопленный в лицейских поэмах. В «Монахе» и «Бове» после традиционных зачинов рассказчик продолжает оставаться на первом плане. В небольшом по объему «Монахе» три авторских отступления. Одно из них прямо направлено против церкви. Второе можно считать собственно лирическим: оно содержит интимный любовный мотив и краткую автохарактеристику («…я молод, не пострижен / И счастием нимало не обижен»; I, 13). Третье отступление развивает риторический вопрос: «Ах, отчего мне дивная природа / Корреджио искусства не дала?» (I, 17). Это обращение к другому искусству встречаем затем в «Сне» (1816) – «Подайте мне Альбана кисти нежны» (I, 189); в «Руслане» – «Бери свой быстрый карандаш, / Рисуй, Орловский, ночь и сечу!» (IV, 35).
В «Бове» роль автора поддерживается включениями реплик рассказчика, его обращений к читателю непосредственно в повествование. Благодаря этому автор все время ощущается, хотя развитых отступлений в «Бове», в отличие от «Монаха», нет. В «Руслане и Людмиле» во множестве присутствуют и цельные отступления, и отдельные замечания, вопросы, восклицания автора. Качественно новый момент, которого еще не было в лицейских опытах, это, по словам Б. В. Томашевского, то, что в «Руслане» «не столько самые события, сколько общение с автором поэмы через его рассказ составляют сущность новой формы поэмы»9.
Сравнение «Руслана и Людмилы» с предшествующими эпическими опытами показывает, что ряд жанрово-стилевых черт, определяющих поэму, в неразвитом виде употреблен уже в этих опытах. Однако нет такого произведения, которое являлось бы промежуточным звеном между формирующимися чертами жанра и стиля в лицейских произведениях и соответствующими особенностями «Руслана и Людмилы». Сами эти черты лицейских поэм становятся заметными лишь благодаря ретроспективному свету «Руслана и Людмилы». «Разрыв» восполняется материалом другого рода – лирического.
Первый эпический опыт выделяет две точки соприкосновения с лирикой: пасторально-анакреонтические мотивы, во-первых, и интимные, во-вторых. «Монах» тесно связан с циклом пасторально-анакреонтических стихотворений.
Казалося ему, что средь долины,
Между цветов, стоит под миртом он,
Вокруг него Сатиров, Фавнов сонм.
Иной смеясь льет в кубок пенны вины;
Зеленый плющ на черных волосах,
И виноград на голове висящий,
И легкий фирз, у ног его лежащий,
Все говорит, что вечно юный Вакх,
Веселья бог, сатира покровитель.
Как видим, воспроизводится общее место пасторального стиля. Дважды в «Монахе» дается излюбленный мотив преследования пастушки, причем в одном случае он помещен в авторском отступлении, где связывается с интимным любовным воспоминанием. Таким образом, рядом с анакреонтикой намечается и использование тем интимной любовной лирики, вокруг которых построены два из трех отступлений. Они связаны со стихотворением 1815 г. «К Наталье». Две лирические темы в поэме соседствуют и взаимодействуют, не отделяясь отчетливо одна от другой: личные мотивы оформлены с помощью анакреонтики. Отмечу также перекличку зачина-отступления песни третьей в «Монахе» со стихотворением 1815 г. «К живописцу».
Пасторальный стиль, как условно-литературный, быстро изживается Пушкиным. В «Руслане и Людмиле» находим лишь единичные отголоски этого стиля. Таково лирическое отступление в песни V:
Пастушки, сон княжны прелестной
Не походил на ваши сны,
Порой томительной весны,
На мураве, в тени древесной.
Я помню маленький лужок
Среди березовой дубравы,
Я помню темный вечерок,
Я помню Лиды сон лукавый…
Интересно, что и в этом случае пасторальный стиль привлекается для оформления личной темы, как это было в «Монахе». О своих первых увлечениях поэт говорит, как бы возвращаясь к языку первых поэтических опытов. Как и там, в «Руслане и Людмиле» в избытке присутствуют гедонизм, эротика, но условная анакреонтическая форма для данного поэтического содержания почти полностью отпадает.
В эпос проникает одна из излюбленных тем ранней лирики Пушкина, широко представленная, в частности, в его посланиях, – эпикурейское уединение поэта. Как указывает Б. В. Томашевский, возможно, что отрывок «Сон» был попыткой дидактической поэмы на эту тему10. Сюда ведут нити от таких стихотворений, как «Послание к Юдину», «Послание к Галичу», «Городок». Та же линия приводит к «Руслану», где эта сугубо лирическая тема оказывает активное воздействие на повествование: она привлекается в качестве мотивировки сюжетного решения. Само по себе решение это традиционно. Воин, прельщенный красавицей и забывший ради нее бранные дела, есть и у Тассо в «Освобожденном Иерусалиме», и в «Бахариане» Хераскова11. Но для Пушкина характерно лирическое осмысление традиционного образа. Ср., например, такие стихи в «Мечтателе» (1815): «Прелестна сердцу тишина; / Нейду, нейду за Славой». И далее: «Нашел в глуши я мирный кров / И дни веду смиренно» (I, 124). Древний витязь Ратмир оказывается прельщенным тем, чем увлекался – в стихах – молодой Пушкин:
Все тихо здесь – докучный шум укрылся
За мой порог…
Вот почему можно говорить о столкновении повествования с лирическим мотивом. Традиционный эпический сюжетный ход, получивший лирическое обоснование, дает анахронизм в характеристике героя. Хазарский хан времен князя Владимира объясняется как эпикуреец:
Душе наскучил бранной славы
Пустой и гибельный призрак.
Поверь: невинные забавы,
Любовь и мирные дубравы
Милее сердцу во сто крат.
Рассмотренный анахронизм имеет лирическую основу. Еще более очевидна связь «Руслана и Людмилы» с элегической лирикой. Если анакреонтика дает в поэме отдельные отзвуки, мотивы эпикурейского уединения связываются с образом Ратмира и вызывают причудливый сюжетный поворот, то элегический стиль пронизывает всю поэму. Это, соответственно, уже вопрос поэтического языка, но в данном случае неразрывно связанный с проблемой жанра, т. к. лексика и фразеология, типичные для элегии, для любовной лирики, впервые были применены в поэме. В связи с этим надо отметить, что «Монах» и «Руслан» различным образом связаны с лирикой.
Подражательная пасторально-анакреонтическая лирика соотносится с повествованием в «Монахе» через отдельные эпизоды, отличные от повествования в целом, в которых разворачиваются лирические темы. Элегический стиль – более высокая ступень поэтической культуры, и Пушкин в «Руслане и Людмиле» использует его более сложно и многообразно. Эта сложность, в частности, состоит в том, что фразеология, ставшая традиционной в лирике, часто свободно включается в повествование, получая повествовательную же нагрузку, которая накладывается на первоначальное лирическое значение. Характерный пример – в песни VI. В одном месте читаем:
Упоенный
Восторгом пылким и немым,
Руслан, для жизни пробужденный,
Подъемлет руки вслед за ним…
В той же песни вскоре:
Народ, восторгом упоенный,
Толпится с криками кругом…
В первом случае употребление лирического «упоенный восторгом», как это и было бы в лирике, выполняет эмоционально-экспрессивную задачу в применении, однако, к чисто фольклорной ситуации – воскрешение мертвого. Второй случай еще более показателен: то же выражение относится теперь к эпическому «народу» древнего Киева и ставится привычно ввиду тяготения автора к определенному слогу. Нечто подобное позднее встречается в черновике «Цыган»:
И вот покинув ложа неги, —
высыпал народ.
Здесь снова в сочетании с «народом» выступает лирическое «ложе неги». Но в 1824 г. такое сочетание уже было невозможно для Пушкина. В окончательном тексте выражение «ложе неги» мотивировано отнесением его к влюбленным – Алеко и Земфире. «Народ» же – цыганы – определяется совершенно иначе:
«…Оставьте, дети, ложе неги!»
И с шумом высыпал народ.
Возвращаясь к 1820 г., к «Руслану и Людмиле», легко продолжить нужные примеры.
В мечтах надежды молодой,
В восторге пылкого желанья,
Творю поспешно заклинанья, —
та же лирическая фразеология в «чистом» повествовании – рассказе Финна (песнь I).
Особо надо сказать о роли элегической фразеологии в построении образа Руслана. Здесь снова встречаем анахронизм, подобный отмеченному выше, но в данном случае он вызван не конкретной лирической темой, а исключительно использованием элегического языка. Современная Пушкину критика отметила странные в устах древнерусского витязя слова о «вечной темноте времен» и «траве забвенья». Ср. в типичной пушкинской элегии лицейского времени «К ней» («Эльвина, милый друг, приди, подай мне руку…», 1815):
Ужели никогда на друга друг не взглянет,
Иль вечной темнотой покрыты дни мои?
Ряд подобных соответствий приводит В. В. Виноградов12.
В другом монологе Руслана (песнь II) – несколько вопросов, где лирическая риторика привлекается для передачи размышлений героя:
…Найду ли друга?
Где ты, души моей супруга?
Увижу ль я твой светлый взор?
Услышу ль нежный разговор?
Заключительные стихи этого монолога дают отчетливое стилистическое сплетение:
…Нет, нет, мой друг бесценный:
Еще при мне мой верный меч,
Еще глава не спала с плеч.
Все эти примеры, свидетельствуя об использовании в повествовании лирического стиля, говорят и вообще о широком проникновении лирической стихии в эпический жанр. Б. П. Городецкий, комментируя стихотворение «К ней» (1817), которое в известной степени предваряет «Я помню чудное мгновенье…», отмечает «новый мотив возрождения, зазвучавший с большой силой в послелицейской лирике Пушкина уже в 1817 г.»13. Мотив этот попадает в поэму. Ратмир так говорит Руслану о «пастушке»:
Она мне жизнь, она мне радость!
Она мне возвратила вновь
Мою утраченную младость,
И мир, и чистую любовь.
Образ Ратмира становится средоточием лирических мотивов: здесь, как мы видели, и эпикурейское уединение, и отказ от славы для «невинных забав», и возврат «утраченной младости» под влиянием любви. Герой эпического повествования, таким образом, приближается к лирическому герою пушкинских стихотворений.
В некоторых местах «Руслана» рассказчик говорит о своем поэтическом творчестве. Это позволяет сравнить отношение автора к своей литературной деятельности, как оно было выражено в первом эпическом опыте и в «Руслане и Людмиле». В «Монахе» автор декларирует уничижительное отношение к себе как к поэту:
А я – я вновь взмостился на Парнас.
Исполнившись иройскою отвагой,
Опять беру чернильницу с бумагой
И стану вновь я песни продолжать.
Это совпадает с тем, что мы находим в посланиях «Князю А. М. Горчакову» («Пускай, не знаясь с Аполлоном…», 1814), «Моему Аристарху» (1815), «Батюшкову» (1815), где творчество трактуется как «плод веселого досуга», как результат «скудного дара» писать» кой-как стихи на «именины». Это не совсем, конечно, искреннее отношение к своим литературным занятиям в лицейский период вполне уживается у Пушкина с осознанным пониманием трудностей пути подлинного художника и высокой ответственности поэта – «К другу стихотворцу» (1816), «К Жуковскому» (1816), с мечтой о будущем бессмертии своих произведений – «Городок» (1815). В дальнейшем, когда в 1816–1817 гг. на первый план выдвигается элегия, эта тема получает в соответствии с элегическим унынием иное раскрытие в таких стихотворениях, как «Любовь одна – веселье жизни хладной» (1816), «Дельвигу» (1817), «Элегия» («Опять я ваш, о юные друзья…», 1817):
Как дым исчез мой легкий дар.
В «Руслане и Людмиле» отношение автора к себе как к поэту является одним из аспектов того своеобразного персонажа-рассказчика, который во многом определил жанровую новизну поэмы. С одной стороны, поэт предстает как «влюбленный болтун» с «легкой и небрежной» лирой (зачин песни VI); в то же время в эпилоге появляется элегический мотив угасания творческого дара:
Но огнь поэзии погас.
Ищу напрасно впечатлений:
Она прошла, пора стихов,
Пора любви, веселых снов,
Пора сердечных вдохновений!
Таким образом, налицо параллелизм как с произведениями 1813–1815 гг., в том числе с «Монахом», так и с элегической лирикой 1816–1817 гг. Изменение по сравнению с «Монахом» в рассматриваемом отношении происходит на основе развития лирического творчества.
Наконец, отмечу отголоски «балладного» стиля в «Руслане и Людмиле». Это касается нескольких эпизодов с атрибутами обычного оссианического пейзажа. После одного из таких пейзажей (песнь V) и следующего за ним описания зловещего сна Руслана, перед появлением Фарлафа, дается балладный «сигнал»:
Луна чуть светит над горою;
Объяты рощи темнотою,
Долина в мертвой тишине…
Изменник едет на коне.
В этой связи можно добавить указанное Б. П. Городецким воспроизведение в поэме мотивов стихотворения 1815 г. «Сраженный рыцарь» в песнях III и IV14.
Итак, в поэму «Руслан и Людмила» привнесены многообразные лирические темы и мотивы; они вызывают явления анахронизма в образах героев и далее влияют на сюжет; в эпическом жанре применен лирический стиль, выработавшийся в поэзии Жуковского, Батюшкова и самого Пушкина 10‐х гг. Дело идет гораздо дальше простого отражения лирики в эпическом произведении. В процессе становления жанра поэмы, начиная с «Монаха», лирика играет активную конструктивную роль, чем в значительной степени обусловлен стиль «Руслана» и его жанровое своеобразие.
Развитие ранней эпической поэзии Пушкина рассмотрено здесь в двух аспектах. С одной стороны, мы видели, что, хотя прямой связи между «Русланом» и лицейскими поэмами нет, эпические произведения Пушкина 1813–1820 гг. обладают известной жанрово-стилевой общностью. В этот период поэма мыслилась Пушкиным главным образом как шутливое, комическое, несколько фривольного характера повествование с фантастическим авантюрным сюжетом. Такое повествование в «Бове» и «Руслане» строится на сказочном материале, причем в «Руслане» использованы также и исторические данные, взятые Пушкиным из «Истории» Карамзина. Эти жанровые черты перестают определять эпическую поэзию Пушкина уже после 1820 г. (за исключением «Гавриилиады»). Замыслы южного периода – поэмы о Мстиславе, Бове, Актеоне, – которые, судя по планам, отчасти перекликаются с ранними поэмами, остались неосуществленными. Значительно более устойчивым оказался тот тип рассказа и рассказчика, который был намечен уже в «Монахе» и полностью развит в «Руслане», подготовив собой повествовательную манеру «Евгения Онегина».
С другой стороны, эпос впитывает в себя все разнообразие лирического творчества поэта. Если в «Монахе» лирические мотивы проникают в отдельные эпизоды или авторские отступления, то в «Руслане» лирическая стихия пронизывает все повествование и, что особенно важно, оказывает влияние на сюжет и образы героев. При этой лирическая лексика и фразеология составляют основу поэтического языка «Руслана и Людмилы». Все это в какой-то мере предвосхищает некоторые черты романтической поэмы – следующего этапа эпического творчества Пушкина.
К изучению «Медного всадника»
В литературе о «загадочном» «Медном всаднике» остается неясным еще целый ряд вопросов. Во многом это объясняется своеобразием художественной структуры произведения, к которой с большим или меньшим основанием оказывались приложимы самые различные, иногда прямо противоположные истолкования философского, исторического, социологического, политического порядка. Предпринятые в последнее время попытки пересмотреть диалектическую в своей основе интерпретацию Белинского15 показали скорее методологическую уязвимость и неприемлемость построений, предлагающих «расшифровать» пушкинский текст или же стремящихся приписать поэту «тенденциозный» подход к поднятой проблематике и обнаружить у него твердое, однозначное и непротиворечивое решение изображенного конфликта. Соответствующие выводы, с одной стороны, плохо согласуются с мировоззрением Пушкина 30‐х гг., а с другой – не подтверждаются анализом самого текста. Поэтому, чтобы избежать обеднения и упрощения пушкинского замысла, следует принять те толкования, которые исходят из нерешенности вскрытого в поэме противоречия, из отсутствия прямого ответа16. В этом направлении (т. е. в сторону усложнения, а не простого опровержения) в интерпретацию Белинского действительно должны быть внесены существенные коррективы.
Среди вопросов, требующих дальнейшей разработки, – на них и сосредоточено внимание в предлагаемой статье – художественная организация «Медного всадника», специфическим образом выраженные в ней тенденции позднего историзма Пушкина, соотношение «петербургской повести» с «Езерским», в особенности с точки зрения отражения в этих двух произведениях пушкинских взглядов на исторические судьбы и политическую роль русского дворянства.
В качестве исходного тезиса надо подчеркнуть, что «загадочность» мы понимаем как некоторое объективное свойство данной художественной структуры, как результат осуществления определенного авторского задания и, следовательно, как средство эстетического воздействия на читателя. Отсюда вытекает, что мы не собираемся «расшифровывать» поэму и считаем «загадочность» полноправным стилевым компонентом. Это не только компонент формы, но важная часть общего историко-философского содержания; не эффект какого-либо одного «приема», а результат взаимодействия нескольких факторов.
Вопрос о подлинном смысле «Медного всадника» упирается в соотношение Вступления и повествования, основанное на контрасте одического апофеоза Петра и Петербурга и трагического рассказа о несчастном чиновнике. Часть поэмы, названная всего лишь Вступлением, играет самостоятельную идейную и композиционную роль. Это равноправная, автономная, внесюжетная, лирическая часть произведения, развивающая первостепенный по важности аспект общего идейного замысла. Идейная композиция развернута следующим образом. Наперед задается отношение поэта к Петру и «его творенью», выраженное в панегирической и лично-лирической форме. Вся одическая концепция Вступления последовательна, ясна и лишена какой бы то ни было внутренней сложности.
Раскрытие противоречий начинается далее. Итоговый взгляд, данный в одической части, поверяется событиями 7 ноября 1824 г., и «печальный рассказ» о бедном Евгении предстает в качестве своего рода антитезиса Вступления. Безоговорочно высокой, восторженной оценке Петра и Петербурга противопоставлена картина стихийного бедствия и трагическая судьба героя. Возникает вопрос: может ли повесть даже трагического содержания противостоять Вступлению, если в ней нет столь же четко сформулированной авторской оценки? Для ответа остановимся в нескольких словах на развитии сюжета в повести.
Герой отличается пассивностью своей роли в сюжетном развитии. Он ничего не предпринимает и не может в данных ситуациях предпринять. В то же время не действует и его будущий антагонист, поскольку таким антагонистом выступает не живой человек, а статуарное изображение, памятник. Оба персонажа, таким образом, не двигают сюжета, столкновения их интересов не может произойти. До самого момента бунта развитие действия идет, по сути дела, независимо и от Евгения, и от «кумира». Но в сцене бунта, во-первых, герой неожиданно преодолевает свое пассивное положение жертвы и совершает некое активное действие; во-вторых, статуя «оживает» и также «действует». Столкновение противников, которые здесь только и выявляются как таковые, произошло. Теперь сюжетно прояснено и доказано то, что было намечено с самого начала: подлинный двигатель событий в повести, a значит, виновник несчастья (а затем и гибели) героя – Петр. Благодаря этому весь сюжет переводится в план историко-философский. А в силу того, что повесть приобрела историко-философский аспект, она по открывшемуся глубокому смыслу происшедшего уравнена со Вступлением. То, что во Вступлении было бесспорным и лишенным противоречий, в повествовании оказывается спорным и противоречивым. Неизменным остается величие Петра. Но если в лирической части оно было воспето, то в повествовательной – вызывает эпохальные вопросы («Куда ты скачешь, гордый конь?..») о конечном историческом смысле петровских преобразований. Место безусловного восхищения занимает дилемма: добрая или злая воля исходила от великого царя? Надо ли восхищаться стремительным движением «гордого коня» или страшиться за судьбу России, вздернутой на дыбы «железной уздой» реформатора? При этом имеется возможность искать ответ и в одическом Вступлении, и в трагической повести о петербургском потопе.
Противостояние Вступления и повествования – это оппозиция действительного факта деятельности Петра, с одной стороны, и действительного же факта наводнения 1824 г. плюс вымышленный художественный факт трагедии и восстания героя, с другой; при этом второй ряд оппозиции рассматривается как опосредствованное следствие первого. Прямое раскрытие соотношения этих фактов было бы равносильно разрешению противоречия, но такого раскрытия в тексте «Медного всадника» нет. Философская идея Пушкина о глубокой противоречивости исторического процесса композиционно выражена именно противопоставлением внесюжетной лирической и повествовательной частей поэмы. Вопрос о судьбах незаметных, рядовых людей в ходе прогресса, о правах отдельной личности поставлен и оставлен открытым. Однако имеется более частный, более относительный, но очевидный итог, вытекающий из позиции повествователя и поднятый на высоту объективно-исторического суждения. Это суждение предпослано рассказу: дело Петра для поэта не подлежащая сомнению историческая ценность, его «революция» есть для России добро, а не зло. Образуется круг: от апофеоза к вскрытию противоречий и опять – за ответом – к Вступлению. Но теперь оно не равно самому себе, не равнозначно тому, что было прочитано перед повестью. Ода обогащена трагическими ассоциациями, идущими от повествования. Безусловность панегирического содержания расшатана, поколеблена, но основная мысль не снята и не зачеркнута. Вступление становится и идейным заключением, обретая в поэме двойное бытие, двойную идейную функцию. Это и посылка, и вывод, но охватывающий лишь часть поднятой проблематики.
Таким образом, в «Медном всаднике» наличествуют два идейных итога: общий, философский – констатация глубокого противоречия между поступательным движением истории и участью единичной личности; более частный, конкретно-исторический – утверждение преемственной исторической ценности и незыблемости дела Петра. В свою очередь первый итог вступает в противоречие со вторым, поскольку констатированное общее противоречие распространяется и на частное утверждение, что делает невозможным вычитать в поэме какое-то компромиссное решение.
Рассмотренная композиция определенным образом использует особые свойства материала, петербургской темы о наводнении, о борьбе русской столицы с враждебной стихией. Подзаголовок поэмы – не только обозначение, ориентирующее на свободный жанр, независимый от сложившихся видов стихотворного повествования. Определение повести – «петербургская» – указывает на специфику проблематики. Название и подзаголовок, уже ведущие к специальному кругу исторических представлений, появились в рукописи еще до окончания I части17. Понятие «петербургское» в данном случае охватывает все, что связано с Петром, с Россией при императорах, с расцветом русской государственности в XVIII в., наконец, и с современностью; это и судьба города. В рождении новой столицы отразились все противоречия деятельности царя-преобразователя: оплот России на Балтийском море, завоеванное в борьбе со Швецией «окно в Европу», доказательство, демонстрация, символ могущества Петра и успехов его реформаторских усилий – и самовластное перенесение столицы из древней Москвы в «чухонские болота», гибель тысяч людей при постройке города, постоянная опасность наводнений. Карамзин, авторитетнейший для Пушкина историк, писал в «Записке о древней и новой России»:
Утаим ли от себя еще одну блестящую ошибку великого Петра? Разумею основание новой столицы на северном крае государства, среди зыбей болотных, в местах, осужденных природою на бесплодие и недостаток. Еще не имев ни Риги, ни Ревеля, он мог бы заложить на берегах Невы купеческий город для ввоза и вывоза товаров, но мысль утвердить там пребывание наших государей была, есть и будет вредною. Сколько людей погибло, сколько миллионов и трудов употреблено для приведения в действие сего намерения! Можно сказать, что Петербург основан на слезах и трупах. Человек не одолеет натуры18.
Что касается последнего афоризма, то Пушкин как будто прямо опровергает его во Вступлении. Но в повести (и это одно из проявлений противопоставления Вступления и повествования) «натура» губит многих жителей столицы, а Александр I говорит о бессилии земных царей перед божьей стихией19.
На современников трагедия петербургского потопа произвела огромное впечатление и оживила устное предание о роковой судьбе города и о таинствах, связанных с Медным всадником. Что такое предание существовало, доказывает ходивший в разных вариантах анекдот о кн. А. Н. Голицыне, майоре Батурине и статуе Петра (в другой версии вместо Батурина фигурирует почт-директор К. Я. Булгаков), рассказанный Пушкину М. Ю. Виельгорским20. Этот анекдот традиционно считался зерном пушкинской поэмы.
После наводнения, по свидетельству Д. И. Завалишина, «общее тревожное состояние духа и само порождало и легко воспринимало» различные слухи, которым верил не только простой народ21.
Приведем несколько откликов современников на катастрофу 1824 г.22
М. П. Погодин записал в дневнике: «Какое ужаснейшее несчастие в Петербурге и какие великие следствия»23. Грибоедов приготовил для описания наводнения, которое собирались издавать Булгарин и Греч, статью «Частные случаи петербургского наводнения». «Река возвратилась в предписанные ей пределы, – писал он, – душевные силы не так скоро смогут притти в спокойное равновесие»24. Карамзин писал из Царского Села императрице Елизавете Алексеевне 9 ноября 1824 г.: «Судьба удалила меня от зрелища ужасного; но не знаю, что больнее: видеть или воображать! Сколько жертв, сколько отчаяния! <…> видно, что Петербургу назначено бедствовать два раза в век от наводнений»25. П. Я. Чаадаев в письме к брату от 30 декабря 1824 г. («Я здесь узнал про ужасное бедствие, постигшее Петербург; – волосы у меня стали дыбом <…>. Я плакал, как ребенок, читая газеты») вспоминает знаменитое лиссабонское землетрясение и осмысляет петербургскую катастрофу в духе своих религиозных исканий26.
Любопытный анекдот о гр. А. П. Толстой (урожд. Протасова) приводит П. А. Вяземский. «Наводнение 1824 года произвело на нее такое сильное впечатление и так раздражило ее против Петра I, что она еще задолго до славянофильства дала себе удовольствие проехать мимо памятника Петра и высунуть пред ним язык»27. Об этой «мести» Толстой-Протасовой Вяземский вспоминает и в письме к А. И. Тургеневу от 18 апреля 1828 г.28 (Анекдот о ее муже сенаторе гр. В. В. Толстом послужил основой комического эпизода, исключенного Пушкиным из окончательного текста «Медного всадника».)
С петербургскими наводнениями молва связывала и судьбу Александра I. Считалось, что рождение и смерть царя отмечены двумя крупнейшими наводнениями – 1777 и 1824 гг.29 (в черновиках Пушкин довольно подробно говорит о бедствии 1777 г.). Так, H. М. Языков, сообщая П. М. Языкову о смерти Александра I в письме от 2 декабря 1825 г.: «Государь скончался 19 ноября в 10 часов утра», – тут же замечает: «занемог 7 ноября, в день наводнения Петербурга»30.
Из сказанного видно, что молва, окружавшая катастрофу 1824 г., анекдотика, выросшая на этом специфически петербургском материале, впечатление, оставшееся в памяти современников, придавали теме наводнения совершенно особый характер местного, городского предания, в котором таинственная судьба города связывалась с именем его основателя, создавшего свою столицу на враждебной земле, вдали от исконной России. Естественным олицетворением враждебных сил выступала бурная стихия, и часто именно наводнения. Литературное закрепление этот мотив получил у поэтов XVIII в. от Ломоносова до Рубана; в XIX в. оды Петру и Петербургу писал Д. И. Хвостов, который был «гипнотически порабощен образом наводнения»31. Ему принадлежит и послание «К N. N. О наводнении Петрополя, бывшем 7-го ноября 1824 года», о котором у Пушкина есть два насмешливых отзыва: в письме к Вяземскому от 28 января 1825 г. и в тексте «Медного всадника».
В поэтической традиции в соответствии с общепринятой и официальной оценкой основатель Петербурга изображался могучим победителем природы. Таким предстает Петр и в «Прогулке в Академию художеств» Батюшкова, одном из источников «Медного всадника», причем автор опирался на более чем полувековую одическую традицию32. Наиболее близким по времени произведением с этой трактовкой Петра было стихотворение Шевырева «Петроград» (1829), напечатанное в 1830 г. в «Московском вестнике»33.
Иная трактовка легендарного и литературного мотива, при которой победа оказывалась на стороне природы, а дело Петра дискредитировалось и терпело поражение, по цензурным причинам не могла попасть в печать. Но она существовала и в предании, и в бесцензурной литературе. Наиболее значительным явлением этой подспудной традиции была поэма В. С. Печерина «Торжество смерти». В ней описывалась гибель тирана Поликрата Самосского и его столицы под ударами разъяренной стихии. Аллегорическое тираноборческое произведение Печерина интересовало Герцена и Огарева и было напечатано в «Полярной звезде» на 1861 г. и в «Русской потаенной литературе»34. В сборнике «Лютня. Потаенная литература XIX столетия» было помещено стихотворение, приписанное Хомякову, в котором нарисована мрачная картина моря и дикого берега на месте Петербурга. Город погиб под волнами по воле Бога: «…себе ковал он злато, / Да железо для других».
В. А. Соллогуб писал в своих «Воспоминаниях»: «Существует предсказание, что он когда-нибудь погибнет от воды, и море его зальет». Лермонтов, рассказывает В. А. Соллогуб, любил рисовать разъяренное море, из которого виден только верх Александровской колонны35. Лермонтову приписывали и стихотворение на эту тему («И день настал – и истощилось / Долготерпение судьбы…»). Н. О. Лернер, признавая, что «тему свержения тирании двумя соединившимися силами возмущенной стихии и возмущенного человеческого духа» «Лермонтов <…> застал уже кристаллизовавшейся в „Медном всаднике“ Пушкина и вероятно знакомой ему, ходившей по рукам поэме В. С. Печерина „Торжество смерти“», предположил, однако, авторство А. Одоевского36 на основании следующего места из статьи Д. И. Завалишина в «Русском вестнике». А. Одоевский и другие «лжелибералы», вспоминает Д. И. Завалишин, писали «дифирамбы на наводнение в 1824 году в Петербурге, изъявляя сожаление, зачем оно не потопило все царское семейство, наделяя его при этом самыми язвительными эпитетaми»37.
Итак, наряду с закреплением в одической литературе петербургская тема, и особенно тема наводнения, осмыслялась в плане радикальной политической аллегории. О каком-либо воздействии на Пушкина этой скрытой традиции следует говорить с большой осторожностью и по идеологическим, и по хронологическим соображениям; бесспорно значение для него лишь одного (нерусского) образца – «Олешкевича» Мицкевича, воспринятого в связи с остальными стихотворениями «Отрывка» из третьей части «Дзядов», прежде всего с «Памятником Петру Великому». Все, что мы знаем о мировоззрении Пушкина 30‐х гг., не допускает предположения об использовании поэтом антимонархической аллегории. Тем не менее изучение вопроса об отношении «Медного всадника» к двум названным традициям приводит к выводу о том, что решение Пушкина не было прямолинейным. Если во Вступлении он близок к одической поэзии, то в повести нашла применение и более сложная трактовка темы. Более сложная и по отношению к апофеозу Вступления, и по сравнению с тираноборческими произведениями.
Сопоставление окончательного текста поэмы с черновыми рукописями показывает, что Пушкин отказывался от вариантов, которые могли быть осмыслены иносказательно. В заключительной части Вступления вместо призыва к примирению («Да умирится же с тобой / И побежденная стихия») первоначально был подчеркнут мотив вековой борьбы города со стихией («Но побежденная стихия / Врагов доселе видит в нас» и т. д. – V, 440); волны «потрясали», «колебали», «окружали» «гранит подножия Петра». Особенно многозначительной вырисовывалась сцена «бунта» Невы у памятника Петру: намечалось прямое столкновение «кумира» над уже «потопленною скалою» с «Невой мятежной» (V, 466–467). Хорошо понимая богатые ассоциативные связи темы, поэт отсекал те из них, которые тяготели к иносказанию.
Значит ли это, что наводнение в «Медном всаднике» начисто лишено какого бы то ни было скрытого смысла, лежащего за строго документированным (по книге В. Н. Берха и «тогдашним журналам») описанием? Представляется, что Пушкин не отказался полностью от использования таинственного колорита темы. Поэт избегал только того, что могло направить восприятие по слишком простому пути. Но в его намерения входила, наоборот, возможность неоднозначного, «растяжимого» понимания. С. П. Шевырев в рецензии на посмертное издание сочинений Пушкина уловил эту особенность. Он, с одной стороны, видит во внутренней связи наводнения и безумия героя «главную мысль, зерно и единство произведения», с другой – отмечает «какую-то неопределенность»38. Это впечатление соответствует действительным свойствам художественной структуры «Медного всадника». Особенно ощутимым становится пушкинский замысел потому, что возмущение стихии соотносится в поэме с мятежом Евгения. Подобно тому, как Вступление приобретает новое содержание на фоне повести (которая требует «возврата» к Вступлению и переосмысления его), описание потопа получает некоторый дополнительный смысл в соотнесении с бунтом Евгения. Если в первой части наводнение изображено как имевший место в действительности факт стихийного бедствия, а мотив вековечной вражды города и природы приглушен и выступает в качестве полулитературного, полумифического фона, то после эпизода бунта появляется возможность осмыслить и наводнение как бунт, сблизить два возмущения против Петра – стихии и героя. В этом, на наш взгляд, суть пушкинской художественной игры на особых тематических свойствах материала: поэт убирает из текста слова «бунт», «бунтовать», настойчиво повторяющиеся в черновиках, уходит от аллегоризма, но оставляет возможность непрямого понимания.
Тема наводнения вела по пути переплетения прямого и символического планов, и Пушкин извлек отсюда определенный художественный эффект.
Но в еще большей степени его занимало переплетение другого рода, опять-таки тесно связанное с особенностями самой темы, которая заключала в себе потенции расширения, обогащения и, главное, постановки более общих проблем. Катастрофа 1824 г. воспринималась в ряду наводнений, неоднократно посещавших Петербург в течение XVIII в. По воле Петра, создавшего столицу «под морем», наперекор природе, жители города были подвержены постоянной опасности. И поскольку эпизод основания Петербурга был чрезвычайно характерен для деятельности царя-реформатора вообще, постольку повествование о конкретном «несчастьи невских берегов», ограниченное современными рамками, могло расширяться до масштабов исторической концепции, охватывавшей весь петербургский период русской истории. Это отвечало главным тенденциям пушкинского историзма 30‐х гг., когда «историческая тема <…> берется в непосредственном, генетическом отношении к настоящему, а не в той аналогии с современными событиями, как это было в 20‐х гг.»39. Пушкин неоднократно применял в лирике исторические обзоры40, связывая образ современника, в том числе автора, с важнейшими событиями эпохи.
В послании «К вельможе», в «лицейской годовщине» 1836 г. такой обзор не выходит за пределы истории новейшей. Но поэт стремился вскрыть и отдаленные связи, ведущие к истокам русской государственности. Направление и характер этого рода исканий были обусловлены пушкинским пониманием судеб русского дворянства. Не углубляясь сейчас в существо хорошо известных (хотя и далеко не достаточно изученных и объясненных) взглядов Пушкина, важно отметить, что они обеспечивали поэту целостное воззрение на всю русскую историю от князей до Николая I и, прежде всего, давали критерий оценки политических и социальных процессов применительно к России императоров.
В «Моей родословной» обзор начинается с XIII в., со времени Александра Невского, и доведен до падения Петра III. Но самое главное даже не в расширении хронологической перспективы, а в осмыслении в свете этой перспективы сегодняшнего социального положения автора. «Моя родословная» подготовила родословную «Езерского» и выделенную затем из неоконченной поэмы «Родословную моего героя». Определился тип своеобразного генеалогического повествования, которое выполняет двоякую функцию: выстраивает родословную и тем самым характеризует героя (или автора) и в нескольких словах дает представление о важнейших этапах русской истории. Образуется стремительно развивающийся сюжет. Отправной точкой его служит древнейший генеалогический факт («Мой Езерский происходил от тех вождей <…> »). Развитие сюжета воспроизводит ход истории, активными деятелями которой выступают представители сменяющихся поколений старинной фамилии. Повествование движется к современности; идейно именно современность, момент рассказывания родословной является отправным пунктом, сюжетно это конечный пункт, своего рода развязка: могущество рода подорвано, и его современный отпрыск, безвестный маленький человек, ничем не напоминает своих славных предков. Или в автобиографическом варианте: Пушкины сыграли видную роль в русской истории, а я – «мещанин».
Объединение исторической и современной проблематики – одна из важнейших тенденций творчества Пушкина 30‐х гг. Обзоры и родословные были формами связывания, синтезирования исторической и современной тем в пределах одного произведения41. Но все случаи реализации этой тенденции в лирике не могли еще в полной мере утвердить новый этап пушкинского историзма.
Попыткой построить большую повествовательную поэму (в онегинских строфах) на противопоставлении теперешнего низкого социального положения героя и прошлого могущества его рода был «Езерский». Каким образом это противопоставление было бы реализовано в сюжете, нам неизвестно. Текст «Езерского» (а также «Родословной моего героя», напечатанной в III томе «Современника»), в настоящее время хорошо изученный42, не дает оснований для каких-либо предположений на этот счет. Можно только с уверенностью сказать, что Пушкин намеревался развернуть любовный сюжет, и вся «генеалогическая» проблематика поэтому должна была быть как-то вдвинута в него. На той стадии работы, где Пушкин бросил поэму, история рода Езерских представляет собой внесюжетную идейную декларацию с большим авторским отступлением. По-видимому, поэт неясно представлял себе, как надо развивать задуманную историко-социальную тему, как должен вести себя герой в жизни, в обществе. Показательно, что всякий раз, когда у Пушкина – в художественном произведении – заходит речь о старом и новом дворянстве, обнаруживается тяготение к выделению соответствующего эпизода из повествования в отдельный пассаж. Таков, например, разговор испанца и русского о русской аристократии в отрывке «Гости съезжались на дачу…».
Выработанный поэтом способ совмещения исторической и современной тематики в родословных имеет прямое отношение к «Медному всаднику». Черновые рукописи показывают, что Пушкин и сюда хотел ввести родословную героя и связанное с ней полемическое отступление. Более того, некоторые моменты даже усилены. Так, в «Езерском» и «Родословной моего героя» говорится о «нашем тереме забытом», в котором «растет пустынная трава». Пушкин имеет в виду некую примету времени – пренебрежение к предкам, забвение старинной славы дворянских родов. В черновике «Медного всадника» та же мысль и в сходной форме характеризует не современные нравы вообще, а социальное положение героя:
<Не знает он>
О том, что в тереме забытом
<В пыли гниют его права>.
Над этими стихами шла настойчивая работа, поэт перепробовал до десяти вариантов, и в каждом из них есть попранные «права», что представляется очень важным для понимания генезиса образа Езерского – Евгения. Так прямо поставленный вопрос о правах обедневшего дворянства нигде больше у Пушкина не встречается.
Какое место занимали замыслы родословной в общем замысле «петербургской повести», какую роль они сыграли в работе над поэмой?
При изучении «загадочного» «Медного всадника» надо особенно четко различать, анализируем ли мы художественную организацию данного конкретного произведения или говорим о социальных взглядах Пушкина 30‐х гг., которые составляют идейный контекст поэмы и комментарий к художественному тексту. Во втором случае можно без большой ошибки отождествить Евгения с Езерским, даже приписать ему хорошо известную нам родословную. Лаконичное упоминание о прошлом рода Евгения легко может быть развернуто, т. к. точно известно, какое значение придавал Пушкин историческим изменениям в среде старого дворянства. Отсюда, с учетом знаменательного варианта о «правах», выводится и объяснение бунта. Ход рассуждения в этом случае вполне логичен: Петр – «революционер на троне» – подорвал могущество старинного дворянства; Евгений – представитель обедневшей фамилии; Евгений восстает против Петра.
Однако подобные построения (неоднократно встречавшиеся в литературе), будучи обоснованными с точки зрения пушкинских социальных воззрений и в целом верно передающие логику исторических размышлений поэта, не получают достаточного подтверждения в тексте поэмы. Дело в том, что в процессе работы над «Медным всадником» Пушкин отказался от постановки социально-исторической проблематики в духе своей концепции русского дворянства. Он пошел по пути трансформации конфликта социально-сословного в обобщенный историко-философский конфликт. Генеалогия обедневшей фамилии в «Езерском» занимала центральное место, а в «Медном всаднике» оказалась низведенной до уровня второстепенной детали. «Ничтожество» Езерского контрастирует с величием его предков – заурядность Евгения важна сама по себе, безотносительно к «забытой старине». Введение генеалогии героя в «Езерском», что очень важно, мотивировано и истолковано повествователем в его специальном открыто полемическом отступлении. Евгений «не тужит / Ни о почиющей родне, / Ни о забытой старине», и автор только констатирует это. Тем самым идея поэтической родословной оказывается нейтрализованной. Отпадает возможность интерпретировать героя с точки зрения исторической социологии Пушкина. Поэтому в художественной системе «Медного всадника» в принципе допустимо вовсе не принимать в расчет упоминания о предках Евгения; это упоминание не более чем след первоначального замысла, ясно указывающий на генезис образа, но не объясняющий его. Социальное бытие героя фактически выключено из истории.
Не противоречит ли данный вывод только что высказанному положению о трансформации сословной проблематики в историко-философскую? Противоречие здесь только кажущееся. Лишив характеристику героя исторического объяснения, Пушкин упразднил – в пределах «Медного всадника» – только свою историческую социологию. Взамен выдвинуты более общие исторические же, но уже и философские вопросы. Это различие необходимо иметь в виду, определяя соотношение «Езерского» и «Медного всадника». В первом случае тема берется в изводе пушкинской исторической социологии, во втором – в обобщенном аспекте, в значительном отвлечении от конкретных сословных и социально-политических проблем. Если в родословных прошлое было подчинено современному социальному бытию героя, то в «петербургской повести» это бытие, наоборот, подчинено историко-философскому содержанию.
Выше говорилось, что в случае выхода за пределы «Медного всадника», в частности в вопросе о генезисе образа Евгения, в принципе возможно отождествить последнего с Езерским. Исходя из этой тождественности, можно представить себе и возникновение нового пушкинского героя – страдательного лица истории. Поэта интересует своего рода исторический феномен: падение родовитой дворянской фамилии, в результате которого потомок занимает на общественной иерархической лестнице место, противоположное своим предкам. Они – активные государственные деятели (за что и удостаиваются упоминания в труде Карамзина), он – предельно пассивен и испытывает на себе действие неведомых ему сил. Открытие маленького человека в историческом процессе, т. е. того, что в писаной истории не являлось предметом изучения и фигурировало в качестве нерасчлененной массы, механической суммы единиц, было подготовлено «Езерским» и совершилось в «Медном всаднике». Столкновение Евгения с «кумиром» раскрывается не как социальный конфликт царя и подданного, власть имущего и бесправного, богатого и бедного, а, главным образом, в плане философии истории, ее этики: великий преобразователь, выразитель объективных интересов нации и государства с его «железной уздой» и безвестный, массовидный человек, который своими жертвами оплачивает общий прогресс.
Отвлекаясь несколько в сторону, отметим, что достижения историзма определенным образом соотносились с реалистическими в более узком смысле слова («натуралистическими») исканиями Пушкина в разработке собственно современной темы. Одним из важных аспектов освоения «низкой» действительности в «Домике в Коломне», «Повестях Белкина» было введение литературных персонажей, отличных от героев южных поэм и романа в стихах. Допустить прозаическое лицо в историко-философскую поэму значило окончательно утвердить его в качестве эстетически равноправного объекта изображения. Но Евгений пришел с другой стороны, нежели Самсон Вырин. Образ Езерского – Евгения, как мы видели, возник в результате художественного типизирования, связанного с исторической социологией Пушкина. Это были две не сливающиеся, но сближающиеся линии: «низкие» герои «Домика в Коломне», «Гробовщика», «Станционного смотрителя» и потомки старых дворянских родов в «Езерском» и «Медном всаднике». Очень характерно стремление к слиянию двух типов маленьких людей отразилось в черновиках «Езерского». Езерский – представитель старинной фамилии —
Влюблен
Он был в Мещанской по соседству
В одну лифляночку – Она
С своею матерью одна
Жила в домишке – по наследству
Доставшемся недавно ей
От дяди Франца.
Это почти автореминисценция из «Домика в Коломне». В одном из вариантов указана и профессия дяди – слесарь. Играя на сословных различиях, автор заявляет:
Но от мещанской родословной
Я вас избавлю – и займусь
Моею повестью любовной
Покаместь вновь не занесусь —
С точки зрения традиционной литературной характерологии социальные градации, еще разделявшие новых героев, казались не существенными, и «непоэтическое» содержание «Домика в Коломне» так же нуждалось в защите, как и «гражданин столичный» «Езерского».
В начале 30‐х гг. Пушкин с разных сторон приходит к открытию маленького человека в истории и в современности, что снова указывает на тенденцию к объединению и комплексному осмыслению исторической и современной проблематики. В «Медном всаднике» – в отличие от «Бориса Годунова», «Полтавы», «Капитанской дочки» – диалектика прошлого и настоящего пронизывает всю структуру произведения. И «смешанная» тема, и поэтический язык в столкновении двух своих элементов – одической струи и прозаической – отражают основной конструктивный и стилеобразующий принцип поэмы – синтезирование современной и исторической тем.
Не меньшее значение для художественной организации «петербургской повести» имеет и другой принцип. Речь идет о высокой степени обобщенности конфликта, о сжатом, схематическом изображении противоборствующих сил. Хроники Шекспира, подсказавшие Пушкину композицию его трагедии, Вальтер Скотт, которому многим обязана «Капитанская дочка», французские историки, чьи труды включали художественный повествовательный элемент, решали вопросы философии истории в обширном сюжете, посредством подробного воспроизведения событий с участием большого количества действительно существовавших и вымышленных лиц. Реставрацию прошлого так или иначе осуществляли продуктивные жанры эпохи – историческая поэма и драма и особенно роман с его установкой, по примеру «шотландского чародея», на «домашний» показ истории. «Рама обширнейшая происшествия исторического» (говоря словами Пушкина) – таков масштаб изображаемого. На фоне этих современных норм весьма знаменательным представляется отказ Пушкина от развернутых исторических картин в произведении, составившем этап его историзма.
Принцип обобщенности объясняет одногеройное построение поэмы и приемы изображения антагонистов.
Обычно указывают на то, что Евгений есть олицетворение массы незаметных, заурядных людей из городских низов. Однако этим несомненно правильным утверждением нельзя ограничиться. На тексте повести можно наблюдать последовательно проведенный композиционный прием разграничения героя и окружающего мира. Вокруг Евгения создана особая атмосфера одиночества, пустоты. В описании наводнения фигурируют толпы любопытных на берегу Невы, «народ»; далее намечен, правда в очень немногих чертах, небогатый петербургский люд, те социальные слои, к которым принадлежит Евгений. С этой столь близкой ему средой герой нигде не соприкасается, он отделен, замкнут в собственной сфере. Повествование строится так, чтобы он не сталкивался с другими людьми, не вступал в активные отношения с окружающими. Автор попеременно обращается то к Евгению, то к происходящему вне его. С одной стороны, такое построение поддерживает идею персонификации, в то же время, с другой – возникает контраст между неслиянностью героя со средой и полной его типичностью для этой среды. Такая «несогласованность» легко объяснима. Пушкин преследовал двоякую цель. Во-первых, максимально обобщить (и в этом смысле схематизировать) в герое одну из сторон конфликта: «кумир» – воплощение идеи государственного прогресса, Евгений – олицетворяет массу «граждан столичных», настолько он лишен индивидуальных отличительных черт, обычен, зауряден. Но, во-вторых, поэту важно показать действие исторической закономерности не только на многих людей, подобных Евгению, но и на отдельно взятую личность каждого из них. Поэтому собирательный герой подчеркнуто одинок, затем вообще «чужд миру», потому что безумен, и, наконец, в своем возмущении встает над обществом и над историей. Кроме того, и очевидное сочувствие автора, т. е. конкретное отношение повествователя к конкретной личности, указывает на то, что понимание образа в качестве только персонификации некоего множества людей будет неполным. Страдательный персонаж истории мыслится Пушкиным как живая и обладающая определенными правами индивидуальность. Именно этим обеспечены ее позиции в конфликте с Петром и оправдано безумное восстание против «кумира». Вина не может быть вменена Евгению и потому, что он безумен (реально-ситуационная, сюжетная причина), и потому, что автор сочувствует, сопереживает ему (причина эмоциональная и психологическая), и потому, что бунт представляет собой выражение неразрешенного исторического противоречия (причина рациональная – историко-философская).
Равенство антагонистов в системе «Медного всадника» свидетельствует об эволюции отношения Пушкина к Петру. Четко зафиксированная в «Истории Петра» двойственность («разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами» – X, 256) распространялась только на личность императора и его действия; все же политические противники реформ не могли быть исторически оправданы и потому оценивались отрицательно. Пушкин мог осуждать жестокость и деспотизм царя, но врагов его и в «Полтаве», и в «Истории Петра» считает объективными врагами общенационального дела. Восстание Евгения носит совершенно иной характер. Дело не в том, что оно происходит столетие спустя после смерти Петра и что угроза адресована статуе, а в том, что это не есть в отличие от попыток Мазепы или «боярства» политическая или сословная акция. Поэтому герой поэмы обретает право на протест: тем самым в истории выявляется такой противник великого царя, чье выступление расценивается уже как закономерное именно потому, что обосновано не конкретно-историческими антипетровскими интересами, а «вечными» категориями гуманности, добра, справедливости. Сложное отношение к Петру получает дальнейшее логическое развитие. Если Пушкин видел и гениального преобразователя, и деспота, различал огромного значения реформы и «тиранские указы», «писанные кнутом», то в «Медном всаднике» он пришел к сложности и в оценке результатов деятельности «революционера на троне» (притом отдаленных во времени результатов), и в подходе к антагонистам Петра. В этом пункте воззрение на конкретную проблему русской истории (проблему Петра), для которого характерна двойственность суждений, смыкается с более общей двойственностью, распространявшейся для Пушкина, по-видимому, на всю философию истории, – с универсальным противоречием между интересами государственного прогресса и судьбой личности.
Чрезвычайно важно не только при рассмотрении образа героя, но и при анализе структуры поэмы в целом учитывать значение мотива безумия. «Прояснение», которое часто понимают как «выздоровление», на самом деле всего лишь моментальное прозрение, припоминание, узнавание, но не выход из состояния помешательства. Неосознанная и потому невыразимая «точка зрения» страдательного лица истории осознана и выражена сумасшедшим. Безумие – мотивация бунта. Здравая, нормальная реакция обрисована так:
В порядок прежний все вошло.
Уже по улицам свободным
С своим бесчувствием холодным
Ходил народ.
Евгений на какой-то момент перестает быть жертвой, потому что он помешан. Здесь в значительной мере и сосредоточено наиболее сильнодействующее художественное качество «Медного всадника» (которое чисто условно можно обозначить как «таинственность» или «загадочность»), призванное выразить нераскрытые законы хода истории. В этом смысле мотив безумия является составной частью философского содержания поэмы. Для сравнения укажем на тождественный мотив в «Полтаве», где помешательство также возникает в результате душевного потрясения, но остается чисто сюжетным моментом, не имеющим прямого отношения к исторической проблематике произведения. В «петербургской повести», будучи естественным следствием происшедшего, безумие в сцене бунта предстает и как функция неразрешенного противоречия. В следующем затем эпизоде оживления статуи эта функция передана фантастике (на государственно-историческую семантику последней указывают и ее источники, исследованные Л. В. Пумпянским43).
Мотив безумия и фантастический элемент до известной степени вызывают иррационализацию – не поднятой проблемы, но ее трактовки. Рационально обоснованная, понятная и доказанная правота Петра, невозможность сойти с определенного им пути дополняются вскрытым, но неразрешенным и в силу этого пока иррациональным противоречием. Так снова возникает вопрос об общем «загадочном» смысле поэмы. Причинно-следственные идейные и сюжетные связи, обычно у Пушкина четко объясненные, на этот раз оказываются значительно осложненными и, как мы сказали, иррационализированными, не в мистическом смысле, а в смысле отсутствия ответа на вопросы о законах поступательного исторического движения. На этой основе построено подвижное равновесие Вступления и рассказа, на этой основе возникает и возможность символического понимания наводнения. Сюда же надо отнести богатую изустную и литературную подпочву поэмы, петербургскую мифологию и анекдотику – источник внетекстовых ассоциаций и обертонов.
В статье о втором томе «Истории русского народа» Полевого Пушкин писал о необходимости для России «другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенной Гизотом из истории христианского Запада» (XI, 127). Если работы Гизо были проникнуты единой философской идеей необходимой эволюции европейской цивилизации «сквозь темные, кровавые, мятежные и, наконец, рассветающие века» к лучшему обществу, то Пушкин располагал только историко-социологической, но не историко-философской формулой. Гизо в одном из писем заявлял, что законы, управляющие судьбами человечества, для него столь же ясны и несомненны, как законы, регулирующие восход и заход солнца44. Для Пушкина такой ясности не существовало. Его социологическая схема была ýже историко-философского задания поэмы. Добровольный отказ от построения идейной системы «Медного всадника в соответствии с авторскими воззрениями на русское дворянство имел следствием совершенно сознательное снижение концептуальной стройности и определенности, что в свою очередь повлекло увеличение удельного веса «таинственности», «загадочности», недосказанности, т. е. тех свойств художественной структуры, которые отвечали конечной неразрешенности изображенного конфликта.
О незаконченной поэме Пушкина «Тазит»
Поэма под редакторским названием «Тазит» (1829–1830) наиболее подробно изучалась в текстологическом отношении, в аспекте реального и исторического комментария45. Указана тематическая и текстуальная перекличка с «Кавказским пленником», «Цыганами» и «Путешествием в Арзрум» (с последним «Тазит» связан этнографическим материалом, который попал в поле зрения Пушкина во время поездки на Кавказ летом 1829 г.); предложены некоторые сравнительно-исторические параллели (Шатобриан46, Мицкевич47). Из старой литературы сохраняют значение толкования поэмы, данные Белинским, Анненковым, Мережковским. Выводы о незаконченном тексте48 во многом неизбежно предположительны, но гипотетичность не превышает допустимых пределов: из 14 пунктов плана II (V, 336) восемь отражено в беловой рукописи, а в черновиках разработан девятый пункт.
Здесь не преследуется цель реконструировать замысел Пушкина. Будет сделана попытка 1) показать возможные пути содержательной интерпретации наличного текста (включая планы и черновики); 2) определить его жанровые тенденции. Обе задачи понимаются в качестве историко-литературных, т. е. их решение предполагает выбор из идеологического и художественного «словаря» эпохи. В первом случае предлагается считать основную оппозицию соответствующего идеологического комплекса доминантой плана содержания данного художественного текста, во втором случае речь идет о нахождении некоторых принципов его внутренней организации. При выполнении задачи интерпретации выбор дает лишь некоторое приближение к культурному коду эпохи, а выбранная антитеза является лишь средством и предметом дальнейших рассуждений. Сами рассуждения о приложении этой антитезы к тексту не могут считаться принадлежащими языку эпохи, а представляют собой компромисс между культурными кодами – исследователя и эпохи создания текста. Таким образом, выбор имеет «позитивное» и «негативное» значение: а) данная антитеза действительно была предметом рассуждений в изучаемую эпоху (в художественных и нехудожественных текстах, а также для читателя), б) рассуждения исследователя до известной степени защищены от аберрации, поскольку строятся вокруг заведомо функционировавшего противопоставления.
Примем за исходное утверждение: рассматриваемый текст отражает в плане содержания идеологический комплекс, определяемый полярными понятиями «естественное состояние» и «цивилизация» (гражданское общество). Этот же комплекс будет основанием сравнения «Тазита» с «Кавказским пленником» и «Цыганами», объектами, которые мы будем полагать известными и относительно которых, в частности, установлена возможность интерпретации на основе данной антитезы.
Для проблематики цивилизации и естественного состояния, центральной в философии Просвещения и акцентированной Руссо (с именем которого она впоследствии связывалась в понятии «руссоизм»)49, основополагающим являлось именно противопоставление, тогда как само понимание естественности, представление о ее носителях не были жесткими и едиными50. Семантику ключевого термина А. П. Куницын описывал так:
Слово естественный, присоединяемое к праву, состоянию, закону и разуму, вводит некоторых в заблуждение по своей двоезначительности: иногда значит оно то же, что первоначальный, первобытный, иногда – природный, врожденный. В правоведении употребляется оно в сем последнем значении. <…>. Но, принимая название естественный в первом значении, многие думают, что <…> состояние естественное есть состояние людей без общественного соединения, в котором царствовало самоуправство, что закон естественный есть выражение правил, коими люди руководствовались в первобытном состоянии <…>51.
Отсюда видно, что противопоставление велось в двух планах – «реальном» (действительное существование естественных людей) и умозрительном (условное выделение в человеке того, что возводится к природе, – и соответствующее долженствование).
Постоянным членом оппозиции было «гражданское общество». Первое из указанных Куницыным значений отождествляло «первобытный» (древний) и «естественный», на «синхронном срезе» вместо «первобытный» была возможна подстановка «нецивилизованный». При европоцентризме культурного сознания и в контексте критицизма философии Просвещения под «гражданским обществом» подразумевалось прежде всего (не исключительно) европейское, а «нецивилизованный» легко сводилось к «неевропейский».
Философские и художественные памятники соединяют умозрительный и «реальный» планы, логический и исторический аспекты. Отсюда множественность различных во времени (история) и пространстве (этнос) антропологических объектов, которые могли идентифицироваться в качестве естественных. Различно – в границах генерального противопоставления – мыслилось и отношение естественности к цивилизации. Безусловное отсутствие законов или воспитания не являлось обязательным признаком – такого рода институты со знаком «суровой простоты» могли противопоставляться европейским нормам. Для понимания соответствующих сюжетов следует учитывать различие между «Цыганами» Пушкина и, например, повестью, переведенной Карамзиным из де Сталь («Мелина»), где убийство из ревности совершает именно представительница нецивилизованного народа.
Подход Руссо был в принципе рационалистическим, а не историческим. Его дикарь – допущение52, носителем естественного начала мог быть: воображаемый первобытный человек, представитель современного нецивилизованного народа, патриархальный крестьянин, ребенок. Тем не менее Руссо выделял сменяющиеся во времени эпохи развития природы человека, связывая одну из них с «той ступенью развития, которой достигло большинство диких народов нам известных»53. Однако первичным остается нормативное понятие естественности. Оперируя с ним, Руссо определяет Эмиля как дикаря в обществе, а высшую точку неравенства – деспотизм – как «новое естественное состояние» («здесь отдельные лица вновь становятся равными, ибо они суть ничто»)54.
В процессе колонизации просветительская культурная схема обусловливала картину экзотического мира, давала точку зрения, с которой «дикие» наделялись атрибутом естественности. С другой стороны, контакты европейцев с «детьми природы» питали «реальную» трактовку естественности и в то же время давали материал для построения нормативных философских моделей в пользу или против цивилизации55.
Взаимопроникновение «реального» и отвлеченного значений ключевого термина, отсутствие жесткой соотнесенности атрибута естественности с определенным носителем и отсюда возможность аналогий и отождествлений важны для понимания художественных соответствий руссоистского комплекса и могут быть использованы при их истолковании.
У Пушкина56 естественность приписывается обитателям национальных окраин государства (но не ребенку и не крестьянину). В «Кавказском пленнике» и «Цыганах» нецивилизованный коллектив – это такой социум, который противопоставляется цивилизованному (европейскому) обществу как гармоничный («простота») дисгармоничному («страсти»). Известно, что, предохраняя условную антитезу от осложняющих моментов, Пушкин игнорировал факт крепостной зависимости молдавских цыган, о котором он писал в предисловии к поэме, не вошедшем в окончательный текст. С тем же связан и способ подачи местного материала: он был в произведении предметом оценки – любования героя-европейца или повествователя.
Основное отличие «Тазита» легко сформулировать в негативной форме: отказ от понимания нецивилизованного социума как внутренне непротиворечивого.
Таким образом, мы имеем два общих утверждения: первое (исходное) постулирует связь между изучаемым текстом и существовавшим вне его идеологическим комплексом; второе выражает (негативно) специфику этой связи относительно избранных для сравнения объектов. Следующие утверждения собственно интерпретируют текст, имея в виду такой его признак, как сюжетность. Предлагаются два варианта интерпретации.
A. Герой совершает движение от естественного состояния к состоянию цивилизации. Коллизия «перевернута» по отношению к «Цыганам».
B. Неевропейский уклад представляет собой определенную цивилизацию. Тогда конфликт «Тазита» аналогичен конфликту «Цыган».
Вариант А кажется очевидным и наиболее экономно отражающим оба общих утверждения. Нецивилизованному коллективу присуще внутреннее противоречие. Его соотношение с цивилизацией, которая должна была быть персонифицирована в лице Тазита (или миссионера), иное, чем в «Цыганах»: не европеец бежит к дикому народу, а дикарь выступает проводником цивилизованных жизненных норм или внутренне готов к выполнению этой миссии57. В частности, «обращенный» вид по отношению к «Цыганам» принимает тема мести.
Однако ряд соображений говорит в пользу варианта В. Как отмечалось в литературе, местный материал в «Тазите» перестает быть чисто описательным или декоративным и получает функцию определителя среды, в которой возникает конфликт. Эта среда культурна, имеет традицию, предписывающую нормы поведения. Гасуб – «нормальный» герой, объясненный традицией и объясняющий ее58. Речь Гасуба строится как имитация его собственной точки зрения – взамен устраненной точки зрения героя-европейца или повествователя: «Где ж, – мыслит он, – в нем плод наук» (V, 74; ср. «плоды наук» в спорах Онегина и Ленского). Показательно употребление слова «дикость», весьма важного в контексте противопоставления гражданского общества и естественного состояния. В «Цыганах» «дикость», «дикий» – обозначения вольной жизни на лоне природы в противовес «неволе душных городов». С точки зрения так обозначающего, Гасуб – дикий. Но эта дикость им самим именуется – «плоды наук», «труды», диким же названо (в авторской речи) поведение Тазита. «Но Тазит / Все дикость прежнюю хранит» (V, 73). Здесь игра на полисемии: «дикий» – антоним к «цивилизованный» и «чуждающийся людей»59 (ср. «Дика, печальна, молчалива» – о Татьяне).
Таким образом, вместо условного непротиворечивого социума – особая, этнографически определенная цивилизация, и здесь же – новая условность: «дикарь», стоящий вне этой цивилизации60. Поведение Тазита аналогично поведению Алеко – это отказ от основных культурных правил.
Вариант В удобно рассматривать в свете философских споров об изначально доброй или злой природе человека. Руссо, считая сострадание одним из двух «первых и простейших действий человеческой души» (наряду с самосохранением), утверждал, что естественные люди «даже не помышляли о мести»61 (ср. старый цыган у Пушкина), но месть присуща всем известным диким народам, которые «уже далеки от первоначального естественного состояния»62. Тазит осуществляет естественную доброту и нарушает традицию «хищного» Кавказа.
Итак, в А полярные понятия исходной антитезы остаются в силе, меняется на противоположное (в сравнении с «Цыганами») направление сюжетного движения героя. Вариант В интерпретирует текст как нетривиальное приложение традиционной антитезы – к новому объекту: социум, который мог быть представлен естественным, «расслаивается» на цивилизацию и «дикость». Но эта «дикость» отвечает определенным требованиям цивилизации европейской – полярные понятия меняются местами: то, что согласно А трактовалось в качестве естественного состояния, становится в В гражданским обществом; то, что трактовалось в качестве цивилизации, совпадает по крайней мере в некотором – с естественным состоянием. Отсюда возможность третьего варианта интерпретации.
C. Борьба двух цивилизаций.
Поскольку в план поэмы включены пункты «Черкес-христианин» и «Миссионер», к понятию «европейская цивилизация» добавляется определение «христианская», и поведение Тазита следует считать приближением к христианской морали или даже осуществлением ее требований.
А, В, С – самостоятельные варианты, но они не исключают друг друга. Так, оказалось удобным вывести С из А и В (хотя обычно комментаторы предпочитают этот вариант безотносительно к каким-либо другим). Есть и другая возможность: все три варианта рассматривать в совмещенном виде – в качестве формул, представляющих разные моменты развертывания сюжета, например, в такой последовательности: В – А – С («дикарь» – отщепенец против исконной цивилизации – он принимает иную, «естественную» цивилизацию – борьба двух цивилизаций). Тогда в С одним из членов оппозиции будет реализуемое героем состояние – одновременно естественное и цивилизованное. (Ср. другой атрибут героя – близость к природе: «внимать волнам, глядеть на звезды», – давший основание для характеристики его как «бессознательного художника», «мечтателя».)
Поскольку понятие естественного перестает быть доминантой, а традиционная антитеза снимается и заменяется противопоставлением двух цивилизаций, постольку С выходит за пределы руссоистского комплекса. Это побуждает связать в нашей интерпретации нормативно-рационалистическую проблематику с типологически иной – исторической, историко-философской (чему в сюжетном совмещении трех вариантов соответствует переход от А к С). Следующий пример дает представление о том идеологическом ряде, на который должен быть теперь спроецирован текст Пушкина и который, очевидно, отличен от исторических воззрений Руссо, а в некоторых существенных пунктах и прямо противоположен им.
В № II «Московского вестника» за 1827 г. появились «Исторические афоризмы и вопросы» Погодина. В № III с «Замечаниями» на «афоризмы» выступил Р<ожалин>. Дискутировался вопрос о закономерностях исторического развития человечества, в частности европейских народов, с одной стороны, и неевропейских, с другой. Погодин отстаивал концепцию поступательного развития, постепенного разновременного восхождения народов по лестнице прогресса (прилагался чертеж!): «Времени, которое было в Европе, не было еще в Азии и Африке: так солнце освещает страны – одну за другой, и европейский вечер есть американское утро»63. Рожалин доказывал, что Азия никогда не уподобится Европе, аргументируя неподвижностью государственных и общественных форм у азиатских народов64.
Показательны и другие фрагменты полемики (Погодин-издатель отвечает оппоненту в подстрочных примечаниях к соответствующим местам статьи последнего):
Рожалин: «Вы относите историю некоторых азиатских и африканских народов к истории древней. Во-первых, вы не сказали, кто эти некоторые?» Погодин: «Дикари, какие бы то ни были». Рожалин: «Во-вторых, вы не сказали: что разумеется под словом древняя история?..». Погодин: «Нехристианская»65.
Из утверждений Погодина вытекало, что современные нецивилизованные народы находятся на древнем этапе своей истории, границей которого должно стать принятие христианства. Позднее, повторяя и развивая это положение, Погодин заключал: «Новая история есть история христианства»66.
Об историческом значении христианства Пушкин писал в заметках (1830) о втором томе «Истории русского народа» Полевого:
История древняя кончилась богочеловеком, говорит г-н Полевой. Справедливо. Величайший духовный и политический переворот нашей планеты есть христианство. В сей-то священной стихии исчез и обновился мир. История древняя есть история Египта, Персии, Греции, Рима. История новейшая есть история христианства. Горе стране, находящейся вне европейской системы!
С «Тазитом» сопоставимы и эти решительно сформулированные замечания, в которых Пушкин примыкает к широко распространенному историософскому взгляду67, и во многом к ним близки суждения Погодина68. На релевантность историософской проблематики для поэмы указывает и этимология имен героев: Гасуб значит «хищник, разбойник, грабитель», Тазит – образовано от слова со значением «новый, свежий, молодой»69. В 1836 г. Пушкин писал в послесловии к опубликованному в «Современнике» очерку «Долина Ажитугай», автором которого был черкес, офицер русской армии Султан Казы-Гирей: «Любопытно видеть, как магометанин с глубокою думою смотрит на крест, эту хоругвь Европы и просвещения» (XII, 25; последние пять слов – цитата из очерка)70.
Все это очерчивает контекст варианта С. Он может интерпретировать текст независимо от А и В. Однако и для приближения в достаточной степени к идеологии эпохи, и для построения наиболее удобного исследовательского конструкта надо учитывать именно перечисление указанных историко-философских идей с комплексом представлений о цивилизации и естественном состоянии71.
В этом плане характерна, например, полемика с XVIII веком Марлинского. Он в целом чужд руссоизма, в 30‐х гг. говорит об остром ощущении истории («Мы ее видим, слышим, осязаем ежеминутно…» – «О романе Н. Полевого „Клятва при гробе господнем“»), а в отношении Кавказа – безусловно оправдывает насилие ради исторически необходимого цивилизаторства. Но и здесь всплывает имя Руссо: жизнь горцев – это «олицетворенная утопия Жана-Жака, только грязная, не нарумяненная, нагая» («Рассказ офицера, бывшего в плену у горцев»)72. Другой пример: если Погодин отрицает договорный принцип естественного права, то еще для Куницына естественное право – метаязык по отношению к истории73. Два идеологических комплекса сосуществовали. В стихах:
Так буйную вольность законы теснят,
Так дикое племя под властью тоскует —
тема (исторически неизбежная экспансия европейской цивилизации) и фразеология могут быть «разнесены» по разным рядам (один из вариантов: «ветхую» вместо «буйную» – подчеркивал временной момент). Оба этих идеологических ряда четко намечены в статье «Джон Теннер»74. (Напомним, что в предисловии к «Истории» Карамзин сравнивал Россию, открывшую страны, «никому дотоле неизвестные», с Америкой и способы христианизации, примененные здесь и там75.)
«Тазит», будучи насыщен этнографическим материалом, ориентирован на указанные идеологические комплексы, и это отличает его от ориентированных на актуальный военно-политический и бытовой уровень «Путешествия в Арзрум» и замысла «Романа на Кавказских водах».
Что касается соотношения «Тазита» с двумя южными поэмами, оно теперь может быть сформулировано следующим образом: «Цыганы» – центральный пункт пушкинского руссоизма, «Кавказский пленник» – его начало, «Тазит» – переосмысление руссоистских идей, их сопряжение с другим идеологическим рядом. При этом наблюдается перераспределение текстовых и внетекстовых факторов.
«Кавказский пленник» – преимущественно психологическое (контраст характеров – понимая слово «характер» в том смысле, какой придавала ему современная Пушкину критика), опосредствованное элегической лирикой отражение руссоистской проблематики; начальная и финальная сюжетные ситуации здесь авантюрного типа (пленение – побег). В «Цыганах» весь сюжет непосредственно мотивирован философской антитезой. Позиция Пленника – любование «простотой», но ее соотнесение с цивилизацией лишено оценочности; в «Цыганах» – нагнетение и поляризация оценок, герой – прямой их выразитель. «Дикая простота» в первом случае включает «веру», «воспитанье», во втором – не предполагает их (следующий шаг по пути условного освобождения от культурных ограничений). В первом случае тема цивилизаторской миссии европейского государства поставлена, но вынесена за пределы сюжета (эпилог), во втором она исключается вовсе. «Тазит», по-видимому, не предполагал прямых оценок; европейские нормы (и влияния) сталкивались с исконной «местной» системой «веры», «воспитанья», и это должно было составить сюжет поэмы.
Какой бы из рассмотренных вариантов (или комбинацию вариантов) ни взять за основу содержательной интерпретации, жанровые тенденции «Тазита» определяются рядом признаков, позволяющих сблизить его с романтической («байронической») поэмой76. Если иметь в виду А и В, то ближайшим объяснением этой близости будет то обстоятельство, что просветительская в своих истоках коллизия разрабатывалась Пушкиным в первой половине 20‐х гг. в жанре, идущем от байроновской tale77.
В романтической поэме для поведения героя определяющим (мотивирующим) было «разочарование» (понятие, хорошо усвоенное современниками из литературы), отрицание, а обязательным признаком этого поведения, важнейшим атрибутом героя – тайна. С последним связано резкое несовпадение фабулы и сюжета в «байроническом» повествовании. Все это сохранено в «Тазите». В отношении «герой – окружение» Тазит функционально то же, что Алеко. Аналогична и причинно-следственная фабульная схема: индивидуальное нарушение нормы окружения, аномальное («героическое») поведение – изгнание.
В стихотворном эпосе Пушкина герои «неясного прошлого» четко противопоставлены героям, снабженным подробной бытовой или исторической характеристикой: Пленник, Алеко, Тазит – Онегин, Мазепа, Евгений «Медного всадника». Фабульно-характерологические «пропуски» обсуждались в критике, остро реагировавшей на предложенные ей загадки: недоумение вызывали непривычный психологический облик героев, их «участь», «неполнота рассказа». Примеры известны, напомним один: в знаменитом предисловии Вяземского к «Бахчисарайскому фонтану» Издатель и Классик касаются и вопроса о художественной определенности – неопределенности. В «Тазите» повествование развито достаточно далеко, но «описан» только один из антагонистов; поведение второго – ряд немотивированных отказов от узуальных с «описанной» точки зрения действий. По сравнению с «Цыганами» происходит сюжетный сдвиг: в «Тазите» непосредственно как сюжетное событие протекает то, что соответствует объявленному в качестве «тайного» экспозиционного обстоятельства в «Цыганах» («Его преследует закон»). Но в «Тазите» – и это подчеркивает жанровое сходство – свой «пропуск» (детство и воспитание героя) в обычных для романтического повествования функциях: характерологической – атрибут тайны, и сюжетной – подготовка «биографической реминисценции» (термин В. М. Жирмунского), которая освещала (часто фиктивно) прошлое героя и мотивировала его действия (ср. в «Цыганах» первый диалог Алеко и Земфиры). В соответствии с этим строится и речевое поведение героя: оно акцентирует противоположности – молчание (таковы умолчания Тазита в диалогах) и исповедь. Как раз эти жанровые черты, а не только незаконченность текста стали препятствием для исследователей. «Биографическая реминисценция» или исповедь могла последовать, например, при встрече Тазита с миссионером.
На дошедшей до нас стадии работы над поэмой, где мотивировки еще нет, возникает противоречие с реальным комментарием к тексту: по обычаю аталычества воспитатель должен был сделать из ребенка воина; воспитатель Тазита утверждает, что достиг цели, но это опровергается поведением Тазита и вызывает недоумение Гасуба («Иль обманул меня старик»). Разгадка вряд ли может быть получена из реального комментария, и все предположения на этот счет должны исходить из представления о жанровой структуре «байронического» эпоса. Весьма показательно, что даже в случае ориентации на конкретный источник романтическая поэма в сфере мотивировок действий героя избегает прикреплять их к соответствующей норме и тем самым сокращать разрыв между ним и окружением. Характерна трансформация, которой подвергся фольклорный сюжет в поэме Лермонтова «Каллы». В источнике горец, совершивший кровную месть, убивает затем и инспирировавшего месть муллу, узнав о лжесвидетельстве последнего78. Лермонтов снял мотив лжесвидетельства, так что единственной мотивировкой убийства муллы оказывается отвращение героя к кровной мести после ее совершения и ненависть к виновнику злодеяния. Герой, таким образом, ставится в совершенно иное положение по отношению к окружению и узуальным нормам, чем если бы причина его действия была та же, что в источнике. В этой же связи можно напомнить об указании Б. М. Эйхенбаума на невозможность исторического приурочения времени действия «Испанцев» Лермонтова. По словам Б. М. Эйхенбаума, эта пьеса – «нечто вроде драматизированной романтической поэмы, в которой века и события сгущены»79. В случае «Тазита» трудность заключается в том, что реальный и исторический комментарий точно определяет место, время и обстоятельства действия, дает почти исчерпывающие пояснения «локальных» деталей, но не в состоянии вывести из реалий поведение героя.
Однако нельзя с уверенностью предположить, что композиционный ход типа исповеди эксплицировал бы некий идеологический субстрат, который совпал бы с предложенной выше интерпретацией. Совпадение или несовпадение, степень эксплицирования зависели бы от того, сопоставима ли автомотивировка с каким-либо внеположным идеологическим рядом, и если да (мы исходили из этого предположения), то от распределения текстовых и внетекстовых связей (см. выше).
Сближение Тазита с героями романтических поэм поддерживается следующей параллелью:

Данная здесь поза героя на фоне бурной природы – и «над» ней – общее место романтического стиля80.
В «Тазите» обнаруживается и самый сильный и устойчивый признак «байронического» эпоса, остро ощущавшийся современниками, – «вершинная» композиция. Интересны в этой связи три диалога поэмы. В. Л. Комарович показал, что Пушкин первоначально намеревался использовать элементы фольклорной поэтики (и литературного «фольклорного» стиля). Он избрал 4-стопный хорей и, возможно, предполагал оформить каждый акт отказа героя от насилия по принципу песенного параллелизма81. Поэтому центральная часть повествования была построена как троекратный повтор ситуации. Однако в процессе работы Пушкин отказался и от фольклорного параллелизма, и от 4-стопного хорея (вернулся к 4-стопному ямбу). Тем не менее троичность центральной ситуации сохранилась. Это нельзя считать просто остатком первоначального замысла. Причина в ином: троичность была использована для модификации композиционной структуры романтической поэмы. Три диалога образуют «вершины», временные разрывы между ними обозначены формулами: «Тазит <…> Два дня, Две ночи пропадает», «Два дни в ауле нет его»82.
Помимо диалогических эпизодов в состав текста входят большие описательные фрагменты – «Тазит» соединяет описательность «Кавказского пленника» и драматический диалог «Цыган», располагаясь ближе к первому по степени обособленности «вершин» и по объему собственно повествовательной речи. Текстологические данные – особое членение текста в беловом автографе – тоже свидетельствует о связи «Тазита» с «байроническими» поэмами Пушкина83.
Инерция жанра романтической поэмы, наблюдаемая в «Тазите», находит объяснение и с точки зрения хронологии эпической стихотворной поэзии Пушкина. Здесь можно выделить несколько этапов.
По ряду признаков к одной группе ранних поэм относятся лицейские опыты «Монах» и «Бова», «Руслан и Людмила», осуществленные кишиневские замыслы; сюда же примыкает «Гавриилиада». В этот период поэма для Пушкина – большой жанр «легкой поэзии», шутливое (фривольное, «вольтерьянское») повествование с разного рода фантастическими элементами, вмещающее в то же время задание фольклорно-исторической национальной эпопеи (это задание выдвигалось в 1810‐х гг. арзамасцами, в частности Жуковским и Батюшковым). Планы поэм 1821–1822 гг., в которых зафиксированы как стремление продолжить разработку сказочно-богатырского эпоса («Мстислав»), так и интерес к эротической «легкой поэзии» («Актеон»), не были осуществлены.
На новом этапе, восприняв влияние Байрона, Пушкин вводит в русскую литературу романтическую поэму, которая господствует в стихотворном эпосе 1820–30‐х гг.
Третий этап падает на вторую половину 20‐х гг. Единая жанровая основа исчезает, сосуществуют роман в стихах и комическая новелла («Граф Нулин», «Домик в Коломне»). Жанр, восходящий к байроновской tale, отграничивается от этих образований, но теряет «чистоту». В «Полтаве» Пушкин синтезирует романтическую и классицистическую традиции. «Тазит» и был еще одним, последним обращением к опыту «байронического» эпоса. В то время как в массовой литературе романтическая поэма выступает продуктивным жанром и дает большое количество подражаний канону Байрона – Пушкина, сам Пушкин к этому жанру больше не обращается. «Медный всадник» уже лишен каких-либо четких жанровых очертаний.
Предлагаемое решение задач содержательной интерпретации и установления жанровых тенденций «Тазита» позволяет определить и место поэмы в поэзии Пушкина на рубеже 30‐х гг. и в ряду его повествовательных стихотворных произведений.
В 1836 г. в первом томе «Современника» появился очерк Султана Казы-Гирея «Долина Ажитугай»84. В связи с «Тазитом» обычно цитируют сочувственное послесловие, которым Пушкин сопроводил очерк (см. выше). Однако и в тексте «Долины Ажитугай» есть места, близкие к поэме Пушкина. Приведем эти любопытные соответствия.
«Долина Ажитугай»:
Есть минуты, в которые воображение человека летит на все пространство, ему доступное. Душа в это время желает чего-то непонятного, чего-то возвышенного, так что слабая природа человека не в состоянии удерживать стремления души: и так, Бог весть, куда не доходили мои мысли, где и с кем не беседовало мое воображение85.
«Тазит»:
Какие мысли в нем проходят?
Чего желает он тогда?
Из мира дольнего куда
Младые сны его уводят?..
Как знать? Незрима глубь сердец.
В мечтаньях отрок своеволен,
Как ветер в небе…
Выше была отмечена в «Тазите» и «Кавказском пленнике» романтическая поза героя на фоне бурной стихии. Ср. в «Долине Ажитугай»: «Я смотрел на ужасы природы, и мне казалось, что и в буре есть какое-то наслаждение. Да, с тех пор я люблю бурю, люблю разгневанную природу, люблю ее, угрюмую, без прикрас человека…»86. Далее автор цитирует перевод Батюшкова из 4-й песни «Чайльд-Гарольда»: «Есть наслаждение и в дикости лесов…».
Знакомство Султана Казы-Гирея с пушкинской поэмой исключено. Близость цитированных отрывков объясняется использованием романтических клише.
К вопросу о каменноостровском цикле
В последние годы, почти одновременно, появился ряд работ, рассматривающих в качестве цикла несколько метрически аналогичных пушкинских стихотворений, написанных летом 1836 г. на Каменном острове, – подход, который еще в 50‐х гг. был предложен Н. В. Измайловым после обнаружения автографа «Мирской власти»87. Цифры над текстами стихотворений в авторских рукописях – важнейшее основание для такой постановки вопроса – стали теперь одним из популярных текстологических фактов пушкиноведения, что позволяет обойтись здесь без предварительных пояснений.
Не столь популярен, но очевиден и вне текстологических указаний факт концентрации христианской символики и тематики в каменноостровском цикле и предположительно относящихся к нему стихотворениях: «Странник», «Отцы пустынники и жены непорочны…», «Подражание италиянскому», «Мирская власть», «Напрасно я бегу к Сионским высотам…»88. Этот ряд уникален в лирике Пушкина, и значение его выходит за пределы вопроса о КЦ. Даже если бы авторская нумерация стихотворений не была известна, можно было бы говорить о цикле, употребляя этот термин не как описание авторского замысла, а как исследовательскую характеристику материала. Поэтому предлагаем различать: 1) КЦ; 2) духовный цикл 1835–1836 гг., который мог полностью или частично войти в КЦ. Отношения текстов внутри духовного цикла могут рассматриваться и независимо от КЦ.
Другое отправное положение явствует уже из перечня пронумерованных текстов: принципом формирования КЦ – наряду с объединением духовных стихотворений – было противопоставление им по крайней мере одного светского (ИП), т. е. построенного на значимом в контексте цикла отсутствии христианской символики. Между тем именно под впечатлением нумерации, ставящей ИП в один ряд с духовными стихотворениями, противопоставление обычно не улавливается в работах о КЦ. (Мы будем придерживаться для данного круга стихотворений этих условных в применении к ним определений «духовный» и «светский».) Отвлекаясь от текстолого-хронологической точки зрения, можно представить КЦ как трансформацию духовного цикла посредством такого противопоставления.
Предлагаемые далее соображения имеют целью не выяснение пушкинского замысла и не новые предположения о составе и композиции КЦ, а выявление тех смысловых связей и соотношений между текстами, которые могли повести к циклизации и так или иначе использоваться поэтом, – того набора возможностей, реализация которых была намечена программой КЦ. Сначала будут рассмотрены стихотворения духовного цикла, затем ИП.
Если КЦ должен был строиться на противопоставлении, то и внутри духовного цикла межтекстовые отношения заключают антитезу – между Ск и ОП.
Достоевский в своей Пушкинской речи, как известно, находил, что в Ск воспроизведен «дух веков реформации», «северного протестантизма». Вообще говоря, не исключен подход, при котором утверждалось бы соответствие этому в том, что ОП является переложением православной молитвы, а ПИ – переводом текста, принадлежащего к католической культуре89. Однако с подобной точки зрения было бы затруднительно связать эти стихотворения с MB, НЯ, тем более с ИП. Более надежным представляется рассматривать все стихотворения духовного цикла только как «христианские» (с универсальными в смысле этого определения темами веры и сомнения, добродетели и греха, личного спасения, духовного учительства), вне тех исторических и внутрихристианских различий, которые могут быть вскрыты в их источниках.
Остановимся на Ск. В отзыве Достоевского надо разграничить мнение о том, насколько близок Ск к своему английскому источнику – «Путешествию Христианина к блаженной вечности» (1678) Д. Беньяна, и оценку некоторого религиозного акта, описанного Беньяном и Пушкиным. Мнение это (вероятно, опиравшееся на параллельную публикацию пушкинского и английского текстов в 1857 г.)90 сводилось к указанию на «почти буквальное переложение», а оценка характеризовала «побег» как мистическую ересь.
Достоевский не разделяет Беньяна, его героя Христианина (у Пушкина это именование было заменено сначала на «некий человек», затем на «я») и героя Ск. Он даже одинаково определяет Ск и книгу Беньяна как «странные» (под влиянием заглавия стихотворения?). Назвав Беньяна «английским религиозным сектатором», Достоевский говорил о Ск: «В грустной и восторженной музыке этих стихов чувствуется самая душа <…> английского ересиарха, безбрежного мистика, с его тупым, мрачным и непреоборимым стремлением и со всем безудержем мистического мечтания»91. Этот акцент на мистицизме находится в некотором противоречии с литературной репутацией сочинения Беньяна, установившейся задолго до обращения к нему Пушкина. «Путешествие» (переведенное на многие языки, входившее на родине автора и в круг детского чтения) считалось не «странным», а хрестоматийным произведением. Отзыв Достоевского мог отражать его собственное представление о книге Беньяна – ясно, однако, что прежде всего он говорит о ней сквозь призму пушкинского стихотворения, а не сравнивает переложение с оригиналом. Но именно стихотворение сгустило тот мистический колорит, который был истолкован Достоевским как исторический и адекватный источнику.
Это сгущение – результат пушкинской переработки, основным направлением которой в композиционном плане явился отказ от большей части сюжета (передан лишь начальный эпизод «Путешествия»), а в семантическом плане – отказ от аллегоризма. При этом именно замена аллегорических значений лексическими и целого частью изменила и сюжет, и героя. «Тупое стремление», о котором говорил Достоевский, – это побег, происходящий наяву, а не в аллегорическом сне (как у Беньяна), заменивший собой подробно описывающее земной мир путешествие, которое завершается переходом через Реку Смерти в Небесный Град92. В основе построения пушкинского текста принцип, противоположный аллегории, – реализация метафоры. В тексте, начиная с заглавия, создается семантическое поле движения (перемещения человека в пространстве), центром которого становится реализация метафоры пути (путь жизни, путь спасения). Уже в первом стихе, передающем первую фразу английского текста, Пушкин, убрав основной знак аллегорического построения – «сон», снял и метафорический перифраз «пустыня мира сего» (wilderness of this world), заменив его квазитопонимическим «долина дикая» (где, однако, по-видимому, имплицитно содержится значение «дольний мир»). Метафора пути, по сути дела, реализована уже здесь, хотя это видно только в сравнении с источником: вместо «As I walked through the wilderness of this world» (в переводе 1819 г.: «Шествуя пустынею мира сего») – «Однажды странствуя среди долины дикой». И далее глаголы движения, соответствующие источнику и привнесенные Пушкиным, однотипны в этом смысле с первым: пришел, пришли, пошел бродить, как и синтагмы замысливший побег, спешащий на ночлег (ср. также: «коль не успеем вскоре / Обресть убежище, а где?»)93. Сюда же, и явно акцентированно, включается реализация метафоры хода времени (отсутствующей в источнике): «Идет! уж близко, близко время!» Затем по внушению «юноши» герой переводит и «спасенья верный путь» в план физического перемещения – бегства (ср. в противоположность этому отсутствующее в оригинале «на правый путь <…> обратить» – в описании увещеваний). Таким образом, текст открывается и завершается реализованной метафорой, причем в финале она уже независима от источника, поскольку формула «спасенья верный путь и тесные врата» (ее нет в данном месте английского текста) восходит непосредственно к Евангелию. Немного ранее у Беньяна слова о тесных вратах сопровождены ссылкой: Матф. 7, 14. В этом месте Евангелия, конечно, ничего нет о бегстве – предписывается должное поведение в миру, но при общей аллегорической установке эта ссылка, как и множество других библейских ссылок, сопровождающих текст «Путешествия», не создавала разноречия или тем более противоречия с Писанием. В Ск сугубо пространственная трактовка «тесных врат» подрывала евангельскую метафору.
Эта семантика Ск, по-видимому, и внушила Достоевскому мысль о мистической ереси, которую он, зная о текстуальной близости стихотворения к источнику, распространил на Беньяна и его героя. Но каковы бы ни были истоки этой мысли, она фиксирует то, чему противоположны ОП, и поэтому важна для понимания духовного цикла. ОП и Ск описывают противоположные варианты поведения христианского «я». В одном случае – норма поведения верующего: осознание себя «падшим» и обращение к молитве; в другом – еретическое отклонение от нормы, самостоятельное мистическое толкование догмата. В ОП «я» повторяет древний сакральный текст и свидетельствует его духовную действенность – в Ск происходит профанический духовный бунт. Противопоставлены и вдохновители «я». У Беньяна это Евангелист, который вручает герою пергамент с библейским изречением; Пушкин заменил Евангелиста на «юношу, читающего книгу», а эпизод вручения опустил, – выдвинув признак «книжности» и ослабив признак санкционированности свыше94 (не снимая его полностью). Тем самым подчеркнута еретичность героя, который принимает руководство незнакомца, лишенного ясных атрибутов освященности. Контраст с ОП очевиден.
В ОП нет метафоры пути, но пространственный аспект в семантической организации стихотворения есть. Верх дан в стихе 2 («области заочны»), низ – в стихе 3 в определении «дольние». Движение, в противоположность Ск, чисто духовно: «возлетать во области» – метафора определенного духовного состояния – «сердцем возлетать», с приравнением этой синтагмы к другой, лишенной моторного значения, – «укреплять его» (ср. фразеологизм «скрепя сердце»). Движение направлено только вверх, но не вдаль, как в Ск («даль указуя перстом»); цель его не может быть усмотрена физическим зрением («во области заочны», ср. далее «зреть прегрешенья»), тогда как герой Ск видит свет «оком <…> Как от бельма врачом избавленный слепец» (сравнения нет в источнике) и спешит «узреть» тесные врата, что связано с физическим же перемещением («оставя те места»). Пространственные значения в ОП локализованы в стихах 2–3, но действие их продолжено, поскольку синтаксически они заключены в целевых конструкциях (с двумя «чтоб»), относящихся к каждой из «множества <…> молитв», в том числе к перелагаемой в последующих стихах (ср. возлетать – падший, укреплять – крепит). Кроме того, последние слова стихотворения – «в сердце оживи», заключающие перечисление добродетелей, отсылают к начальному «сердцем возлетать»95, чем описывается второе – наряду с «крепит» – действие молитвы на «я». «Я» достигает (или должен достигнуть) тех целей («чтоб сердцем возлетать <…> и укреплять его»), ради которых сочинена молитва.
Ск и ОП занимают взаимно диалогические позиции96. Неизвестно, вошел ли бы этот диалог в КЦ (что представляется вероятным), но в контексте духовного цикла он существует и может быть вычленен как потенциальный фрагмент КЦ.
Отношения Ск и ОП осложнены четверостишием НЯ. Текст дает возможность идентифицировать «я» четверостишия с «я» любого из рассмотренных двух стихотворений. НЯ может быть либо тем, на что ОП отвечают, либо ответом на ОП (грубо говоря: напрасно я молюсь), т. е. потенциально дублирует функцию Ск, но несет иное, более узкое противопоставление, не связанное с «ересью». По отношению к Ск НЯ может быть представлено в качестве лирического метаописания сюжета Беньяна либо в качестве реминисценции отдельных отрезков сюжета – например, как объяснение (себе или Евангелисту), почему «к суду я не готов», или конспект тех (не переведенных Пушкиным) эпизодов путешествия, где пилигримов подстерегают львы (аллегория сатанинского, злого, греховного97). В своем промежуточном между Ск и ОП положении НЯ соединяет и уравновешивает их пространственно-моторные признаки. С одной стороны, речь идет о духовном движении, цель которого идентифицируется с «областями заочными»; с другой – оно представлено как физическое перемещение. Направление движения выражено синтаксически двусмысленно: «бегу к высотам», близкое к «возлетать во», не исключает «дольнего» значения «перемещение по…» (что связано и с номинацией сакрального пространства через географическое имя), которое дает частичную аналогию с пространственной трактовкой пути спасения и тесных врат в Ск. Следующие три стиха и развивают эту семантику «низа».
Высказывалась мысль, согласно которой НЯ, написанное на одном листе с черновиком ИП, является «репликой», отражающей «сознание утопичности идеала», намеченного в ИП98. Эта мысль основана на двух отождествлениях: власти с грехом и «идеала» ИП с «Сионскими высотами». Правомерность первого отождествления вызывает сомнения. «Грех» в НЯ, скорее всего, надо понимать в собственном смысле слова; речь идет о своих, а не о чужих грехах. Но если это первое отождествление в контексте КЦ и допустимо, то второе – совершенно невозможно, или надо приписать Пушкину безразличное использование библейской символики (тем удивительней, что эту невозможность не видит автор, специально разъяснивший ряд православных реалий, связанных с КЦ99). «Себе лишь самому служить и угождать», панэстетизм – высоты на принципиально иной шкале ценностей, чем та, которая действует в НЯ. С точки зрения последней, стремления, высказанные в ИП, – грех, закрывающий путь к «Сионским высотам». Для Пушкина и его читателей две системы ценностей могли либо сосуществовать, либо противопоставляться, но никак не отождествляться. Единственная возможность – рассматривать НЯ в том же плане, что Ск и ОП100.
ПИ резко отличается от других стихотворений духовного цикла отсутствием «я» и поэтому находится вне коллизии, образуемой тремя рассмотренными стихотворениями. Но в аспекте пространственной организации оно явно с ними корреспондирует, представляя движение вниз, в подземный мир. С НЯ оно связано и другими рядами соответствий. Таковы зоо- и антропоморфные части, названные и подразумеваемые: лицо, лик, рога, уста, гортань (метафора) – пяты, ноздри (в вариантах НЯ также: ребра, хвост, грива – III2, 1029); если при этом лев отождествляется с дьявольскими силами, как у Беньяна101, то ряд гладная (геенна) – голодный (лев), алчный (грех) дает соответствие не только эпитетов, но и определяемых102. Далее: «приник, дхнул» – «ноздри <…> уткнув»; смрадная – пахучий с перифрастическим соответствием определяемых: добыча – олень («оленя бег»)103. Переклички создают общий для двух стихотворений план – персонификации зла.
MB связана очевидными контрастными соответствиями с ПИ (муки Христовы и смерть Иуды, древо, синтаксическое сходство первых стихов), темой любоначалия – с ОП и в то же время вводит в духовный цикл светское начало, образуя переход к КЦ (напомним, что мы отвлекаемся от хронологии создания стихотворений). В ИП светское полностью замещает собою духовное. Замысел КЦ предполагал, как видно, определенную градацию в соотнесении духовного и светского: в MB оно было основой построения, в ИП – устранено из текста и представлено исключительно в силу межтекстовых связей цикла. В ИП действие этих связей актуализует языческую окраску «богов» стиха 3 и усиливает значимость употребления разговорного околомеждометного «Бог с ними» в стихе 13 (невозможного в духовных стихотворениях). Эта двукратная игра с клише – и само соседство «богов» и «Бога»104 – акцентирует отсутствие христианской символики в ИП. Ту же функцию и на том же лексическом материале выполняет игра оттенков значения в определении «божественные» в стихе 18. Другой знак светского – литературная цитата в ИП на фоне воспроизведения и реминисценций религиозных текстов в стихотворениях духовного цикла105.
По своей пространственно-моторной организации MB расподоблена с остальными стихотворениями духовного цикла – в ней нет движения. Это расподобление задано статическим начальным эпизодом и подтверждено квазидвижением концовки («гуляющие господа»). Другого рода отличие – в синтаксическом и семантическом строе стихов 11–22, представляющих собой цепь вопросительных фраз с «экспрессивно-синтаксическим надломом» на стыке стихов 20–21106. Отличие не только в длине цепи, но главным образом в риторическом характере вопросов, особенно ощутимом в сравнении с вопросительными фразами в Ск. При этом в MB вопросы и предваряющая их фраза содержат иронию, которая, непосредственно развивая тему, выступает здесь и как показатель светского начала текста и КЦ107. Эта смысловая черта и в той же функции повторена и ИП (где ср. также риторический вопрос в стихе 13 и ранее конструкцию косвенного вопроса с «ли – иль»). Она нарушает запрет великопостной молитвы на «осужденье»108. Но соотношение ИП и ОП требует более детального рассмотрения.
В построении ИП обнаруживается близость к композиционно-тематической схеме переложенной Пушкиным молитвы: «я» сначала говорит о том, чего себе не желает («громкие права»), – и эта 1-я часть стихотворения соответствует формуле «любоначалия и празднословия не даждь ми», – затем о том, чего желает («лучшие права»). Соположенные в молитве, любоначалие и празднословие отождествлены в стихах 1–9 ИП, так что первое выступает в форме второго109. Это полностью соответствует определению, которым снабжено «любоначалие» в ОП (не в молитве Ефрема Сирина): «змеи сокрытой сей». Во 2-ю часть ИП110 введен – с противоположным по отношению к молитве знаком – мотив праздности («По прихоти своей скитаться здесь и там»). Таким образом, все три термина «негативной» части молитвы отражены в ИП.
Но если описание «громких прав» накладывается на формулу молитвы как развитие на другом – светском, гражданском – языке двух ее тем, их «применение», то описание «лучших прав» глубоко противоречит христианской этике. «Бог» (хотя бы в семантически редуцированном речении) на разрыве стиха 13 отходит к «царю» и «народу» – право «никому отчета не давать» должно освободить «я» и от отчета Богу. Последующий текст прокламирует индивидуалистическую и – в контексте КЦ – секуляризованную программу, которая, отвергнув «любоначалие и празднословие», ничего не говорит о «смирении, терпении, любви». Очень показательно, что она близка к формуле «для жизни ты живешь», которая дана в послании «К вельможе»111. В обоих случаях существенны античные ассоциации (со стихами 13–15 ИП ср. о «науке первой чтить самого себя» в «Еще одной высокой, важной песни…»), но в ИП, если брать стихотворение в контексте КЦ, они существенны главным образом именно как ведущие в сторону от христианской этики – к иному типу духовности.
Сопоставимость ИП и ОП не ограничивается композиционно-тематической схемой. Два стихотворения связаны целой сетью смысловых перекличек, поддерживающих постоянную игру сходствами и различиями. Так, отмеченная выше для ИП «светская» функция (относительно других текстов КЦ) слов «бог», «божественный» получает специальную реализацию в соотнесении с ОП благодаря наличию там тех же слов (и перифраза «владыко дней моих»). «Я не ропщу о том, что отказали боги» в соотнесении с христианской молитвой о даровании «терпения, смирения» дает каламбурно-кощунственный эффект. Семантически сопоставимыми оказываются и другие фрагменты текстов (синтагмы, стихи), куда входят повторяющиеся слова:
Бог с ними – владыко дней моих
божественные красоты (природы) – божественные молитвы
божественные красоты / умиленье – божественные молитвы (молитва) / умиляет.
Поскольку «божественные красоты» соположены с «созданьями искусств», то:
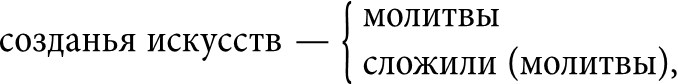
выделяя в «созданьях» в одном случае результативный, в другом – процессуальный признак. Корреспондируют, таким образом, фрагменты, и не содержащие лексических повторений, но связанные благодаря каким-либо узуальным или контекстуальным отношениям входящих в них слов или фразеологизмов. Так выделяются фрагменты, фиксирующие противоположное отношение «я» к «правам» и к молитвам (и разное действие их на человека):
Во второй из этих пар содержится и антитеза «голова (рассудок) – сердце (чувство, вера)». По очевидным признакам соотносятся:
мало горя – печальные
Зависеть от царя, зависеть от народа114 – владыко дней моих
Скитаться здесь и там – сердцем возлетать во области заочны.
Последняя пара фиксирует соотношение по пространственно-моторному признаку и варьирует ту коллизию между духовным и физическим, метафорическим и неметафорическим движением, которая была показана в стихотворениях духовного цикла. (Если КЦ состоял из шести стихотворений и на первое место, как допускал Н. В. Измайлов, был бы поставлен Ск, цикл оказался бы обрамлен «странничеством – скитальчеством» I и VI стихотворений.) Пара может быть образована и иначе: «скитаться» соединено с описанием определенного состояния, понимаемого как высшая ценность, и весь данный фрагмент ИП соотносим с указанным фрагментом ОП по этому ценностному признаку. Движение в ИП и материально, и духовно. Оно является в стихотворении единственной конкретизацией формулы «себе лишь самому / Служить и угождать».
Ряды смысловых соответствий обобщаются в том, что «молитвы» и каждый из членов основной антитезы ИП «громкие права – иные, лучшие права» оказываются (по разным основаниям) противопоставленными. В этом противопоставлении участвуют и семы «множества» и «повторения» (беря их обозначения из текста ОП), явные в одном стихотворении и неявные в другом. Множество повторяющихся («священник повторяет») молитв – множество (описанное «примерами») «прав», уподобленных повторяющимся словам, – множество «красот» и «созданий».
Те же семы присутствуют в «скитаться здесь и там, дивясь <…> трепеща», чему способствует глагольный строй текста, в котором, как и в ОП, доминирует несовершенный вид (оспоривать, мешать, морочит, стесняет, служить, угождать; что касается инфинитивов, то в «программной» части ИП они противостоят императивным конструкциям молитвы). В обоих текстах наряду с признаком «множества» значим признак «собирательность – единичность, исключительность». «Множество молитв» предполагает особность каждой в силу атрибута «божественности»; одна из них выделена «я» по личному выбору. То же свойство предполагается у «красот» и «созданий», но не у «громких прав». Ср. по этому признаку: «не одна голова» (в отброшенном стихе: «народы»; ср: «Народ (der Omnis)» в наброске рецензии на «Историю поэзии» Шевырева) – «отцы пустынники и жены непорочны».
Поскольку «громкие права» приравнены к «словам», т. е. «празднословию», то значимо и противопоставление «слова – молитвы», причем цитирование, посредством которого в одном тексте подтверждается «словесная» сущность «прав», в другом – транссловесная, ценностная – молитв, стремится придать обоим членам антитезы иконический характер. Интересны некоторые черновые варианты ИП, показывающие, как осуществлялось отождествление «слов» с «празднословием», а «прав» со «словами» и как расчищалось семантическое поле, на котором словесные произведения – молитвы оказались противопоставленными словам же. Первоначально в ИП жертвой цензуры был назван «вдохновенный ум», а власти – «мысль непреклонная» (III2, 1031, 1032). Но ни то ни другое не могло быть объявлено празднословием, и эти варианты были заменены (окончательное «помыслы» вместо «мысли непреклонной» скрадывает творческий момент, и весь стих «Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи» подразумевает более личное биографическое поведение, чем творчество). В окончательном тексте участь вдохновения и ума – следовательно, и литературы, перифрастически названной по крайней мере в одном из приведенных вариантов, – игнорируется. Именно это позволяет объявить «слова» чем-то не несущим подлинной ценности. Цитата из «Гамлета» в данном случае несет функцию дискредитации не только «прав», но и «слов», чем они (имплицитно и литература) исключаются из системы ценностей «я» (ср. у Шекспира контекст реплики Гамлета, относящейся к книге, чтению). Что это так – подтверждается в стихах 18–19: «созданья искусств» в ряду с «природы красотами» – явно произведения невербальных (и не сценических), изобразительных искусств, с которыми прежде всего знакомятся путешественники (ср. вариант: «Перед созданьями искусств и вдохновенья / Замедливать свой путь» – III2, 1032, т. е. осматривать, созерцать, но не читать); на это указывает и предлог «перед» (ср. о литературе: «над вымыслом слезами обольюсь»)115. Тем самым конструкция «дивясь… трепеща…» оказывается сопоставимой с «видеть», «зреть» в Ск и ОП (ср. «мы зрим» в MB), совмещая признаки физического и духовного зрения (ср. выше о движении в ИП). Пространственная семантика фразы распространяется здесь и на эстетические объекты, о которых идет речь, относя их к искусствам пространственным и исключая искусства временные – слово и музыку. Соположение с «природы красотами» вносит риторически существенный оттенок «перфектности» (он еще сильнее в черновом тексте, где было «божественной природы», а не «божественным красотам»): «вдохновенье» уже воплощено в «созданья» – искусство настоящего как бы не существует, современности оставлена только «печать». Вопрос же о том, может ли «вдохновенный ум» или «мысль непреклонная» выразиться в парламентских дебатах или печати, – в ИП не ставится (в отличие от «К вельможе»: «Здесь натиск пламенный, а там отпор суровый, / Пружины смелые гражданственности новой» или от заметки «Обозрение обозрений», где характерным для европейской журналистики признана как раз невозможность и невыгодность использовать свободу печати для того, чтобы «морочить олухов»). Так «слова» в ИП получили то значение, которому стало возможно противопоставить «молитвы». В пределах КЦ только молитвы (и «книга» в Ск) представляют слово-ценность. Уместно здесь напомнить, что в своих историко-литературных заметках Пушкин отделял духовную письменность от собственно литературы: пастырские послания, «утешая сердца в тяжкие времена искушений и безнадежности», «не принадлежат к чистой литературе, так как имеют иное назначение» (XI, 268; XII, 208, подлинник на франц. яз.). Молитвы мыслятся, конечно, в том же качестве. Литература непрерывно создает новые тексты, тогда как идеальным осуществлением «иного назначения» является книга, которая «не заключает уже для нас ничего неизвестного», «пословица народов». А благодаря устранению «литературы» из ИП тот не религиозный тип духовности, который представлен в стихотворении, так же как противопоставленный ему в КЦ христианский тип, обоснован на «внелитературных» и «старых» ценностях: вместо Евангелия и молитв – природа и искусство музеев и архитектурных памятников.
Столкновение этих двух типов может быть прослежено в структуре текстов на протяжении всего пушкинского творчества116. В лирике (здесь речь будет идти только о ней) до конца 20‐х гг. доминирует светский тип – христианский не является лирическим объектом, он пародируется и подвергается кощунственному смешению с чуждыми элементами. Это смешение происходит в нескольких «светских» семантических сферах, прежде всего эротической, где христианской символике противопоставлена античная – языческая (характерны конструкции: «апостол мудрой веры Анакреонов и Нинон», «набожная ночь с младой монашенкой Цитеры», «крестница Киприды» и т. д.). Сюжеты христианской мифологии и догматики используются как темы мадригалов («Не веровал я троице доныне…», «Ты богоматерь, нет сомненья…»). Функционально сходным образом применяются христианские символы в стихах о поэзии и литературной борьбе («Христос воскрес, питомец Феба…», «В альбом Илличевскому») и в политической лирике («В. Л. Давыдову», «Свободы сеятель пустынный…»). С таким их применением связаны и существенно новые явления, где христианский тип уже стал лирическим объектом, – «Жил на свете рыцарь бедный…», «Мадона», но «Монастырь на Казбеке»117 и особенно «В часы забав иль праздной скуки…» порывают эту связь. Сюжет последнего стихотворения – столкновение светского, литературного слова («изнеженные звуки», «струны лукавой <…> звон») со словом духовным («речи благоуханные», «арфа серафима»), что предваряет противопоставление «молитвы – слова (литература)» в КЦ.
Наконец, в духовном цикле христианская символика и тематика получают доминирующее значение (ср. «На Испанию родную…», «Родрик»). Показательным для этой эволюции справедливо считается то, что в 1836 г. Пушкин перелагает молитву, которую пародировал в 1821 г. в письме к Дельвигу (см. XIII, 25)118. Такого же рода прецедент, хотя и более частный, имеется для MB. В послании А. И. Тургеневу 1817 г. к стихам, типичным для молодого Пушкина по характеру использования христианской символики, —
Один лишь ты, любовник страстный
И Соломирской и креста, —
сделано примечание: «Креста, сиречь не Анненского119 и не Владимирского, а честнаго и животворящего» (выделено Пушкиным). Оба эти определения креста есть в MB, где, как и в ОП, мирское и духовное «меняются местами» по сравнению с лирикой 10‐х – начала 20‐х гг.
Однако эта мена не только не снимает коллизию, но скорее создает условия для обострения ее. В этом смысле она сближает последний отрезок эволюции не со вторым, промежуточным, а с первым. В КЦ соотнесение духовных стихотворений с ИП, акцентирующим светское начало (через послание «К вельможе» ИП сопоставимо и с ранней гедонистической лирикой), дает новый вариант коллизии духовного и светского и переносит ее на межтекстовый уровень120.
Отрывки из мыслей, наблюдения и замечания
Старайся наблюдать различные приметы.
В повести Бестужева (Марлинского) «Испытание» (1830) есть вставной номер – романс, который поет героиня, «аккомпанируя чистый выразительный голос свой звуками фортепиано». Стихи приведены полностью, пение слушает герой, становящийся к концу короткой повести женихом девушки «в полном цвету очаровательных прелестей». Сразу понятно, что романс ориентирован на недавнюю традицию, созданную Жуковским («Певец», ядовито пародированный Бестужевым в известной эпиграмме121) и подражавшими ему Пушкиным (одноименная лицейская элегия) и Вяземским («Младый певец» в «Северных цветах на 1825 год»). Судя по стихам, Бестужев взял за образец именно пушкинскую элегию (опубликованную в 1817 г. и вошедшую во вторую часть «Стихотворений Александра Пушкина», 1826; ссыльный Бестужев, возможно, не знал, сочиняя романс, что «Певец» был положен на музыку Н. А. Титовым и вместе с другими его романсами на стихи Пушкина появился в печати в конце 1829 г.122). Оба стихотворения писаны пятистопным ямбом и состоят из трех пятистиший (у Жуковского структура более сложная метрически и строфически, а также существенно большего объема). В обоих господствует синтаксис вопроса. Различие в том, что у Пушкина вопросительное построение захватывает и последний стих каждой строфы (рефрен), – у Бестужева пятый стих исключен из подобного же построения и дан в виде императивной фразы («Скажите мне»). При этом, однако, после нее в автографе все три раза поставлен вопросительный знак123, что в данном случае почти несомненно свидетельствует об ориентации на пушкинского «Певца».
«Ошибка» Бестужева тем более понятна, что, как и у Пушкина, концевой рефрен строфы повторяет начало (две стопы, одно предложение) первой строки (тавтологическое кольцо, по Брику124). Дальше в этой строке у Бестужева после двоеточия (бессоюзие) начинается собственно вопросительная конструкция, синтаксически двухчастная в каждой строфе, – как и у Пушкина, но более прозрачно, не столь изощренно организованная125.
На другом уровне сопоставление может быть повернуто иначе. Молоденькая Ольга Стрелинская, поющая о предчувствиях любви, оказывается нимало не похожа на элегических юношей. Те готовятся к скорому концу, томятся несчастной любовью и умирают – таков мир элегии, заявляющей в пародийном «разговоре» Шевырева «Водевиль и Елегия»: «Смерть под моей рукой – и в области Плутона / Я важную играю роль»126. У Бестужева женщина-ребенок наделена неженским мужеством и жизнестроительной волей. Именно она спасает ситуацию, а не бравые просвещенные офицеры (похожие на автора повести, каким его знаем мы).
Знаменитая сатира Вяземского «Русский бог» (далее: РБ), написанная «дорогою из Пензы измученным и сердитым» поэтом (согласно его свидетельству в письме А. И. Тургеневу от 18 апреля 1828 г.127), сосредоточена на социально-бытовых реалиях, и, как часто бывает в подобных случаях, некоторые собственно литературные аспекты замысла и текста остаются в тени.
Как и в других стихотворениях, схожих с РБ в жанровом отношении («Давным-давно», «Того-сего», «Катай-валяй», «Воли не давай рукам»), Вяземский строит текст на вариациях одной опорной синтагмы, обычно идиоматической, используемой и как рефрен, и в качестве общего заглавия (в «Когда? Когда?» рефрен-заглавие не идиома и образован ad hoc чисто синтаксически). Формальное отличие РБ в том, что идиома здесь фигурирует не только в виде синтагмы, в своем полном двусловном составе, но и расчленяется, – при этом второе слово, многократно повторяемое, получает активнейшую синтаксическую роль, управляя в каждой строфе перечислительным нанизыванием генитивов, которые доминируют в восьми куплетах из девяти, начиная со второго (со стиха 5 – «Бог метелей, бог ухабов»). На фоне этой инерции выделяется седьмой куплет, начатый дативами, мыслимыми, конечно, в личном плане («К глупым полон благодати128, / К умным беспощадно строг»).
В составе рефрена (т. е. последнего стиха каждой строфы, кроме первой) слово бог соединено с парой местоимений, указательным – на него падает метрическое ударение – и личным. Пара вот он всякий раз тут же дублируется и, замыкаемая после повтора синтаксической паузой, дает как бы краткую форму рефрена (или малый рефрен внутри большого).
Конструкция рефрена наталкивает на мысль о том, что замысел Вяземского включал пародийный элемент, скрытый за однозначно читаемой сатирой и узнаваемыми реалиями. «Богоявление», по-видимому, сделано у него посредством снижения формул прославления «богов и героев» в текстах высокого строя либо с ними так или иначе соотнесенных.
Ближайшими текстами такого рода могли быть «Пиршество Александра, или Сила гармонии» Жуковского (1812, перевод из Д. Драйдена; более ранний, 1806, перевод Мерзлякова озаглавлен «Торжество Александрово, или Сила музыки. Кантата Драйдена в честь святой Цецилии, переложенная с наблюдением меры подлинника») и пушкинское «Торжество Вакха» (1818–1819)129. Мы имеем в виду такие фрагменты этих текстов, как «<…> И вот Зевесов лик! Вот новый царь земле! <…>» (Жуковский); «„Се бог наш!“ – вопиет благоговейный хор; / „Се бог наш!“ – разнеслось, как волн шумящих спор!» (Мерзляков); и особенно «<…> Вот он, вот сильный бог! / Вот Бахус мирный, вечно юный! / Вот он, вот Индии герой! / <…> Вот он, вот Вакх! О час отрадный!» (Пушкин)130. Современные исследователи склонны видеть в «Торжестве Вакха» реминисценции указанного перевода Жуковского131. В нашей связи следует учитывать и то, что это стихотворение было впервые опубликовано только в 1826 г. (во второй части «Стихотворений Александра Пушкина»), – тем вероятнее возможность пародийного соотнесения у Вяземского.
Дискредитация коннотатов, содержащихся в самой идиоме (мифологических, квазирелигиозных, батально-патриотических), могла дополняться контрастом между «дифирамбической» вакханалией в стихотворении Пушкина, полном идиллической «светлой свободы», движения, громких голосов, винопития, эротики (в батюшковском духе), – и беспросветной «жанровой картиной» Вяземского (его «Зимние карикатуры» того же 1828 г. написаны куда более светло). Зимний русский «бог мучительных дорог» проецировался на «дивный ход» оргиастического шествия под полуденным солнцем, а ипостась «бог наливок, бог рассолов <…> бригадирш обоих полов» оказывалась на месте Вакха и вакханок.
Стихотворение Вяземского ходило в списках среди тех, кого интересовали главным образом бесцензурность текста и оппозиционные настроения автора. Но тогдашнее окружение поэта не могло не понимать детали литературной игры, вряд ли уловимые уже для Герцена и Огарева, осуществивших через четверть века первые публикации (для них упомянутые вещи Пушкина и Жуковского отошли достаточно далеко в историю словесности)132.
Позиция Пушкина по «польскому вопросу» с равной решительностью высказана в стихотворных текстах (начиная с незаконченного стихотворения «Графу Олизару», 1824) и письмах, прежде всего к Е. М. Хитрово, с 9 декабря 1830 г., когда поэт узнал из присланных ею французских газет о восстании (Ноябрьском, как его называют в Польше). Манифест Николая I о «польском возмущении» последовал 12 декабря. «Известие о польском восстании меня совершенно потрясло» («перевернуло», как переводит Б. Л. Модзалевский), – говорится в этом письме, и здесь же, не дожидаясь развития событий, Пушкин дает уверенный прогноз, основанный на давно (по меньшей мере с «Заметок по русской истории», 1822) установившихся воззрениях: «Итак, наши исконные враги будут окончательно истреблены, и таким образом ничего из того, что сделал Александр, не останется, так как ничто не основано на действительных интересах России, а опирается лишь на соображения личного тщеславия, театрального эффекта и т. д….» Через два месяца (в письме, датируемом: не позднее 9 февраля 1831 г.) он выразил суть своих взглядов переиначенным на злобу дня латинским изречением: «delenda est Varsovia».
В. А. Францев полагал, что эта парафраза, как и цитата из Вергилия в предыдущем письме (от 21 января) тому же адресату, – лишь «крылатые слова, подсказанные школьными воспоминаниями» и употребленные так же, как «Vale, sed delenda est censura» в письме Гнедичу от 13 мая 1823 г.133 Но если фраза о цензуре – это обычное в дружеском литературном кругу фрондерское бонмо, то мрачная острота о Варшаве в высшей степени концептуальна, а в синхронном политическом контексте воспроизводит и последовательно продолжает карамзинскую трактовку проблемы, заостряя ее сообразно новым обстоятельствам134. «Право меча» (ср., конечно, в «Бородинской годовщине»: «Кому венец – мечу иль крику?»), государственно-историческое «право завоевания», которое Карамзин защищал перед Александром I, выступая против «восстановления Польши», – все это Пушкин выразил афористически.
Интересно, что, конструируя афоризм, он опирался на яростного критика карамзинской «Истории» – М. Ф. Орлова. По сути «польского вопроса» у Орлова не было расхождений с Карамзиным, но его, как известно, разочаровал недостаток «пристрастия к отечеству» («Зачем хочет быть беспристрастным космополитом, а не гражданином?»), отсутствие в «Истории» гипотезы «древнего нашего величия» и, наоборот, включение в нее сведений, которые могут быть истолкованы в пользу поляков. В письме к П. А. Вяземскому от 4 июля 1818 г. Орлов писал, в частности: «Да зачем же он <Карамзин> дает Киеву польское происхождение? Правда: это не простительно в нынешних обстоятельствах, когда каждый россиянин должен с римским мужем заключать всякую речь свою сими словами: Delenda est Carthago»135.
Пушкин, который резко отрицательно отнесся к критике Орловым «Истории», особенно по поводу «гипотезы», через 13 лет, даже и стилистически, последовал его рекомендации. Поскольку «римский муж» (Катон Старший) прославился присоединением любимого лозунга ко «всякой речи своей», Пушкин позаботился о подобном же эффекте: высказавшись о польских делах, он перешел к литературным – похвалил предложенную адресатом тему (реакция на недавно вышедшего отдельным изданием «Бориса Годунова»), а в последней фразе письма опять переключился на поляков. Начало фразы: «Но в этом мире есть только удача и неудача» – несомненно относится и к частной жизни, включая профессиональный успех или неуспех писателя, и к историческим перипетиям (ср. эпиграф к «Полтаве» из «Мазепы» Байрона: «Мощь и слава войны, / Как и люди, их суетные поклонники, / Перешли на сторону торжествующего царя» [сентенция восходит к «Истории Карла XII» Вольтера]) – об этом же говорится в стихах «Графу Олизару» и «Клеветникам России». Между частным человеком и властителем та разница, что второй не должен руководствоваться чувствами, в том числе и благородными. Поэтому Карамзин в беседе с царем 17 октября 1819 г. («с глазу на глаз, пять часов, от осьми до часу за полночь»), когда он зачитал ему свою записку о Польше, убеждал Александра, что альтруистический, с точки зрения имперских интересов России, замысел «восстановления Польши» диктуется «тщеславием, осуждаемым самою человеческою политикою»136. Это же имел в виду Пушкин, говоря о «соображениях личного тщеславия, театрального эффекта». Аналогично, но более мягко по отношению к царю (что понятно в последекабрьском контексте) судил Орлов в 1835 г., т. е. уже имея возможность указать в подтверждение этим взглядам на опыт польского восстания: «Восстановление Польши могло быть прекрасным движением души Александра; но в смысле историческом – это была огромная ошибка <…> он увлекся ложным великодушием <…>. Он посеял ветры, а преемник его пожинал бурю»137.
В этой точке зрения мнение троих сошлись. Отсюда и разительные совпадение разновременных высказываний Орлова и Пушкина138.
Одна из заметок А. А. Ахматовой о Пушкине посвящена его мысли о «смелых выражениях». Ахматова цитирует «Материалы к „Отрывкам из писем, мыслям и замечаниям“»: «Мильтон говорит, что адское пламя давало токмо различать вечную тьму преисподней». Затем она отсылает к Вольтеру (комментаторам не удалось раскрыть эту отсылку), а далее приводит примеры «истинной смелости самого Пушкина»: «великолепный мрак чужого сада» (у Ахматовой здесь записаны только первые два слова) из «В начале жизни школу помню я…» и «сумрак ваш священный» из «Воспоминаний в Царском Селе», 1829139, где читается: «Сады прекрасные, под сумрак ваш священный / Вхожу с поникшею главой».
В русской поэзии «смелость» Мильтона (или сходные построения; посредствующие звенья – отдельный вопрос) неоднократно воспроизводилась. Например: «И ангел мира освещает / Пред ним густую смерти мглу» (Карамзин. Послание к Дмитриеву в ответ на его стихи, в которых он жалуется на скоротечность счастливой молодости, 1794); «Надгробный факел мой лишь мраки освещает…» (Батюшков. Из греческой антологии, 1; 1820)140.
У выделенных Ахматовой синтагм мрак сада, сумрак сада обнаруживается прецедент (в этом случае можно достаточно уверенно говорить об авторитетности его для Пушкина) в поэме Баратынского «Пиры» (1820): «В углу безвестном Петрограда, / В тени древес, во мраке сада, / Тот домик помните ль, друзья, / Где наша верная семья, / Оставя скуку за порогом, / Соединялась в шумный круг / И без чинов с румяным богом / <ср. выше: «О бог стола, о добрый Ком»> Делила радостный досуг?»
Сразу далее, по контрасту с тенью и сумраком, нагнетается светлое, яркое, блестящее (в предметных и метафорических значениях), как бы мотивированное «румяным богом»: «<…> вино сверкало, / Сверкали блестки острых слов, / И веки сердце проживало / В немного пламенных часов141. <…> Его <Аи> звездящаяся влага / Недаром взоры веселит <…>. Светлела мрачная мечта». «Певец пиров» (как он назван в «Евгении Онегине», 3, XXX) предвосхитил в этой ранней поэме топику и риторику пушкинских «лицейских годовщин»: «Сберемтесь дружеской толпой / Под мирный кров домашней сени: / Ты, верный мне, ты, Дельвиг мой, / Мой брат по музам и по лени, / Ты, Пушкин наш <…>» (ср. в «19 октября 1825» обращение к Кюхельбекеру: «Мой брат родной по музе, по судьбам») – и, что не менее важно для позднего Пушкина (о котором говорит Ахматова), соединил эпикурейский антураж с темой потомственного дома, дающего человеку живое ощущение прошлого, исторического и родового: «Дубравой темной осененный, / Родной отцам моих отцов, / Мой дом, свидетель двух веков, / Поникнул кровлею смиренной»142.
Таков был более близкий, чем из Мильтона, пример «смелости» – у Баратынского.
Пушкинистские маргиналии
1. Среди лицейских текстов, датируемых 1816 г., есть два послания к В. Л. Пушкину – пасхальное («Христос воскрес, питомец Феба!..») и рождественское («Тебе, о Нестор Арзамаса…» – пять стихотворных фрагментов вперемежку с прозаическими, собственно эпистолярными)143. Во втором Пушкин острит по поводу своей «годовой переписки» с дядей: «приметил я, что и вся она состоит из двух посланий» (I, 194).
Оба послания пронизаны арзамасской полемикой144. Пасхальное завершается пожеланием «Но да не придет воскресенья» – с перечислением нескольких литературных имен. В последней строке назван обычно фигурирующий в такого рода нападках Д. И. Хвостов. Но в одном из авторитетных списков (копия Лонгинова – Полторацкого) текст продолжается145 таким обобщением:
<…> Хвостов,
И все, которые на свете
Писали слишком мудрено,
То есть и хладно и темно,
Что очень стыдно и грешно!
Рифма последних стихов позволяет и даже заставляет предположить здесь варьирование тирады из «Послания к Александру Алексеевичу Плещееву» Карамзина. Наставляя адресата (Пушкин позднее был знаком с ним) в должном поведении, Карамзин рисует некий образцовый портрет того, кто в этом жестоком мире научился «как можно менее тужить» и «малым может быть доволен». Среди доступных удовольствий просвещенного и умеренного человека – литературное сочинительство и юмор:
Стихами, прозой забавляет
Себя, домашних и чужих;
От сердца чистого смеется
(Смеяться, право, не грешно!)
Над всем, что кажется смешно146.
Слов смеяться, смешно в пушкинском тексте нет (возможно, автор уклонялся от прямой реминисценции), при том что все послание, с фривольной игрой на религиозных представлениях, выдержано в сатирическом ключе, т. е. написано более жестко, чем рекомендовал обращаться с юмором Карамзин, но в общем вполне в духе его мысли о «негреховности» смеха.
Во втором, рождественском послании, и тоже в концовке, Пушкин как будто снова наталкивается на слова и рифмы из карамзинского стихотворения – и теперь не уклоняется от очевидного цитирования. На этот раз нет слова грешно, но относящееся к смеху (понимаемому так же, как в предыдущем послании) воспроизведено – с нажимом, почти плеонастически. Речь идет о П. А. Вяземском, который «меня забыл давным-давно», а любит
И петь, и пить свое вино,
И над всемирными глупцами
Своими резвыми стихами
Смеяться – право, пресмешно.
И адресат, и Вяземский (не исключено, что и Карамзин, до которого эти стихи могли дойти от обоих), скорее всего, узнавали здесь отсылку к старому (1794, опубл. – 1796) почтенному тексту, впрочем, недавно – в 1-м томе «Сочинений» Карамзина 1814 г. – перепечатанному.
На протяжении XIX в. строки из цит. пассажа Карамзина приобрели статус фразеологизма, «крылатого слова», что и зафиксировано лексикографически147. Рассмотренная пушкинская игра могла совпасть с началом (?) этого процесса и способствовать ему.
2. Некоторые стихи посланий к В. Л. Пушкину оказываются дальними антецедентами по отношению к «Евгению Онегину» и соответственно должны быть приняты во внимание в комментариях к роману. «Писали <…> хладно и темно» – очевидным образом предвосхищает характеристику противоположного (относительно адресатов арзамасских насмешек) стиля («элегия Ленского») в «Онегине» (6, XXIII). Свое рождественское приветствие дяде Пушкин называет: «слабый сердца перевод – / В стихах и прозою посланье». Это не менее явное предвосхищение, а именно – слов повествователя, которыми вводится письмо Татьяны к Онегину: «Безумный сердца разговор <…> Но вот / Неполный, слабый перевод» (3, XXXI).
3. Послание Карамзина к Плещееву носит дидактический характер (в жанровом смысле), хотя писано не 6-стопным, а 4-стопным ямбом. При этом наставления молодому человеку (немного старше «лицейского» возраста, если применять к пушкинской биографии) поданы в виде легкой по тону лекции на философические темы, относящиеся к стратегии жизнеповедения. («Престанем льстить себя мечтою / Искать блаженство под луною!»). Пушкину, несомненно, интересны не столько этико-педагогические рекомендации, сколько тон и конструкция этой «серьезной болтовни» – от столь любимой им игры на перечислениях, в том числе собственных имен (у Карамзина четыре стиха подряд заполнены именами одиннадцати греческих философов), до пародического использования примечаний к стихотворному тексту.
И все-таки есть основания думать, что и в других отношениях стихотворение Карамзина находилось в поле внимания Пушкина около этого времени. Во всяком случае одну строку он применил к персонажу «Безверия»148 (полугодом позднее второго послания к В. Л. Пушкину) и впоследствии обращался к ней неоднократно. Логика эпизода с «Безверием» представляется следующей.
Карамзин ничего не говорит о вере и религиозных переживаниях. Упоминаются, для примера и назидания, только пустынники, поскольку основная цель автора – отговорить адресата от одиночества и затворничества, убедить его жить обычной жизнью: «Добра не много на земле, / Но есть оно – и тем милее / Ему быть должно для сердец», тогда как «пустыннику явятся / Химеры, адские мечты, / Плоды душевной пустоты <…> В тоске он жизнь свою скончает!» – и часто в безумии, добавляет Карамзин в (непародическом) примечании. Пушкин, который в первом же лицейском стихотворении («К Наталье») называет себя монахом, затем в послании «К сестре» – чернецом, во втором послании к В. Л. Пушкину – «пустынник<ом>-рифмоплет<ом>» (то, что Тынянов называл – «лицейский грим»149), парадоксальным образом делает в «Безверии» отшельником не экстатически верующего, а страдающего от собственной неспособности уверовать. Выпускник лицея (как известно, он читал это стихотворение на экзамене по русской словесности) говорит о невере, опираясь на карамзинскую строку: «Взгляните – бродит он с увядшею душой, / Своей ужасною томимый пустотой» (I, 255; здесь, в частности, увядшею отвечает плодам в цит. карамзинской строке; в поздней редакции эти стихи, в числе некоторых других, устранены).
Таким оказывается, по крайней мере на риторическом уровне, первоначальный исток всей линии Пленник – Алеко – Онегин. Следующую вариацию карамзинской строки дает уже элегия «Я пережил свои желанья…» (1821), предназначавшаяся для кавказской поэмы (в начале работы над ней): «Остались мне одни страданья, / Плоды сердечной пустоты». В ином лирическом ракурсе «сердечн<ая> пусто<та>» фигурирует в стихотворении того же года «К моей чернильнице». Наконец, онегинские вариации: «И снова преданный безделью, / Томясь душевной пустотой» (1, XLIV), – затем о героине, по контрасту и к герою (речь идет о чтении того и другой, что дает возможность сопоставления), и к Карамзину: «Плоды душевной полноты» (3, X)150. Ср. тютчевскую строку «Тех лет душевной полноты» в «Я встретил вас…» (при: «Растленье душ и пустота, / Что гложет ум и в сердце ноет» в «Над этой темною толпой…»).
1. Во II сцене «Каменного гостя» один из гостей Лауры произносит афоризм, который, как известно, Пушкин ранее (1828) записал в альбом Марии Шимановской, а позднее (1832), заменив одно слово, – в альбом П. А. Бартеневой151. Предмет афоризма – близкие, но состязательные отношения музыки (пения) и любви, шире – коллизия мелоса и эроса: «Из наслаждений жизни / Одной любви музыка уступает; / Но и любовь мелодия…». Эта коллизия занимала Пушкина начиная с ранних опусов и получила у него значение куда более важное, чем представляется по реплике, вскользь брошенной безымянным персонажем, и альбомным записям (хотя сам факт дублирования записи может указывать на значение, которое придавалось афоризму). Допустимо говорить об устойчивой сквозной метадиаде – мотивной, тематической, сюжетной, – так или иначе реализуемой во множестве текстов, от лицейского стихотворения «Слово милой» (1816) до Маленьких трагедий, включая сюда и разнообразные манифестации я, как чисто лирические (в частности – но далеко не только – мадригального типа), так и от лица повествователя (в поэмах и «Онегине»). В данном конкретном смысле скромное лицейское стихотворение (которое поэт не стал печатать) является инициальным текстом и потому заслуживает большего внимания, чем обычно ему уделяется.
Лирический сюжет «Слова милой» («Я Лилу слушал у клавира…») в точности предвосхищает альбомную формулу (это обстоятельство обычно не фиксируется комментаторами ни «Каменного гостя», ни лицейской лирики): здесь разыграно состязание между мелосом и эросом, каждый из которых представлен женским персонажем. Второй из них (заочный) связан любовными отношениями с «я» (слушателем), который и выступает небеспристрастным арбитром. В первом катрене слушатель восхищенно описывает пение Лилы; в следующих пяти стихах, перенеся акцент на собственную реакцию («Упали слезы152 из очей»), продолжает эту тему, но заканчивает резким предпочтением своей возлюбленной – певице, т. е. выбором, соответствующим будущей максиме «одной любви музыка уступает». Пуант образован не только противопоставлением обычной речи искусному пению, но и обыгрыванием возможности двоякого употребления слова милая – как определения (эпитет певицы в 6‐м стихе!) и как самого именования женщины, в свою очередь либо местоименного (преимущественно вокативного), либо синонимического к любимая, возлюбленная153.
Состязательный характер ситуации выявляется лишь с введением в финале второго женского персонажа. Текст приобретает вместе с тем второе жанровое измерение: мадригал, получающий подлинного адресата, приближается к элегии (стихотворение и значится в известном перечне лицейских элегий)154, притом ситуация с двумя героинями (а «побежденная» певица явно достойна любви, и само ее имя перекликается с милая) нетривиальна для этого жанра, каким он складывался тогда у Пушкина.
2. Логическую схему такого соотношения эротического и художественного начал, при котором первое «заменяет» собой второе, Пушкин мог найти в незадолго до того (1815) опубликованном мадригале Жуковского:
Хваля стихи певца, ты нас сама пленяешь
Гармонией стихов;
И, славя скудный дар его, лишь убеждаешь,
Что твой, а не его родной язык богов155.
Искусство здесь персонифицирует собою сам поэт, и он так же «уступает» речам дамы, как пушкинская Лила будет побеждена «словом милой». Но Жуковский сочинял чистый мадригал и галантно одарил адресата собственным достоянием – лицеист не галантен, а главное, он обостряет ситуацию, выставляя против «языка богов» (которым владеет певица) обыденное слово156.
3. «Слово милой» известно в двух редакциях (вторая – также лицейского времени, см. I, 209 и 716). Замысел, композиция (4-стишие + 5-стишие, образованное добавлением ко второму катрену еще одного стиха, рифмующего с двумя средними в этом катрене), финальное разрешение остались неизменными. Заметим, касаясь строфической композиции, что в обеих редакциях три заключительных стиха (вердикт судьи состязания) образуют особое единство, претендующее на статус малой строфы, – она скреплена, помимо концевой рифмы, парой начальных, тавтологически рифмующих словоформ 7-го и 9-го стихов: прелестен – прелестней, последний, 9-й стих, начинающийся со сравнительной степени прилагательного, приобретает иконическое значение некой меры воспеваемого качества: прелестней на этот «лишний» стих.
Изменения же относительно первой редакции были внесены стилистические, а также затронули фонику стихотворения. Уменьшено количество лексических повторов, возможно потому, что оно могло бы оцениваться как чрезмерное и/или как показатель недостаточности средств тематического варьирования. В частности, устранен трижды на 9 строк употребленный эпитет волшебный, в том числе (возможно, под влиянием пометы Жуковского157) формы, которые могли казаться сомнительными, отступающими от грамматического узуса, – краткая и сравнительной степени. Троекратное употребление (считая заглавие158) разрешено только слову милая, с игрой на грамматической и семантической дифференциации (о чем см. выше). Устранение указанных повторов расподобляло катрен и 5-стишие, особенно существенно – в описании пения (голоса): в измененной редакции 5-стишия нет признаков, использованных в катрене (таких было два – волшебный, нежный).
Это описание в обеих редакциях основывается на сравнении. Первоначальная конструкция: «Ее <…> глас / Волшебной грустью нежит нас, / Как ночью веянье зефира» – была значительно упрощена за счет устранения центральной части (грустью нежит) и замены собственно сравнения: вместо сложного (сенсуальное + спиритуальное) окказионального признака, приписанного зефиру, дан максимально ясный и традиционный – пенье соловья159. Однако это упрощение компенсировано тем, что конструкция сравнения включает теперь два варианта: «соловей <…> / Или полунощная лира»; второй – после природного признака в предыдущем стихе – дает признак культурный (Эолова арфа; одноименная баллада – шедевр Жуковского – была тогда литературной новинкой, опубл. – 1815).
Что касается фоники – возможно, было сочтено чрезмерным добавление к форсированной инструментовке на л 1-й строки (и заглавия – на эту роль л обращал внимание Блок в своих примечаниях к стихотворению в первом томе Венгеровского издания, 1907) еще и л’э, ла во 2-й. Вместо этого в измененной редакции – более сложное построение с градацией: после скопления л в заглавии и зачине следует «перерыв» во 2-м стихе (здесь повтор п) и только потом, в 3–4-м стихах, снова нагнетается л; сильнее – в 4‐м, поскольку повтор захватывает здесь все три слова, благодаря чему эта строка, замыкая строфу, корреспондирует с начальной, организованной подобным же образом (подобие поддержано тем, что в обоих случаях в середине стиха, в третьей стопе, – шипящий).
Соловей, меняющий (в 3-м стихе) конструкцию сравнения, анаграмматически указывает на первую лексему заглавия; она же в 8-м стихе переводит текст в финальную фазу. Метрически безударное близ актуализировано как содержащее слог имени Лила. Эта игра подхвачена в следующей, 4‐й строке, начатой с аналогичной актуализации служебного или (где на фоне словарного ударения на первом и возникает метрически обусловленное на втором), после чего ‘лу’ в соседнем слове полунощная отсылает ко второму слогу основного имени, заданного зачином, а последнее слово строки – лира – паронимически с этим именем перекликается. Разыгрывание имени акцентирует обеспеченную рифмой и фоникой соотнесенность первой и последней строк катрена. Лира дает смысловое обогащение рифмы – по музыкальному признаку, при некотором фоническом обеднении, поскольку уходит перекличка опорных согласных прежней пары клавира – зефира, что отчасти компенсировано в новой редакции подключением к собственно рифменному созвучию опять-таки л обоих концевых слов. Сверх того, первый и последний стихи рассматриваемого катрена содержат каждый внутреннюю рифму: первый в виде совпадения и ударного, и предударного гласного (Я Лилу – клавира); последний – в виде совпадения ударных слогов (или – лира). Наконец, следует отметить и рифменные подобия по диагонали строфы: Я Лилу – лира; клавира – или.
5–6-й стихи не изменились в новой редакции, но их фоника теперь непосредственно продолжает аллитерирующую цепочку с л (упали слезы, сказал, милой). Особо следует учесть слезы – продолжение отмеченной выше связки слово/соловей. 6-я строка принимает эстафету ударных и, а также подтверждает соответствующую рифмообразующую тенденцию. 7-й стих вводит две новые слоговые комбинации с л, используя не встречавшиеся в предыдущем тексте в таком сочетании гласные: прелестен, унылый. При этом активизируется н, что сближает фонетический рисунок стиха с первоначальной редакцией; но группа ун корреспондирует с измененной 4-й строкой (унылый – полунощная).
Как и в первой редакции, 6–9-й стихи активизируют также ы – благодаря цепочке милый – унылый – Лилы и специфической форме генитива – милыя. Все это построение акцентированно разыгрывает заданную первой строфой и узловую для лирического сюжета (состязание) звуковую близость (мы уже отмечали ее) Лила – милая.
4. Первоначально отношения эроса и мелоса получили у Пушкина другое жанровое выражение – в значительно более простом по замыслу и ученическом по исполнению стихотворении «К молодой актрисе» (1815). Здесь нет состязания, есть некое обыкновение, соприродное человеку: «миленькая актриса» плоха на сцене (включая вокал: «Поешь – и часто невпопад»), но легко пленяет зрителей – «другую б освистали: / Велико дело красота». В соответствии с основной авторской позой доэлегического периода поэт одновременно и насмешничает, и воспевает главенство эроса на мировом театре.
В элегической полосе (т. е. в текстах 1816–1817 гг., непосредственно окружающих «Слово милой») Пушкин вслед за Батюшковым ставит в связь эрос и творческий дар поэта: лира зависит от любви («Разлука», «Любовь одна – веселье жизни хладной…», «Я думал, что любовь погасла навсегда…»), диктующей свою «мелодию» и погашающей иные; любовная неудача отнимает стихотворную способность – «И умер глас в бесчувственной струне» («Опять я ваш, о юные друзья!..»).
5. В послелицейских стихах обнаруживаются разнообразные – в диапазоне от комического до элегического – вариации метадиады. Наиболее явный случай – концовка послания А. И. Тургеневу (1817): «Поэма никогда не стоит / Улыбки сладострастных уст»160. Здесь поэма соответствует пению Лилы (или языку богов в приведенном мадригале Жуковского), улыбка – слову возлюбленной (или речам дамы у Жуковского). При этом в нескольких предшествующих строках (готовящих финальный пуант) Пушкин ставит себя в положение героини послания «К молодой актрисе»: «Что нужды, если и с ошибкой / И слабо иногда пою? / Пускай Нинета лишь с улыбкой / Любовь беспечную мою / Воспламенит и успокоит!»
Служение эросу декларирует повествователь в посвящении «Руслана и Людмилы», а в зачине песни шестой он разыгрывает внефабульный эпизод на ту же тему. Подруга велит поэту «старинны были напевать», он же «от гармонической забавы <…> негой упоен, отвык». Вводится мотив оскудения творческого дара (элегический, в отличие от шутливого, культивировавшегося в посланиях, извод автоуничижения), с очередной декларацией владычества эроса: «Любовь и жажда наслаждений / Одни преследуют мой ум» – но тут же следует обращение к мелосу (причем повествователь включает и второй извод автоуничижения – «мой легкий вздор», «влюбленный говорун»), чтобы, продолжая служение эротической повелительнице, возобновить рассказ: «Сажусь у ног твоих и снова / Бренчу про витязя младого». Возобновленный союз, собственно, реализует мадригальное посвящение к поэме (отсюда недалеко до известного утверждения о «Бахчисарайском фонтане», украшенного цитатой из А. Шенье, в письме А. Бестужеву от 8 февраля 1824 г.161).
Но метадиада реализуется в поэме и вне речи повествователя. В песни четвертой, в акцентированном эпизоде, пародирующем Жуковского, появляется поющая дева – воплощение эроса и мелоса, наподобие Лилы, если не будущей Лауры. Ратмир поддается чарующему пению, уступая, так сказать, обоим сильнейшим «наслаждениям жизни», и забывает прежнее влечение, в противоположность слушателю в «Слове милой»162.
6. Союз эроса и мелоса может быть воплощен в персонаже, как в этом случае или «Бахчисарайском фонтане»:
либо прямо заявлен в речи ‘я’ поэта. Само владение стихом – «судьбою вверенный мне дар» – поэт может трактовать в качестве орудия эроса: «Письмо любви ты разорвешь, / Но стихотворное посланье / С улыбкой нежною прочтешь» («Увы! Язык любви болтливый…», 1828, – известное лишь в черновом виде, стихотворение очень близко в указанном смысле к обсуждавшимся выше фрагментам «Руслана и Людмилы», в частности посвящению). В «природе вещей» заложено сродство искусства и любви164: «Но сладок уху милой девы / Честолюбивый Аполлон. / Ей милы мерные напевы, / Ей сладок рифмы гордый звон» (там же).
В стихах «Ел. Н. Ушаковой в альбом» нагнетение мадригальных портретных комплиментов завершается портретной же реализацией остроты из давнего послания к А. Тургеневу (или, схематически говоря, амплификацией мадригала Жуковского «К неизвестной даме») – красавица присваивает себе в глазах поэта гармонию природы и искусства (как Мария крымской поэмы):
<…> ваши алые уста
Как гармоническая роза…
И наши рифмы, наша проза
Пред вами шум и суета.
7. В том же 1828 г., когда Пушкин воспел Ушакову и сделал запись в альбоме Шимановской, было написано стихотворение «Рифма, звучная подруга…», в высшей степени важное под нашим углом зрения, – не только тем, что метадиада реализована в лице ‘я’ поэта, говорящего о своем искусстве и ремесле, но и тем, что она включается в индивидуальную мифологию, которая здесь же представлена в виде особого повествовательного фрагмента.
Стихотворение четко делится на две части по 4 шестистишия каждая. В первой любовная связь (‘я’ и подруги) – это иносказательная интерпретация отношений поэта с собственным даром, со стихией мелоса. Рифма – синекдоха мелоса – наделена женскими чертами, тогда как поэт – «любовник добродушный». Во второй части шутливое иносказание тематически резко, но благодаря строфической организации текста плавно уступает место условно мифологическому рассказу о любви Аполлона и Мнемозины, с условной же, что в этом случае выражено синтаксически, апелляцией к авторитетам древности («Так поведали бы миру / Гезиод или Омир»)165. Искусство и любовь, какими их знает поэт, связаны общим происхождением от «олимпийской семьи», от «бога лиры и свирели» и его избранниц. Несомненно, что оттуда ведет свое родословие и сам поэт, оказывающийся инкарнацией «бога света и стихов». Эта лирическая генеалогия имеет мало общего с позднейшей социоисторической – тем не менее общность есть, и она существенна в пушкинской картине мира: неизменен генеалогический принцип и параллельны поиски «своего» (нужного) древнего прошлого в «очарованной дали» европейского ли баснословия или русской истории.
Близкий случай (но за вычетом «древности») отождествления мелоса и эроса под знаком ‘я’ поэта – в 8-й главе «Евгения Онегина», где повествователь говорит о своей музе, сначала несколько сходно с одноименным стихотворением 1821 г., а затем совершенно иначе – подобно тому как в стихотворении 1828 г. о рифме. Муза оказывается опять-таки подругой и напоминает окруженную поклонниками Лауру:
<…> в безумные пиры
Она несла свои дары
И как вакханочка резвилась,
За чашей пела для гостей,
И молодежь минувших дней
За нею буйно волочилась,
А я гордился меж друзей
Подругой ветреной моей.
8. Однако метадиада находила себе контексты, достаточно далеко отстоящие от гедонистической формулы, фигурирующей в пьесе и в альбомных записях. Стихотворение «О дева-роза, я в оковах…» (1824, первоначально опубликовано Пушкиным под названием «Подражание турецкой песне») дает предвечной связи искусства и любви стилизованное эмблематическое выражение, заимствованное из восточной (персидской) традиции (соловей и роза). Поразительно, что в другом лирическом тексте, именно озаглавленном «Соловей и роза» (1827), тот же код использован для рефлексии, совершенно чуждой этой традиции, но занимающей новейшую европейскую поэзию, – о назначении поэта и непонимании его читателем-слушателем («толпой»):
Не так ли ты поешь для хладной красоты?
Опомнись, о поэт. К чему стремишься ты?
Она не слушает, не чувствует поэта;
Глядишь, она цветет; взываешь – нет ответа.
Хладная красота, некий ущербный эрос, нарушающий контакт с мелосом, неожиданно оказывается здесь фактически вариантом народа, определяемого в программном стихотворении этого времени «Поэт и толпа» («Чернь») как «хладный и надменный <…> непросвещенный» (цит. концовка «Соловья и розы», уже безотносительно к эросу, варьирована позднее в «Эхе»: «Тебе ж нет отзыва… Таков / И ты, поэт!»).
В противоположность «хладной красоте» в мире существует эрос понимающий, героиня способна не только принимать поклонение и наслаждаться звоном рифмы, но – «чувствовать поэта». Об этом еще ранее сказало стихотворение «Кн. М. А. Голицыной» (1823). Как и «Слово милой», оно строится по двум жанровым ориентирам – мадригала и элегии, но не следует вполне ни одному166. Поэт на сей раз в душевном согласии с певицей, и напряжение, не до конца расшифровываемое, выходит на поверхность лишь в одном стихе (13‐м) и одним словом. «Довольно!» – обрывает себя говорящий, отказываясь от более определенной прорисовки отношений (может быть, и от романических аллюзий). Продолженная после обрыва и синтаксической паузы речь представляет их более сложно, чем в предыдущем тексте. Эта сложность, усиленная неопределенной модальностью концовки (притом в синтагме, говорящей о вдохновении, что, казалось бы, исключает неопределенность), приглушает намеченную было любовную «мелодию». Скорее мужской (‘я’) и женский (адресат) персонажи заключают здесь некий возвышенный союз, будучи причастны каждый к универсальным началам эроса и мелоса.
Сходная конвенция, но при большей дистанции между поэтом и адресатом, лежит в основе (в данном случае предшествуя тексту, а не следуя из него) стихотворения «Княгине З. А. Волконской при посылке ей поэмы „Цыганы“» (1827). Отсутствие какой-либо конфликтности приближает текст к мадригалу, однако любовная тема редуцирована. Стихотворение написано «на случай», объясненный в заглавии и мотивирующий упоминание «цыганки кочевой» в концовке. Но интересно, что «египетские девы» с их хореографией появляются задолго до поэмы – уже в послании Никите Всеволожскому (1819). Хотя здесь это только бытовая черта – специфическая примета московского «досуга», «исступленные движения» и «звонкие напевы» цыганок, заставляющие трепетать зрителя, являют то естественное единство эроса и мелоса, которое труднодоступно человеку цивилизации и достижимо лишь для избранных (З. А. Волконская – «царица муз и красоты»), в воображаемом художественном мире, а в реальности приблизиться к нему возможно тяготеющим друг к другу натурам через ряд тонких психологических коллизий («Кн. М. А. Голицыной»).
Бытовые московские картины послания Всеволожскому (см. II, 604–605) складываются в своего рода идиллию (вроде «Жизни Званской», но не покойной поместной, а разгульной столичной и не почтенного главы семейства, а молодого «сына пиров»), однако Пушкин вводит и момент состязательности, отчасти сходный с тем, что дан в «Слове милой»: зажигательным цыганкам противопоставлена безмолвная петербургская скромница, кротко ожидающая возвращения возлюбленного.
9. Тот же естественный синкрезис эроса-мелоса, открывающийся восхищенному зрителю в «египетских девах», оказывается присущ «идеальной» туземной героине первой южной поэмы и позволяет преодолеть языковой и психологический барьер, разделяющий ее с Пленником:
На нем покоит нежный взор;
С неясной речию сливает
Очей и знаков разговор;
Поет ему и песни гор,
И песни Грузии счастливой
И памяти нетерпеливой
Передает язык чужой.
(«Черкесская песня» далее дана от повествователя, но читатель мог думать, что Пленник слышал ее от «девы гор».)
Ситуация любовного раздвоения героя (не позволившая ему ответить на чувство Черкешенки) имеет прецедентом послелицейское стихотворение «Дорида» (1819), а позже в трансформированном и концентрированном виде и с выдвижением мелоса на первый план разыграна в «Не пой, красавица, при мне…»167 (1828). Трансформацию можно представить, если в порядке гипотетического прочтения допустить, что пение или даже именно «песни Грузии счастливой»168 (для юной Черкешенки Грузия – неблизкий южный край, почти так, как для Лауры Париж – «далеко на севере») как-то ассоциировались у Пленника с романическими «воспоминаньями прошлых дней» (скажем, его возлюбленная владела искусством пения, т. е. в поэме может читаться ситуация, сходная с коллизией будущего стихотворения). Это допущение не слишком произвольно сопоставляет два текста: как известно, в отброшенной строфе стихотворения («Напоминают мне оне / Кавказа гордые вершины» и т. д.) фигурируют соплеменники горской девы – «лихи<е> чеченц<ы>». В противоположность «Слову милой» мелос здесь не «уступает» эросу, хотя эта «неуступчивость» – во имя эроса. Равновесие могущественных сил создает для ‘я’ заколдованный круг. Тем яснее связь с ранним прообразом: реализовано намеченное там соединение мелического и эротического в лице поющей; повторена двоичность женских персонажей, усложненно противопоставленных теперь в новом, более изощренном варианте состязания, по признакам ‘настоящее – прошлое (живущее в памяти)’ и ‘реальное (телесное) – призрачное’.
10. И в «Цыганах» «дикарка», связанная любовными отношениями с русским европейцем-изгоем, поет ему песню своего племени, но здесь пение оказывается знаком конца любовной гармонии и предвещает убийство169. Сюжетная функция пения Лауры, в сущности, близка к этому, хотя и более завуалирована (в частности, ретардацию осуществляют разговоры Лауры с гостями; она, кстати, говорит о естественном синкрезисе – подчеркивает «натуральность» своего сценического поведения: «Слова лились, как будто их рождала / Не память рабская, но сердце…»). Пение Лауры (на стихи Дон Гуана) прямо сменяется – в пределах одной сцены – «мелодией» самого эроса, тем самым афоризм гостя (=запись в альбоме Шимановской) оказывается непосредственно разыгран. Роль мелоса здесь кончается: как в «Цыганах» – и, конечно, «Клеопатре», – сила, соразмерная эросу, трансвитальна – это танатос.
Трансвитально – или (по)гранично – все происходящее и говоримое в «Пире во время чумы». Здесь мелос представлен двумя персонажами, каждый из которых выступает со своим произведением. Если помнить об инициальном лицейском тексте, то «задумчивая Мери» (как красавица, певшая грузинские песни) соединяет черты Лилы и милой (каковой, в качестве временной подруги, она, возможно, является для Вальсингама; он и обращается к ней так, хотя, конечно, здесь вероятно местоименное употребление слова). Мери поет народную («простую пастушью»)170 песню – подобно Черкешенке и Земфире; «дикое совершенство», как оценивает Вальсингам ее пение, – очевидное превращение реплики Алеко «Я диких песен не люблю». Эрос, казалось бы, принижен, воплощаемый уличными женщинами, однако при этом представление о любви за гробом в песне Мери («Но Эдмонда не покинет / Дженни даже в небесах») отвечает на вопрос, который возник в незаконченной «Тавриде» и сводил бессмертие души к любовной памяти («Во мне бессмертна память милой, / Что без нее душа моя?») – и вокруг которого потом написаны «Надеждой сладостной младенчески дыша…» и «Люблю ваш сумрак неизвестный…». Лирическая танатология 10–20‐х гг. (от лицейского «Безверия» до «Заклинания» и «Для берегов отчизны дальной…») встречается с поздней драматургической. После Маленьких трагедий танатологическая интерпретация эроса (в духе Вальсингамова гимна «неизъяснимы<м> наслажденья<м>») была в центре прозаических замыслов, основанных на легенде о Клеопатре («Мы проводили вечер на даче…», «Египетские ночи»).
11. Стоит особо выделить два эпизода 30‐х гг. Один – строфы в «Езерском» о выборе героя поэмы: своеволие и «ветреность» всесильного эроса поэт присваивает мелосу, ближайшим образом применяя эту привилегию к праву художника руководствоваться исключительно внутренней творческой потребностью, а не привычками публики, – «Затем, что ветру и орлу / И сердцу девы нет закона. / Гордись: таков и ты, поэт, / И для тебя условий нет». В силу этой интенции поэта деву предваряет (в той же строфе) литературная героиня («Зачем арапа своего / Младая любит Дездемона <…>?») – вариант привлекавшего Пушкина с лицейской поры отождествления мелического и эротического. Здесь это отождествление вошло в состав эстетической декларации, восстанавливающей близость, нарушенную было в ориентальном стихотворении 1827 г. (цит. выше); дева теперь отделена от толпы и заново входит в симфонию искусства и природы. Не исключена, учитывая сказанное в примеч. 22 и очевидную возможность идентификации поэта как «арапа», связь Дездемона / моя Мадона – тогда адресат сонета 1830 г. окажется в поле того же отождествления.
Другой эпизод связан, собственно, с историей текста «Легенды» («Жил на свете рыцарь бедный…»)171 – с включением ее второй редакции в «Сцены из рыцарских времен». В контексте приведенных соображений существенно не то, что в финале стихотворения было снято небесное заступничество за «странного человека», и не то, что он в конце концов поименован безумцем, а то, что эта «мелодия» соседствует в «Сценах» с противоположной (контраст тем более резок, что обе написаны одним размером). По сути дела, миннезингер – носитель мелоса – разыгрывает своими двумя песнями ирои-комическую интермедию (вполне завершенная часть незаконченной пьесы!), представляющую двуполярную картину мира эроса172. Простодушные слушатели понимают ее в примитивно эмоциональном ключе: одна песня «слишком заунывна», другая – веселая и вызывает дружное одобрение (вдобавок фабульная ситуация заставляет воспринимать анекдотическую эротику Франца как юмор висельника). Авторская же конструкция имела в виду, скорее всего, не простой эмоциональный поворот, а столкновение высокого и низкого, индивидуально-героического и заурядно-обыденного173.
Перечитывая Батюшкова
Среди примеров того, как история литературы подтверждает мнения современников (в отличие от тех случаев, когда она судит иначе), один из самых бесспорных и важных – оценка творчества Жуковского и Батюшкова как нового этапа русской поэзии. «Стихотворения» Жуковского (1815–1816) и «Опыты» Батюшкова (1817) возвестили начало в литературе «не календарного, настоящего» XIX века.
Сейчас уже ушли в прошлое представления о некоем литературном безлюдье, прозябавшем, пока престарелый Державин не благословил молодого гения, – стихотворная жизнь была активно и художественно разнообразна. Но именно Жуковский и Батюшков – «сии утвердители новейшего языка поэзии нашей», по словам П. А. Плетнева, – внесли в это разнообразие мощную центральную тенденцию174, что очень быстро было осознано как свершившийся литературный факт, а впоследствии – и как факт, определивший пути русского стиха на столетие вперед.
История литературы не располагает всесторонним филологическим описанием сделанного двумя поэтами, но главные пункты их преобразовательной работы очевидны – стихотворный язык и эвфония. «Язык поэзии у всех почти народов есть язык особенный», – писал Гнедич в 1814 г. (предвосхищая тезис научной поэтики XX века). Жуковский и Батюшков выработали новый «особенный язык», который не только звучал иначе, чем у Державина, и признавался более гибким, тонким и «музыкальным», чем у их непосредственных предшественников Карамзина, Дмитриева, Муравьева, но и внушал современникам впечатление постижения тайны языка. Среди тех, кто разделял это впечатление, – Пушкин, который, как известно, отказывал Державину в гармонии и знании «духа русского языка», а себя считал учеником Жуковского, называя его и Батюшкова основателями «школы гармонической точности». Читая Державина, писал Пушкин Дельвигу в 1825 г., «кажется, читаешь дурной, вольный перевод с какого-то чудесного подлинника». В его понимании «подлинник» открывают Жуковский, Батюшков и он сам. При этом он вовсе не развенчивал Державина, не переставал считать его гениальным, а только подчеркивал различие между ним и молодым литературным поколением. Замечательно совпадение шаржированных характеристик Державина у Батюшкова и Пушкина. В январе 1813 г. Батюшков писал Н. Ф. Грамматину о Державине: «не зная русской грамоты, пишет, как Гораций». Через 12 лет Пушкин (в том же письме к Дельвигу): «Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка». Если достижения Державина Пушкин видит в «мыслях, картинах и движениях истинно поэтических», в «поэтической дерзости», то создание слога, т. е. «особенного» языка (что должно обогатить, развить и язык общенациональный), и преломление его в полученном от XVIII века механизме стиха – задачи новой школы. Этот угол зрения Пушкин сохраняет и тогда, когда пишет, что «Батюшков, счастливый сподвижник Ломоносова, сделал для русского языка то же самое, что Петрарка для итальянского», и тогда, когда испещряет поля «Опытов» то восторженными, то суровыми замечаниями.
Взаимные отношения языка и поэзии – постоянная тема литературных размышлений Батюшкова. В его программной «Речи о влиянии легкой поэзии на язык» (читанной в 1816 г., а затем открывавшей «Опыты») распространенная тогда мысль о том, что за военным триумфом России должны последовать реформы на гражданском поприще, принимает характерный оборот: «…обогатите, образуйте язык славнейшего народа … поравняйте славу языка его со славою военной, успехи ума с успехами оружия».
Насколько он был «лингвистичен», показывает известное письмо к Гнедичу (1811) с жалобами на русскую фонетику: «Что за ы? Что за щ? Что за ш, ший, щий, при, тры? О варвары! А писатели? Ну Бог с ними!» На практике он, разумеется, исходил из того, что дано в языке, и среди основных его поэтизмов «варварски» звучащие «шалаш» и «хижина». В одной из изящнейших своих элегий Батюшков инструментует центральную строку как раз на ж, ш, ы: «Но ты приближилась, о жизнь души моей» (отвергая именно возможность избежать лишнего ы, употребив форму «приблизилась»). Современников, однако, восхищали иначе звучащие батюшковские строки – те, в которых Пушкин, Жуковский, Плетнев слышали «звуки итальянские» (Пушкин написал это по поводу 9‐й строфы стихотворения «К другу»). Не углубляясь в специальные вопросы175, следует подчеркнуть, что, как бы ни звучало то или иное стихотворение, эвфоническое задание было подчинено общему принципу карамзинистского «вкуса»: текст должен быть ясен и удовлетворять требованиям просвещенного «здравого смысла». Поэтому, скажем, «итальянский» эффект заведомо не должен был достигаться каким-либо экспериментальным словесным построением – действовал эстетический запрет, лишавший подобные построения художественной ценности (принципиальное отличие от вкусов других эпох, в том числе XX века). Характерный для Батюшкова эпитет «сладостный»176 – столько же важен в его поэзии, как «роковой» у Тютчева, – описывает и желаемое для автора восприятие стиха читателем, желаемую реакцию на «язык особенный», переживаемый «любителем муз» как наслаждение.
«Лишь то, что писано с трудом, читать легко», – утверждал Жуковский в послании Вяземскому и В. Л. Пушкину. Батюшковское искусство этого труда ценилось очень высоко. Н. Ф. Грамматин составил такую «Надпись к портрету Батюшкова»:
Талант, приятность, вкус пером его водили,
И признаки труда малейшие сокрыли.
Ценилась иллюзия естественности, «небрежности» (это был почти эстетический термин), как, например, в типично батюшковских стихах, вставленных в письмо к Д. В. Дашкову от 25 апреля 1814 г.:
Походка, легкий стан,
Полунагие руки,
И полный неги взор,
И уст волшебны звуки,
И страстный разговор.
Здесь по видимости простое, легко набросанное перечисление портретных черт связано воедино очень тонко и тщательно стержневой смыслозвуковой скрепой: полунагие – и полный неги (с игрой на полноте и половине), которая поддержана начальными слогами остальных строк – по и два и (слоги, специально сближенные в начале третьей строки). При этом и проходит через все пять строк.
При всей очевидной для современников близости литературного дела Жуковского и Батюшкова столь же очевидны были различия, суммировавшиеся в ряду таких противопоставлений, как «небесный – земной», «мистический, идеальный – пластический, телесный», «туманный – ясный», «северный» (то есть ориентированные на английскую и немецкую литературы) – «южный» (ориентация на французские и итальянские образцы и Античность). Так судили, в частности, Белинский и Гоголь. И хотя Жуковский много переводил с французского и писал «античные» баллады, а Батюшков не только поклонялся Тассо, Ариосто и Петрарке, но и увлекался Оссианом, – эти противопоставления точно передают несходство двух художественных миров.
Мир Батюшкова – это прежде всего эротическая (или несколько шире – «легкая», по его определению) поэзия, которых мыслится как особая, самостоятельная область мировой литературы, равноправная с поэзией высокого строя – героической, батальной, гражданской. Это разделение важнее для него, чем вся разветвленная жанровая номенклатура эпохи. Внутри же «легкой поэзии» Батюшкова в свою очередь выделяются две линии – анакреонтика и элегия.
Первая определилась около 1810 г. С именем древнегреческого поэта, которого Батюшков в своей «Речи» ставит у истоков «легкой поэзии», она связана условно и символически, как было и в европейской литературе. Поэтому в качестве анакреонтических могли осмысляться и переводы из Парни. Лицеист Пушкин называет Батюшкова «наш Парни российский», а в следующих строках возводит его к Анакреону: «певец Тииский / В тебя влиял свой нежный дух». Большинство переводов Батюшкова, в той же степени, что и переводы Жуковского, были самостоятельными фактами русской поэзии – «образование» языка оба совершали, перерабатывая инолитературный материал. Составляя в 1810 г. список своих произведений, поэт выделяет рубрику «Анакреон» и в нее вносит «Веселый час», «Ложный страх», «Привидение», «Источник», «Элизий» и др.177 Сюда же, конечно, относится «Радость», о которой Пушкин заметил: «Вот батюшковская гармония», – оценка особенно интересная потому, что стихотворение необычно для Батюшкова отсутствием рифм и метром – к трехсложным размерам он обращался редко.
Во всех этих стихотворениях не ставилась задача имитации античных образцов либо строгой передачи французского или итальянского текста (достаточно сказать, что «Источник» – переложение прозы Парни)178. Создавался условный, составляемый из повторяющихся элементов лирический мир – мир эроса, в котором культ быстротечных земных наслаждений возводится к античным символам: Киприда, Вакх, Эрато, или – в том же ряду! – «С Делией своей Гораций», или: «В забвенье сладостном, меж нимф и нежных граций, / Певец веселия, Гораций». Словесный материал, которым оперирует Батюшков в анакреонтике, строго отобран и очень невелик. И хотя «Радость» написана от лица греческого «юноши», а «Веселый час» – как обращение автора к друзьям, – жанровый ключ здесь один. В этом ключе «я» обоих стихотворений в сущности тождественны.
Именно на анакреонтической основе Батюшков строит свою «литературную личность» в знаменитом послании «Мои пенаты», откуда она входит и прочно закрепляется в поэтическом сознании эпохи. Вокруг авторского «я» сконцентрированы в послании все основные лирические темы Батюшкова. Прежде всего воспета хижина (хата, шалаш) поэта, противопоставленная вельможному дому, дворцу (мотив, распространенный уже в литературе XVIII века) и символизирующая личную независимость, свободу от «придворных уз», от борьбы за богатство и почести. Это одна из первых устойчивых тем Батюшкова – так, в раннем сатирическом послании «К Филисе» фигурирует «независимость любезная» и в аналогичном смысле – далеком от радищевского или декабристского, но близком к позднепушкинскому – «вольность – дар святых небес». В «Пенатах» эта тема дана в смешанном, подчеркнуто двойственном «русско-античном» освещении (что было начато Державиным в «Анакреонтических песнях»). Эротическая часть послания, введенная как травестия традиционного эпического мотива (женщина, переодетая воином), в литературной перспективе 1810–1820‐х гг. предстает авторитетным образцом «легкой поэзии». Женский портрет, эротические перифразы, подача обстановки и пейзажа – все эти достижения Батюшкова делались предметом подражания, а затем поэтическими общими местами. «Я Лилы пью дыханье / На пламенных устах, / Как роз благоуханье, / Как нéктар на пирах!..» – в этих строчках целая эпоха русской стихотворной фразеологии.
Если в зачине «Пенатов» поэт просит богов – покровителей домашнего очага: «будьте тут доступны, благосклонны», вслед за эротической частью послания, переходя к другой теме (такие переходы характерны для жанра дружеского послания – «Пенаты» в этом отношении стали образцом), автор говорит о доступности «доброго гения поэзии святой»179. Мифологическая, «античная» близость высших сил выражена и изящной параллелью с эротической частью: там были описаны ночь любви и пробуждение – здесь ночь творчества: «До розовой денницы <…> Парнасские царицы, / Подруги будьте мне!»180 В этой мифологической связи, охватывающей все мироздание, – так неожиданно расширился мир обитающего в «хижине» поэта – существует для него прошлое и настоящее поэзии: «И мертвые с живыми / Вступили в хор един!..»
В середине 1810‐х гг. на ведущее место в жанровой иерархии выдвинулась элегия. В «Опытах» анакреонтика не выделена в особый раздел, как намечено в упомянутом списке 1810 г., частично она попала в раздел элегий – первый и основной в книге. Как часто бывает с терминами, которые у всех на устах, понятие элегии не получило ясного определения в литературных дебатах 1810–1820‐х гг., но современники соглашались в том, что жанр предназначен для выражения «смешанного чувства»181. Благодаря этому признаку мы без особого труда различаем в элегии то, что связывает ее с позднейшей поэзией, тогда как анакреонтика представляется читателю XX века далеким, «музейным» прошлым. Другой признак, который часто характеризовал элегию, – «уныние, меланхолия». Если подойти с этими зыбкими критериями к элегическому разделу «Опытов», то окажется, что и весь этот раздел «смешанный»: под одним жанровым знаком в нем сосуществуют стихотворения «унылые» и противоположного свойства – анакреонтические. Между тем в «Опытах» был еще особый раздел «Смесь», куда тоже попали анакреонтические стихи. По-видимому, в тех случаях, когда фоном эротики или дружеского вакхического действа служили мотивы быстротекущего времени, смерти – так что возникало «смешанное чувство», – автор относил стихотворение к элегиям («Веселый час», «Источник», «Привидение»). Однопланная эротика включалась в «Смесь» («Вакханка», «Радость», «Ложный страх»).
Удивительно стройное композиционное воплощение находит «смешанное чувство» в «Выздоровлении». Стихотворение делится на три части: болезнь – исцеление любовью – новая жизнь. Первая – синтаксически четко расчлененная – занимает восемь стихов. Вторая часть занимает ровно столько же стихового объема, но организована совершенно иначе: эти восемь стихов составляют одну фразу, построенную на перечислении, причем таком, которое убыстряет темп чтения, – возникает синтаксическое и интонационное противопоставление медленной («Уж сердце медленнее билось») и расчлененной паузами первой части. Показательно, что, когда эротическое перечисление завершено, автор вводит другую, контрастирующую с первой перечислительную цепочку (хотя более короткую и состоящую из синонимических обозначений), еще усиливая синтаксическое напряжение: «из области печали, / От Орковых полей, от Леты берегов»182. Лишь после этого следует разрешение. Контраст частей создается и противопоставлением алого цвета, пламени, сверканья в портрете героини – «мраку» первого восьмистишия. Заключительные четыре стиха замедляют темп и восстанавливают синтаксическую расчлененность, причем более дробную, «отрывистую», чем в первой части, поскольку границы предложений совпадают со стиховыми (со строкой или полустрокой). Это еще раз меняет интонационный рисунок. Повторение здесь темы смерти и глагола «увядать» эффектно возвращает к началу и придает композиции кольцевой характер183.
Близость любви и смерти обычна у Батюшкова (в частности, в финалах). Его эрос, «ловя мгновение», обращен к вечности, универсален, и в этой универсальности снято не только противопоставление телесного и духовного, но – жизни и смерти. Эротическое действие выступает как метафора жизни-смерти: «Съединим уста с устами, / Души в пламени сольем, / То воскреснем, то умрем!»184 Поэтому же любовь становится метафорой обладания этическими ценностями – отсюда знаменитые батюшковские формулы: «Найти умел в одном добре / Души прямое сладострастье» (об А. И. Тургеневе); «Он любил добродетель, как пламенный ее любовник» (о М. Н. Муравьеве). Поэтому же героини элегий наделяются божественными признаками. При этом в элегиях в отличие от анакреонтики действуют элементы христианской мифологии, которые либо заменяют античную символику, либо сосуществуют с ней (что вообще характерно для поэтического языка XVIII – начала XIX века). В «Выздоровлении» загробный мир обозначен античными терминами, а жизнь – это «дар благой» героини, которая возводится в ранг высшей творящей силы; ср. в «Элегии», где героиня – «залог … благости творца», и в «Надежде»: «Его все дар благой». В «Тавриде», «Моем гении» возлюбленная – ангел, хранитель.
Словесный материал в «Выздоровлении» и «Моем гении» почти целиком укладывается в два смысловых пласта: эмоциональные состояния лирического субъекта и черты портрета героини. Как и анакреонтика, это искусство избранного (и отчасти общего с ней) словаря, варьирования немногих поэтизмов. Другие элегии написаны несколько иначе.
«Пробуждение» строится как нагнетание именно внешних, вещественных реалий, контрастирующих с внутренней жизнью «я» («Ничто души не веселит»). Тот же принцип негативного нагнетания – в «Разлуке», однако здесь он реализован на значительно более широком материале. Реалии складываются в цельный рисунок, в котором можно усмотреть миниатюрную элегическую перелицовку традиционного эпического сюжета: вместо путешествия в поисках возлюбленной – скитания в попытке исцелиться от любви. Эти реалии даны сложнее, чем в «Пробуждении», – они не только оттеняют чувство «я» и «отрицаются» им, но и представляют объективированное, всеобщее время и пространство. Таковы географические – с севера на юг – и пейзажные приметы, а также упоминание «развалин Москвы», вводящее в текст историческое измерение (ср. далее о древних племенах). Батюшков достигает здесь замечательного равновесия лирического и описательного. Пушкин, написавший на полях «Разлуки»: «Прелесть», близок к батюшковской композиционной схеме в стихотворении «Поедем, я готов; куда бы вы, друзья…».
В «Тавриде» внешний мир не контрастирует, а гармонирует с внутренним миром героя. Стихотворение соединяет мотивы разного жанрового происхождения – вполне в духе характерных для эпохи жанровых смешений. Присутствуют, в частности, сатирические мотивы, идущие из раннего творчества Батюшкова, – выпады против «фортуны и честей», «Пальмиры Севера» (т. е. Петербурга), которой противопоставляется юг, еще несущий для поэта отблеск Античности (см. стихи 3–4). Хотя герои представлены как «отверженные роком», господствует в этой элегии идиллия (соответственно при вторичном упоминании фортуна уже именуется «благосклонной»). Поэтому знаки исторического времени и реальной географии минимальны, роль природных реалий возрастает (по свидетельству Пушкина, автор любил четыре стиха о временах года), героиня дана явно анакреонтически, а не элегически.