Том седьмой
Глава I Государь великий князь Василий Иоаннович (1505–1509)
Василий приял державу отца, но без всяких священных обрядов, которые напомнили бы россиянам о злополучном Димитрии, пышно венчанном и сверженном с престола в темницу. Василий не хотел быть великодушным: ненавидя племянника, помня дни его счастия и своего уничижения, он безжалостно осудил сего юношу на самую тяжкую неволю, сокрыл от людей, от света солнечного в тесной, мрачной палате. Изнуряемый горестию, скукою праздного уединения, лишенный всех приятностей жизни, без отрады, без надежды в летах цветущих, Димитрий преставился в 1509 году, быв одною из умилительных жертв лютой политики, оплакиваемых добрыми сердцами и находящих мстителя разве в другом мире. Смерть возвратила Димитрию права царские: Россия увидела его лежащего на великолепном одре, торжественно отпеваемого в новом храме Св. Михаила и преданного земле подле гроба родителева.

Василий III. Портрет из царского «Титулярника», к. XVII в.
Завещание, написанное сим князем в присутствии духовника и боярина князя Хованского, свидетельствует, что он и в самой темнице имел казну, деньги, множество драгоценных вещей, отчасти данных ему Василием как бы в замену престола и свободы, у него похищенных. Исчислив все свое достояние, жемчуг, золото, серебро (весом более десяти пудов), Димитрий не располагает ничем, а желает единственно, чтобы некоторые из его земель были отданы монастырям, все крепостные слуги освобождены, вольные призрены, купленные им деревни возвращены безденежно прежним владельцам, долговые записи уничтожены, и просит о том великого князя без унижения и гордости, повинуясь судьбе, но не забывая своих прав.
Государствование Василия казалось только продолжением Иоаннова. Будучи подобно отцу ревнителем самодержавия, твердым, непреклонным, хотя и менее строгим, он следовал тем же правилам в политике внешней и внутренней; решил важные дела в Совете бояр, учеников и сподвижников Иоанновых; их мнением утверждая собственное, являл скромность в действиях монархической власти, но умел повелевать; любил выгоды мира, не страшась войны и не упуская случая к приобретениям, важным для государственного могущества; менее славился воинским счастием, более опасною для врагов хитростию; не унизил России, даже возвеличил оную и после Иоанна еще казался достойным самодержавия.
В августе 1506 года король Александр умер: великий князь немедленно послал чиновника Наумова с утешительною грамотою ко вдовствующей Елене, но в тайном наказе предписал ему объявить сестре, что она может прославить себя великим делом: именно соединением Литвы, Польши и России, ежели убедит своих панов избрать его в короли; что разноверие не есть истинное препятствие; что он даст клятву покровительствовать римский Закон, будет отцом народа и сделает ему более добра, нежели государь единоверный. Наумов должен был сказать то же виленскому епископу Войтеху, пану Николаю Радзивилу и всем думным вельможам. Мысль смелая и по тогдашним обстоятельствам удивительная, внушенная не только властолюбием монарха-юноши, но и проницанием необыкновенным. Литва и Россия не могли действительно примириться иначе, как составив одну державу: Василий без наставления долговременных опытов, без примера, умом своим постиг сию важную для них обеих истину; и если бы его желание исполнилось, то север Европы имел бы другую историю. Василий хотел отвратить бедствия двух народов, которые в течение трех следующих веков резались между собою, споря о древних и новых границах. Сия кровопролитная тяжба могла прекратиться только гибелью одного из них; повинуясь государю общему в духе братства, они сделались бы мирными властелинами полунощной Европы.
Но Елена ответствовала, что брат ее супруга, Сигизмунд, уже объявлен его преемником в Вильне и в Кракове. Сам новый король известил о том Василия, предлагая ему вечный мир с условием, чтобы он возвратил свободу литовским пленникам и те места, коими завладели россияне уже после шестилетнего перемирия. Сие требование казалось умеренным; но Василий – досадуя, может быть, что его намерение царствовать в Литве не исполнялось – хотел удержать все оставленное ему в наследие родителем и, жалуясь, что литовцы преступают договор 1503 года, тревожат набегами владения князей Стародубского и Рыльского, жгут села брянские, отнимают наши земли, послал князя Холмского и боярина Якова Захарьевича воевать Смоленскую область.
Никто из вельмож не был в Литве столь знатен, силен, богат поместьями, щедр к услужникам и страшен для неприятелей, как Михаил Глинский, коего род происходил от одного князя татарского, выехавшего из Орды к Витовту. Воспитанный в Германии, Михаил заимствовал обычаи немецкие, долго служил Альбрехту Саксонскому, императору Максимилиану в Италии; славился храбростью, умом и, возвратясь в отечество, снискал милость Александрову, так что сей государь обходился с ним как с другом, поверяя ему все тайны сердечные. Глинский оправдывал сию любовь и доверенность своими заслугами. Когда сильное войско Менгли-Гиреево быстрым нашествием привело Литву в трепет; когда Александр, лежащий на смертном одре почти в виду неприятеля, требовал усердной защиты от вельмож и народа: Глинский сел на коня, собрал воинов и славнейшею победою утешил короля в последние минуты его жизни. Завистники молчали; но смерть Александрова отверзла им уста: говорили, что он мыслил овладеть престолом и не хотел присягать Сигизмунду. Всех более ненавидел и злословил его вельможа Забрезенский. Михаил неотступно убеждал нового короля быть судиею между ними. Сигизмунд медлил, доброхотствуя неприятелям Глинского, который вышел наконец из терпения и сказал ему: «Государь! Мы оба, ты и я, будем раскаиваться; но поздно». Он вместе с братьями Иваном и Василием уехал в свой город Туров; призвал к себе родственников, друзей; требовал полного удовлетворения от Сигизмунда и назначил срок. Слух о том достиг Москвы, где знали все, что в Литве происходило: государь угадал тайную мысль Михаилову и послал к нему умного дьяка, предлагая всем трем Глинским защиту России, милость и жалованье. Еще соблюдая пристойность, они ждали решительного королевского ответа: не получив его, торжественно объявили себя слугами государя Московского.
Утвердив спокойствие России, Василий решил судьбу древнего, знаменитого Пскова. Какое-то особенное снисхождение Иоанново позволило сей республике пережить Новгородскую, еще иметь вид народного правления и хвалиться тению свободы: могла ли уцелеть она в системе общего самодержавия? Пример Новгорода ужасал псковитян; но, лаская себя свойственною людям надеждою, они так рассуждали: «Иоанн пощадил нас: может пощадить и Василий. Мы спаслись при отце благоговением к его верховной воле: не оскорбим и сына. Гордость есть безумие для слабости. Не постоим за многое, чтобы спасти главное: то есть свободное бытие гражданское, или по крайней мере долее наслаждаться оным». Сии мысли были основанием их политики. Когда наместники великокняжеские действовали беззаконно, псковитяне жаловались государю, молили неотступно, но смиренно. Ненавидя князя Ярослава, они снова приняли его к себе наместником: ибо так хотел Иоанн, который, может быть, единственно отлагал до случая уничтожить вольность Пскова, несогласную с государственным уставом России: войны, опасности внешние, а наконец, может быть, и старость помешали ему исполнить сие намерение. Юный Василий естественным образом довершил дело отца: искал и легко нашел предлог. Хотя псковитяне вообще изъявляли более умеренности, нежели пылкие новгородцы, однако ж подобно всем республикам имели внутренние раздоры, обыкновенное действие страстей человеческих. Еще в Иоанново время был у них мятеж, в коем один посадник лишился жизни, а другие чиновники бежали в Москву. Тогда же земледельцы не хотели платить дани гражданам: вече самовластно наказало первых, отыскав древнюю уставную грамоту в доказательство, что они всегда считались данниками и работниками последних. Иоанн обвинил самовольство веча: псковитяне едва смягчили его гнев молением и дарами. При Василии управлял ими в сане наместника князь Иван Михайлович Репня-Оболенский, не любимый народом: питая несогласие между старшими и младшими гражданами, он жаловался на их строптивость и в особенности на главных чиновников, которые будто бы вмешивались в его права и суды. Сего было довольно для Василия.
Осенью в 1509 году он поехал в Новгород.

Б. А. Чориков. Торжество Василия III во Пскове
Здесь летописец псковский укоряет своих правителей в неосторожности: они письменно дали знать по всем волостям, чтобы недовольные наместником ехали судиться к великому князю. Сыскалось их множество; немало и таких, которые поехали жаловаться государю друг на друга, и между ними были знатные люди, первые чиновники. Сие обстоятельство предвещало Пскову судьбу Новгорода, где внутренние несогласия и ссоры заставили граждан искать великокняжеского правосудия и служили Иоанну одним из способов к уничтожению их вольности. Василий именно требовал к себе посадников для очной ставки с князем Оболенским, велев написать к вечу, что если они не явятся, то вся земля будет виновата. Псковитяне содрогнулись: в первый раз представилась им мысль, что для них готовится удар. Никто не смел ослушаться: девять посадников и купеческие старосты всех рядов отправились в Новгород. Василий приказал им ждать суда и назначил сроком 6 января [1510 г.].
В сей день, то есть в праздник Крещения, великий князь, окруженный боярами и воеводами, слушал обедню в церкви Софийской и ходил за крестами на реку Волхов, где епископ коломенский Митрофан святил воду: ибо Новгород не имел тогда архиепископа. Там вельможи московские объявили псковитянам, чтобы все они шли в архиерейский дом к государю: чиновников, бояр, купцов ввели в палату; младших граждан остановили на дворе. Они готовились к суду с наместником; но тяжба их была уже тайно решена Василием. Думные великокняжеские бояре вышли к ним и сказали: «Вы поиманы Богом и государем Василием Иоанновичем». Знатных псковитян заключили в архиепископском доме, а младших граждан, переписав, отдали новгородским боярским детям под стражу.
Один купец псковский ехал тогда в Новгород: узнав дорогою о сем происшествии, он бросил свой товар и спешил известить сограждан, что их посадники и все именитые люди в темнице. Ужас объял псковитян. «От трепета и печали, – говорит летописец, – засохли наши гортани, уста пересмягли. Мы видали бедствия, язву и немцев перед своими стенами; но никогда не бывали в таком отчаянии». Собралось вече. Народ думал, что ему делать: ставить ли щит против государя? Затвориться ли в городе? «Но война, – рассуждали они, – будет для нас беззаконием и конечною гибелию. Успех невозможен, когда слабость идет на силу. И всех нас немного: что же сделаем теперь без посадников и лучших людей, которые сидят в Новгороде?» Решились послать гонца к великому князю с такими словами: «Бьем тебе челом от мала до велика, да жалуешь свою древнюю отчину; а мы, сироты твои, и прежде и ныне были от тебя, государя, неотступны и ни в чем не противились. Бог и ты волен в своей отчине».
Видя смирение псковитян, государь велел снова привести всех задержанных чиновников в архиепископскую палату и выслал к ним бояр, князя Александра Ростовского, Григория Федоровича, конюшего Ивана Андреевича Челяднина, окольничего князя Петра Шуйского, казначея Дмитрия Владимировича, дьяков Мисюря-Мунехина и Луку Семенова, которые сказали: «Василий, Божиею милостию царь и государь всея Руси, так вещает Пскову: предки наши, отец мой и мы сами доселе берегли вас милостиво, ибо вы держали имя наше честно и грозно, а наместников слушались; ныне же дерзаете быть строптивыми, оскорбляете наместника, вступаетесь в его суды и пошлины. Еще сведали мы, что ваши посадники и судьи земские не дают истинной управы, теснят, обижают народ. Итак, вы заслужили великую опалу. Но хотим теперь изъявить милость, если исполните нашу волю: уничтожите вече и примете к себе государевых наместников во Псков и во все пригороды. В таком случае сами приедем к вам помолиться Святой Троице и даем слово не касаться вашей собственности. Но если отвергнете сию милость, то будем делать свое дело с Божиею помощию, и кровь христианская взыщется на мятежниках, которые презирают государево жалованье и не творят его воли». Псковитяне благодарили и в присутствии великокняжеских бояр целовали крест с клятвою служить верно монарху России, его детям, наследникам до конца мира. Василий, пригласив их к себе на обед, сказал им, что вместо рати шлет во Псков дьяка своего Третьяка Долматова и что они сами могут писать к согражданам. Знатный купец Онисим Манушин поехал с грамотою от чиновников, бояр и всех бывших в Новгороде псковитян к их народу. Они писали: «Пред лицом государя мы единомысленно дали ему крепкое слово своими душами за себя и за вас, братья, исполнить его приказание. Не сделайте нас преступниками. Буде же вздумаете противиться, то знайте, что великий князь в гневе и в ярости устремит на вас многочисленное воинство: мы погибнем и вы погибнете в кровопролитии. Решитесь немедленно: последний срок есть 16 января».

Русский воин. Рисунок из «Записок о Московии» С. Герберштейна, 1556 г.
Долматов явился в собрании граждан псковских, сказал им поклон от великого князя и требовал его именем, чтобы они, если хотят жить по старине, исполнили две воли государевы: отменили вече, сняли колокол оного и во все города свои приняли великокняжеских наместников. Посол заключил речь свою тем, что или сам государь будет у них, добрых подданных, мирным гостем, или пришлет к ним воинство смирить мятежников. Сказав, Долматов сел на ступени веча и долго ждал ответа: ибо граждане не могли говорить от слез и рыдания; наконец просили его дать им время на размышление до следующего утра. Сей день и сия ночь были ужасны для Пскова. Одни грудные младенцы, по словам летописи, не плакали тогда от горести. На улицах, в домах раздавалось стенание: все обнимали друг друга, как в последний час жизни. Столь велика любовь граждан к древним уставам свободы! Уже давно псковитяне зависели от государя московского в делах внешней политики и признавали в нем судию верховного; но государь дотоле уважал их законы, и наместники его судили согласно с оными; власть законодательная принадлежала вечу, и многие тяжбы решились народными чиновниками, особенно в пригородах: одно избрание сих чиновников уже льстило народу. Василий уничтожением веча искоренял все старое древо самобытного гражданства псковского, хотя и поврежденное, однако ж еще не мертвое, еще лиственное и плодоносное.
Народ более сетовал, нежели советовался: необходимость уступить являлась всякому с доказательствами неопровержимыми. Слышны были речи смелые, но без дерзости. Последние торжественные минуты издыхающей свободы благоприятствуют великодушию; но рассудок уже обуздывает сердце. На рассвете ударили в вечевой колокол: сей звук представил гражданам мысль о погребении. Они собрались. Ждали дьяка московского. Долматов приехал. Ему сказали: «Господин посол! Летописцы наши свидетельствуют, что добровольные псковитяне всегда присягали великим князьям в верности: клялися непреложно иметь их своими государями, не соединяться с Литвою и с немцами; а в случае измены подвергали себя гневу Божию, гладу, огню, потопу и нашествию иноплеменников. Но сей крестный обет был взаимным: великие князья присягали не лишать нас древней свободы; клятва та же, та же и казнь преступнику. Ныне волен Бог и государь в своей отчине, во граде Пскове, в нас и в нашем колоколе! По крайней мере мы не хотим изменить крестному целованию, не хотим поднять руки на великого князя. Если угодно ему помолиться Живоначальной Троице и видеть свою отчину, да едет во Псков: мы будем ему рады, благодаря его, что он не погубил нас до конца!» 13 января граждане сняли вечевой колокол у Святой Троицы и, смотря на него, долго плакали о своей старине и воле.

Василий III ставит в Псков наместниками Г. Ф. Давыдова и И. А. Челяднина. Миниатюра из Лицевого летописного свода, XVI в.
Долматов в ту же ночь поехал к государю с сим древним колоколом и с донесением, что псковитяне уже не имеют веча. То же объявили ему и послы их. Он немедленно отправил к ним бояр с воинскою дружиною обязать присягою граждан и сельских жителей; велел очистить для себя двор наместников, а для вельмож своих, дьяков и многочисленных телохранителей так называемый город Средний, откуда надлежало перевести всех жителей в Большой город, и 20 января выехал туда сам с братом, зятем, царем Летифом, епископом коломенским, князем Даниилом Щенею, боярином Давыдовым и Михаилом Глинским. Псковитяне шли к нему навстречу: им приказано было остановиться в двух верстах от города. Увидев государя, все они пали ниц. Великий князь спросил у них о здравии. «Лишь бы ты, государь, здравствовал!» – ответствовали старейшины. Народ безмолвствовал. Епископ коломенский опередил великого князя, чтобы вместе с духовенством псковским встретить его перед стеною Довмонтовою. Василий сошел с коня и за крестами вступил в церковь Св. Троицы, где епископ, отпев молебен, возгласил ему многолетие и, благословляя великого князя, громко произнес: «Слава Всевышнему, Который дал тебе Псков без войны!» Тут граждане, бывшие в церкви, горько заплакали и сказали: «Государь! Мы не чужие; мы искони служили твоим предкам». В сей день, января 24, Василий обедал с епископом коломенским, с архимандритом симоновским Варлаамом, с боярами и воеводами; а в воскресенье, января 27, приказал собраться псковитянам на дворе своем. К ним вышел окольничий князь Петр Шуйский: держа в руке список, он перекликал всех чиновников, бояр, старост, купцов, людей житых и велел им идти в большую Судебную избу, куда государь, сидя с думными вельможами в передней избе, прислал князя Александра Ростовского, конюшего Челяднина, Шуйского, казначея Дмитрия Владимировича, дьяков Долматова, Мисюря и других. Они говорили так: «Знатные псковитяне! Великий князь, Божиею милостию царь и государь всея Руси, объявляет вам свое жалованье; не хочет вступаться в вашу собственность: пользуйтесь ею ныне и всегда. Но здесь не можете остаться: ибо вы утесняли народ, и многие, обиженные вами, требовали государева правосудия. Возьмите жен и детей, идите в землю Московскую и там благоденствуйте милостию великого князя». Их всех, изумленных горестию, отдали на руки детям боярским; и в ту же ночь увезли в Москву 300 семейств, в числе коих находились и жены бывших под стражею в Новгороде псковитян. Они могли взять с собою только малую часть своего достояния, но жалели единственно отчизны. Других, средних и младших граждан, отпустили в дома с уверением, что им не будет развода; но ужас господствовал и плач не умолкал во Пскове. Многие, не веря обещанию и боясь ссылки, постриглись, мужья и жены, чтобы умереть на своей родине.
Государь велел быть наместниками во Пскове боярину Григорию Федоровичу Давыдову и конюшему Челяднину, а дьяку Мисюрю ведать дела приказные, Андрею Волосатому ямские; определил воевод, тиунов и старост в пригороды; уставил новый чекан для монеты и торговую пошлину, дотоле неизвестную в земле Псковской, где купцы всегда торговали свободно и не платя ничего; роздал деревни сосланных псковитян московским боярам; вывел всех граждан из Застенья, или Среднего города, где находилось 1500 дворов; указал там жить одним государевым чиновникам, боярским детям и москвитянам, а купеческие лавки перенести из Довмонтовой стены в Большой город; выбрал место для своего дворца и заложил церковь Святой Ксении, ибо в день ее памяти уничтожилась вольность Пскова; наконец, все устроив в течение месяца, оставив наместникам тысячу боярских детей и 500 новгородских пищальников, с торжеством поехал в Москву, куда отправили за ним и вечевой колокол. В замену убылых граждан триста семейств купеческих из десяти низовых городов были переселены во Псков.
«Так, – говорит летописец Ольгиной родины, – исчезла слава Пскова, плененного не иноверными, но своими братьями христианами. О град, некогда великий! Ты сетуешь в опустении. Прилетел на тебя орел многокрыльный с когтями львиными, вырвал из недр твоих три кедра Ливанские: похитил красоту, богатство и граждан; раскопал торжища или заметал дрязгом; увлек наших братьев и сестер в места дальние, где не бывали ни отцы их, ни деды, ни прадеды!»
Более шести веков Псков, основанный славянами-кривичами, имел свои гражданские уставы, любил оные, не знал и не хотел знать лучших; был вторым Новгородом, называясь его меньшим братом, ибо вначале составлял с ним одну державу и до конца одну епархию, подобно ему бедный в дарах природы, деятельною торговлею снискал богатство, а долговременною связью с немцами художества и вежливость; уступая ему в древней славе побед и завоеваний отдаленных, долее его хранил дух воинский, питаемый частыми бранями с Ливонским орденом. Как в семействах, так и в гражданских обществах видим иногда наследственные добродетели: Псков отличался благоразумием, справедливостью, верностью; не изменял России, угадывал судьбу ее, держался великих князей, желал отвратить гибель новгородской вольности, тесно связанной с его собственною; прощал сему завистливому народу обиды и досады; будучи осторожен, являл и смелую отважность великодушия, например, в защите Александра Тверского, гонимого ханом и государем московским; сделался жертвою непременного рока, уступил необходимости, но с каким-то благородным смирением, достойным людей свободных, и не оказав ни дерзости, ни робости своих новгородских братьев. Сии две народные державы сходствовали во всех их учреждениях и законах; но псковитяне имели особенную степень гражданскую, так называемых детей посадничьих, ставя их выше купцов и житейских людей: следственно, изъявляли еще более уважения к сану посадников, дав их роду наследственную знатность.
Великий князь хотел сделать удовольствие псковитянам и выбрал из них 12 старост, чтобы они вместе с московскими наместниками и тиунами судили в их бывших двенадцати пригородах по изданной им тогда Уставной грамоте. Но сии старосты не могли обуздывать хищности сановников великокняжеских, которые именем новых законов отягчали налогами граждан и земледельцев, не внимали справедливым жалобам и казнили за оные, так что несчастные жители толпами бежали в чужие земли, оставляя жен и детей. Пригороды опустели. Иностранцы, купцы, ремесленники, имевшие дома во Пскове, не хотели быть ни жертвою, ни свидетелями насилия, и все выехали оттуда. «Мы одни остались, – прибавляет летописец, – смотрели на землю: она не расступалась; смотрели на небо: нельзя было лететь вверх без крыльев». Узнав о корыстолюбии наместников, государь сменил их и прислал достойнейших, князей Петра Шуйского и Симеона Курбского, мужей правосудных, человеколюбивых: они успокоили граждан и народ; беглецы возвратились. Псковитяне не преставали жалеть о своих древних уставах, но престали жаловаться. С сего времени они, как и все другие россияне, должны были посылать войско на службу государеву.
Так Василий употребил первые четыре года своего правления, страхом оружия, без побед, но не без славы умирив Россию, доказав наследственное могущество ее государей для неприятеля внешнего и непременную волю их быть внутри самодержавными.
Глава II Продолжение государствования Василиева (1510–1521)
Недолго Россия и Литва могли наслаждаться миром: через несколько месяцев по заключении оного возобновились взаимные досады, упреки; обвиняли друг друга в неисполнении договора, подозревали в неприятельских замыслах; между тем хотели удалить войну. Сигизмунд жаловался, что мы освободили не всех пленников и что наместники московские не дают управы его подданным, у коих россияне вопреки миру отнимают земли. Василий доказывал, что и наши пленники не все возвратились из Литвы; что король, отпустив московских купцов, удержал их товары; что сами литовцы делают несносные обиды россиянам. Несколько раз предлагали с обеих сторон выслать общих судей на границу; соглашались, назначали время: но те или другие не являлись к сроку. Беспрепятственно отпустив Глинских, Сигизмунд раскаялся, заключил их друзей в темницу и вздумал требовать, чтобы великий князь выдал ему самого Михаила с братьями. Государь ответствовал, что Глинские перешли в его службу, когда Россия воевала с Литвою, и что он никому не выдает своих подданных. [1511–1512 гг.] Сношения продолжались около трех лет: гонцы и послы ездили с изъявлением неудовольствий, однако ж без угроз, до самого того времени, как вдовствующая королева Елена уведомила брата, что Сигизмунд вместо благодарности за ее ревность к пользам государства его оказывает ей нелюбовь и даже презрение; что литовские паны дерзают быть наглыми с нею; что она думала ехать из Вильны в свою местность, в Бряславль, но воеводы Николай Радзивил и Григорий Остиков схватили ее в час обедни, сказав: «Ты хочешь бежать в Москву», – вывели за рукава из церкви, посадили в сани, отвезли в Троки и держали в неволе, удалив всех ее слуг. Встревоженный сим известием, Василий спрашивал у короля, чем Елена заслужила такое поругание, и требовал, чтобы ей возвратили свободу, казну, людей со всеми знаками должного уважения. Не знаем ответа. Другое происшествие сего времени умножило досады великого князя на Сигизмунда.
Меньший сын Иоаннов, Симеон Калужский, отличаясь пылким нравом и легкомыслием, с неудовольствием видел себя подданным старшего брата, жаловался на его самовластие, на стеснение древнего права князей удельных и, внимая советам некоторых мятежных бояр своих, вздумал искать Сигизмундова покровительства, изменить России, бежать в Литву. Государь узнал о том, призвал и хотел заключить Симеона. Раскаяние юного князя, моление братьев, митрополита и всех епископов смягчили гнев Василия: он дал Симеону других, надежных бояр и велел ему быть впредь благоразумнее; но с горестью видел, что Сигизмунд может иметь тайных друзей в самом семействе великокняжеском. Сие расположение не благоприятствовало миру: успех литовских козней в Тавриде довершил необходимость войны.
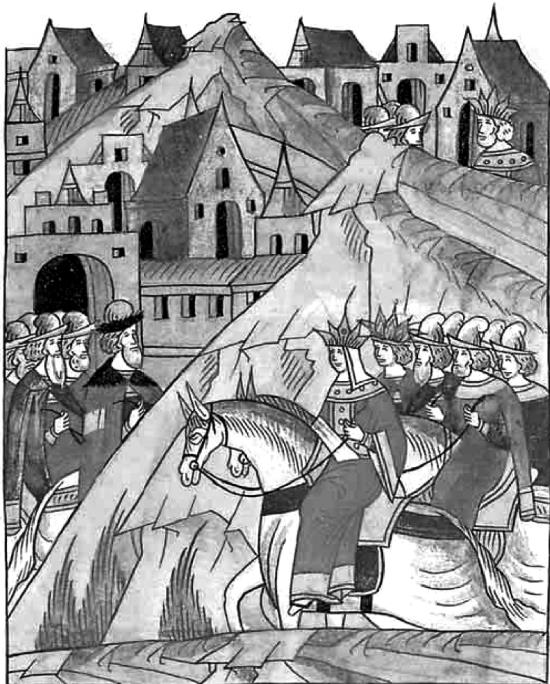
О приходе в Москву царицы крымской Нурсалтан. Миниатюра из Лицевого летописного свода, XVI в.
В 1510 году жена Менгли-Гиреева, Нурсалтан, приехала в Москву с царевичем Саипом и с тремя послами, которые уверяли Василия в истинной к нему дружбе хана. Целью сего путешествия было свидание царицы с ее сыновьями Летифом и Магмет-Аминем. Великий князь угощал ее как свою знаменитую приятельницу и через месяц отпустил в Казань, где она жила около года, стараясь утвердить сына в искреннем к нам доброжелательстве, так что Магмет-Аминь новыми грамотами обязался быть совершенно преданным России и, еще недовольный клятвенными обетами верности, желал во всем открыться государю: для чего был послан к нему боярин Иван Андреевич Челяднин, коему он чистосердечно исповедал тайну прежней измены казанской, обстоятельства и вину ее, не пожалев и своей жены-прелестницы. Одним словом, великий князь не мог сомневаться в его искренности. Царица Нурсалтан по возвращении из Казани жила опять месяцев шесть в Москве, ласкаемая, честимая при дворе, и вместе с нашим послом окольничим Тучковым отправилась в Тавриду, исполненная благодарности к Василию, который имел все причины верить дружбе Менгли-Гиреевой, но обманулся.
Сей хан престарелый, ослабев духом, уже зависел от своих легкомысленных сыновей, которые хотели иной системы в политике или, лучше сказать, никакой не имели, следуя единственно приманкам грабежа и корыстолюбия. Вельможи льстили царевичам, ждали смерти царя и хватали как можно более золота. Такими обстоятельствами воспользовался Сигизмунд и сделал, чего ни Казимир, ни Александр никогда не могли сделать: лишил нас важного долголетнего Менгли-Гиреева союза вопреки умной жене ханской, ревностной в приязни к великому князю. Литва обязалась давать ежегодно Менгли-Гирею 15 000 червонцев с условием, чтобы он, изменив своим клятвам, без всякого неудовольствия на Россию объявил ей войну, то есть жег и грабил в ее пределах. Сей тайный договор исполнился немедленно: в мае 1512 года сыновья хановы, Ахмат и Бурнаш Гиреи, с многолюдными шайками ворвались в области белевские, одоевские: злодействовали, как разбойники, и бежали, узнав, что князь Даниил Щеня спешит их встретить в поле. Хотя государь совсем не ожидал впадения крымцев, однако ж не имел нужды в долгих приготовлениях: со времен его отца Россия уже никогда не была безоружною: никогда все полки не распускались, сменяясь только одни с другими в действительной службе. За Даниилом Щенею выступили и многие иные воеводы к границам. Ахмат-Гирей думал в июле месяце опустошить Рязанскую землю; но князь Александр Ростовский стоял на берегах Осетра, князь Булгак и конюший Челяднин на Упе: Ахмат удалился. Более смелости оказал сын ханский Бурнаш-Гирей; он приступил к самой рязанской столице и взял некоторые внешние укрепления: города не взял. Воеводы московские гнали крымцев степями до Тихой Сосны.
Великий князь знал истинного виновника сей войны и, желая усовестить Менгли-Гирея, представлял ему, что старая дружба, утвержденная священными клятвами и взаимною государственною пользою, лучше новой, основанной на подкупе, требующей вероломства и весьма ненадежной; что мы помним услуги, а литовцы помнят долговременную вражду сего хана; что первое, возбуждая признательность, укрепляет связь дружества, а второе готовит месть, которая если не ныне, то завтра обнаружится. Менгли-Гирей, извиняя себя, отвечал, что царевичи без его повеления и ведома воевали Россию. Сие могло быть справедливо: тем не менее постоянный, счастливый для нас союз, дело Иоанновой мудрости, рушился навеки, и Крым, способствовав возрождению нашего величия, обратился для России в скопище губителей.

Н. С. Самокиш. Послы крымского хана Менгли-Гирея к великому князю Василию Ивановичу
Скоро сведал Василий, что король готовит полки и неотступно убеждает Менгли-Гирея действовать против нас всеми силами, желая вместе с ним начать войну летом. В Думе великокняжеской решено было предупредить сей замысел: государь послал к Сигизмунду складную грамоту, написал в ней имя королевское без всякого титула, исчислил все знаки его непримиримой вражды, оскорбление королевы Елены, нарушение договора, старание возбудить Менгли-Гирея к нападению на Россию и заключил сими словами: «Взяв себе Господа в помощь, иду на тебя и хочу стоять, как будет угодно Богу, а крестное целование слагаю». Тогда находились в Москве послы ливонские, которые, быв свидетелями нашего вооружения, известили своего магистра Плеттенберга, что никогда Россия не имела многочисленнейшего войска и сильнейшего огнестрельного снаряда; что великий князь, пылая гневом на короля, сказал: «Доколе конь мой будет ходить и меч рубить, не дам покоя Литве». Сам Василий предводительствовал ратью и выехал из столицы 19 декабря с братьями Юрием и Димитрием, с зятем царевичем Петром и с Михаилом Глинским. Главными воеводами были князья Даниил Щеня и Репня. [1513 г.] Приступили к Смоленску. Тут гонец королевский подал Василию письмо от Сигизмунда, который требовал, чтобы он немедленно прекратил воинские действия и вышел из Литвы, если не хочет испытать его мести. Великий князь не ответствовал, а гонца задержали. Назначили быть приступу ночью от реки Днепра. Для ободрения людей выкатили несколько бочек крепкого меду: пил, кто и сколько хотел. Сие средство оказалось весьма неудачным. Шум и крик пьяных возвестил городу нечто чрезвычайное: там удвоили осторожность. Они бросились смело на укрепления; но хмель не устоял против ужасов смерти. Встреченные ядрами и мечами, россияне бежали, и великий князь через два месяца возвратился в Москву, не взяв Смоленска, разорив только села и пленив их жителей.
В сие время скончалась в Вильне вдовствующая королева Елена, умная и добродетельная, быв жертвою горести, а не яда, как подозревали в Москве от ненависти к литовцам: ибо Сигизмунд имел в ней важный залог для благоприятного с нами мира, коего он желал, или еще не готовый к войне, или не доверяя союзу Менгли-Гирея и не имея надежды один управиться с Россией. Он тогда же просил опасных грамот в Москве для его послов: вельможи литовские писали к нашим боярам, чтобы они своим ходатайством уняли кровопролитие. Письмо от гонца взяли в набережной палате, дали ему опасную грамоту, и бояре ответствовали панам, что великий князь сделал то единственно из уважения к их представительству. Срок, назначенный в грамоте, минул: Сигизмунд известил Василия, что виною сего замедления были послы римские, которые едут в Москву от папы, и что вместе с ними будут и литовские. Он просил нового опаса и получил его.
Однако ж, не теряя времени, государь вторично выступил [14 июня] из Москвы с полками, отправив наперед к Смоленску знатную часть рати с боярином князем Репнею и с окольничим Сабуровым. Наместник смоленский, пан Юрий Сологуб, имея немало войска, встретил их в поле: битва решилась в нашу пользу; он заключился в городе. Привели многих пленников к Василию в Боровск, и воеводы обложили Смоленск. Государь прибыл к ним в стан 25 сентября. Началась осада; но худое искусство в действии огнестрельного снаряда и положение города, укрепленного высокими стенами, а еще более стремнинами, холмами, делали ее безуспешною. Что мы днем разрушали, то литовцы ночью воздвигали снова. Тщетно великий князь писал к осажденным или милостиво, или с угрозами, требуя, чтобы они сдались. Миновало шесть недель. Войско наше усилилось приходом новгородского и псковского. Можно было упорством и терпением изнурить граждан; но глубокая осень, дожди, грязь принудили великого князя отступить. Россияне хвалились единственно опустошением земли неприятельской вокруг Смоленска и Полоцка, куда ходил из Великих Лук князь Василий Шуйский также с многочисленными полками.
Действуя мечом, государь действовал и политикою. Еще в 1508 году – сведав от Михаила Глинского, что венгерский король Владислав болен и что Максимилиан опять замышляет овладеть сею державою – великий князь писал императору о войне России с Литвою, напоминал ему союз его с Иоанном и предлагал возобновить оный. Михаил взялся тайно переслать Василиеву грамоту в Вену. [1514 г.] Дела Италии и другие обстоятельства были виною того, что Максимилиан долго не ответствовал. Наконец в феврале 1514 года приехал в Москву императорский посол советник Георгий Шницен-Памер, который именем государя своего заключил договор с Россией, чтобы общими силами и в одно время наступить на Сигизмунда; Василию отнять у него Киев и все наши древние города, а Максимилиану прусские области, захваченные королем. Обязались ни в случае успеха, ни в противном, как в государствование Сигизмунда, так и после, не разрывать сего союза, вечного, непременного; условились также в свободе и безопасности для путешественников, послов и купцов в обеих землях. Максимилиан и Василий именуют друг друга братьями, великими государями и царями. Русскую договорную грамоту перевели в Москве на язык немецкий и вместо слова «царь» поставили Kayser. В марте Шницен-Памер отправился назад в Германию с великокняжеским чиновником греком Дмитрием Ласкиревым и с дьяком Елеазаром Суковым, перед коими Максимилиан 4 августа утвердил договор клятвою, собственноручною подписью и золотою печатью. Немецкий подлинник сей любопытной грамоты, уцелев в нашем архиве, служил Петру Великому законным свидетельством, что самые предки его назывались императорами и что австрийский двор признал их в сем достоинстве. Через несколько месяцев новые послы Максимилиановы, доктор Яков Ослер и Мориц Бургштеллер, вручили великому князю хартию союза, были приняты с отменною ласкою, и не только в Москве, но и во всех городах пышно угощаемы наместниками: их звали на обеды, дети боярские встречали у лестницы, знатные сановники на нижнем крыльце, наместники у дверей в сенях; сажали в первое место; хозяин, встав, подавал им две чаши пить здоровье государей-братьев, соблюдая, однако ж, чтобы гости начинали с российского. Одним словом, никаким иным послам не оказывалось более чести и бесполезнее; ибо Максимилиан, опутанный делами Южной и Западной Европы, скоро переменил систему: выдал свою внучку Марию, дочь Филиппа Кастильского, за племянника Сигизмундова, наследника Владиславова, а юного Фердинанда, Филиппова сына, женил на дочери короля венгерского и только именем остался союзник России.
В сие время новгородские наместники, князь Василий Шуйский и Морозов, заключили также достопамятное мирное условие с семьюдесятью городами немецкими, или с Ганзою, на десять лет. Чтобы возобновить свою древнюю торговлю в Новгороде, она решилась забыть претерпенное купцами ее в России бедствие: обязалась не иметь дружбы с Сигизмундом, ни с его друзьями, и во всем доброхотствовать Василию, который велел отдать немцам дворы, места и церковь их в Новгороде; позволил им торговать солью, серебром, оловом, медью, свинцом, серою, медом, сельдями и всякими ремесленными произведениями, обнадежив, что в случае войны с Ливонией или со Швецией ганзейские купцы могут быть у нас совершенно покойны. Уставили, чтобы россиян судить в Германии как немцев, а немцев в Новгороде как россиян, по одним законам; не наказывать первых без ведома наместников великокняжеских, а вторых без ведома Ганзы; никого не лишать вольности без суда; разбойника, злодея казнить смертию: только не мстить его невинным единоземцам. Великий князь желал, исправляя ошибку Иоаннову, восстановить сию важную для нас торговлю; но двадцатилетний разрыв и перемена в политическом состоянии Новгорода ослабили ее деятельность, уменьшили богатство и пользу обоюдную. Рижский бургомистр Нейштет, около 1570 года будучи в Новгороде, видел там развалины древней каменной немецкой божницы Св. Петра и маленький деревянный домик с подвалом, где еще складывались некоторые товары ганзейские.
Уже Иоанн, как мы видели, искал приязни Баязета, но единственно для безопасности наших купцов в Азове и Кафе, еще не думая, чтобы Россия могла иметь выгоды от союза с Константинополем в делах внешней политики: Василий хотел в сем отношении узнать мысли султана и, сведав, что несчастный Баязет свержен честолюбивым, жестоким сыном, отправил к Селиму дворянина Алексеева с ласковым поздравлением. «Отцы наши, – писал государь, – жили в братской любви: да будет она и между сыновьями». Послу, как обыкновенно, велено было не унижать себя, не кланяться султану до земли, сложить только перед ним руки; вручить ему дары, письмо, но не спрашивать о его здравии, если Селим не спросит о Василиевом. Алексеев, принятый в Константинополе весьма благосклонно, выехал оттуда с послом султановым, князем манкупским Феодоритом Камалом, знакомцем нашего именитого чиновника Траханиота и, как вероятно, греком. Они были в пути около девяти месяцев (от августа до мая [1514 г.]); терпели недостаток, голод в степях воронежских; лишились всех коней, шли пешком и едва достигли пределов рязанских, где ждали их люди, высланные к ним от великого князя. Сей первый турецкий посол в Москве возбудил любопытство ее жителей, которые с удовольствием видели, что грозные завоеватели Византии ищут нашей дружбы. Его встретили пышно: великий князь сидел в малой набережной палате; вокруг бояре в саженых шубах; у дверей стояли княжата и дети боярские в саженых терликах. Представленный государю князем Шуйским, посол отдал ему султанскую грамоту, написанную на языке арабском, а другую на сербском; целовал у Василия руку; объявил желание Селимово быть с ним в вечной любви, иметь одних друзей и неприятелей; обедал во дворце в средней Златой палате. Великий князь желал заключить с Селимом договор письменный; но Камал отвечал, что не имеет на то приказания. «По крайней мере, – говорили бояре, – государь должен знать, кто друзья и неприятели султану, чтобы согласно с его предложением быть им также другом и неприятелем». Посол не смел входить в объяснения столь важные. Селим убеждал великого князя из дружбы к нему отпустить Летифа в Тавриду, но получил отказ.
Во время переговоров с сим чиновником султанским наше войско выступало из Москвы. Великий князь пылал ревностию загладить неудачу двух походов к Смоленску, думая менее о собственной ратной славе, чем о вреде государственном, который мог быть их следствием: литовцы уже переставали бояться наших многочисленных ополчений и думали, что завоевания россиян были единственно счастием Иоанновым; надлежало уверить и неприятелей и своих в неизменном могуществе России, страхом уменьшить силу первых, бодростью увеличить нашу. Поощряя Василия к неутомимости в войне, Михаил Глинский ручался за успех нового приступа к Смоленску с условием, как пишут, чтобы великий князь отдал ему сей город в удел наследственный. По крайней мере Глинский оказал тогда государю важную услугу, наняв в Богемии и в Германии многих людей, искусных в ратном деле, которые приехали в Москву через Ливонию.
Сам предводительствуя войском, великий князь выехал из столицы 8 июня с двумя братьями, Юрием и Симеоном; третьему, Димитрию, велел быть в Серпухове; четвертого, Андрея, оставил в Москве с царевичем Петром. 220 бояр и придворных детей боярских находились в государевой дружине. В Туле, на Угре, стояли полки запасные. Государь осадил Смоленск, и 29 июля начали стрелять по городу из-за Днепра большими и мелкими ядрами, окованными свинцом. Летописец хвалит искусство главного московского пушкаря, именем Стефана: от ужасного действия его орудий колебались стены и люди падали толпами; а пушки литовские, разрываясь, били своих. Весь город покрылся густыми облаками дыма; многие здания пылали; жители в беспамятстве вопили и, простирая руки к осаждающим, требовали милосердия. В тысячу голосов кричали со стены: «Государь великий князь! Уйми меч свой! Мы тебе повинуемся». Пальба затихла. Смоленский епископ Варсонофий вышел на мост, объявляя, что воевода Юрий Сологуб готов начать переговоры в следующий день. Великий князь не дал ни малейшего срока и приказал снова громить крепость. Епископ возвратился со слезами. Вопль народный усилился. С одной стороны, смерть и пламя, с другой – убеждения многих преданных России людей действовали так сильно, что граждане не хотели слышать о дальнейшем сопротивлении, виня Сигизмунда в нерадивости. Воевода Юрий именем королевским обещал им скорое вспоможение: ему не верили, и духовенство, князья, бояре, мещане смоленские послали сказать государю, что они не входят с ним ни в какие договоры, моля его единственно о том, чтобы он мирно взял их под Российскую державу и допустил видеть лицо свое. Вдруг прекратились все действия неприятельские. Епископ, архимандриты, священники с иконами и с крестами, наместник, вельможи, чиновники смоленские явились в стане российском, проливали слезы, говорили великому князю: «Государь! Довольно текло крови христианской; земля наша, твоя отчина, пустеет: приими град с тихостию». Епископ благословил Василия, который велел ему, Юрию Сологубу и знатнейшим людям идти в великокняжеский шатер, где они, дав клятву в верности к России, обедали с государем и должны были остаться до утра; а других отпустили назад в город. Стража московская сменила королевскую у всех ворот крепости. Герой Иоаннов, старец князь Даниил Щеня, на рассвете [31 июля] вступил в оную с полками конными: переписав жителей, обязал их присягою служить, доброхотствовать государю российскому, не думать о короле, забыть Литву.
Августа 1 епископ Варсонофий торжественно святил воду на Днепре и с крестами пошел в город; за духовенством великий князь, воеводы и все воинство в стройном чине. Бояре смоленские, народ, жены, дети встретили Василия в предместии с очами светлыми. Епископ окропил святою водою государя и народ. В храме Богоматери отпели молебен. Протодиакон с амвона возгласил многолетие победителю. Благословив великого князя Животворящим Крестом, епископ сказал ему: «Божиею милостию радуйся и здравствуй, православный царь всея Руси, на своей отчине и дедине града Смоленска!» Тут братья государевы, бояре, воеводы, чиновники и все жители смоленские, поздравив его, начали целоваться друг с другом; плакали в восхищении сердец, называясь родными, друзьями, единоверными. Окруженный воинскими сановниками, Василий сквозь толпы ликующего народа прибыл во дворец древних князей Мономахова племени и сел на их троне, среди бояр и воевод; призвал знатнейших граждан, объявил им милость, дал грамоту льготную и наместника, князя Шуйского; утвердил права собственности, личную безопасность, свободу, уставы Витовтовы, Александровы и Сигизмундовы; всех угостил обедом; жаловал соболями, бархатами, камками, златыми деньгами. Оставив Варсонофия на святительском престоле, он дозволил бывшему градоначальнику Сологубу ехать в Литву, также и всем королевским воинам, выдав на каждого человека по рублю; а тем из них которые добровольно записались к нам в службу, по два рубля и по сукну лунскому; не отнял земель ни у дворян, ни у церквей; не вывел никого из Смоленска, ни пана, ни гражданина; служивым людям назначил жалованье. Счастливый в душе государь изъявлял только любовь, снисхождение к новым подданным, радуясь, что совершил намерение великого отца своего и к завоеваниям его прибавил столь блестящее. Взятие Смоленска, говорит летописец, казалось светлым праздником для всей России. Отнять чуждое лестно одному славолюбию государя; но возвратить собственное весело народу.
Сто десять лет находился Смоленск под властью Литвы. Уже обычаи изменялись; но имя русское еще трогало сердце жителей, и любовь к древнему отечеству вместе с братским духом единоверия облегчили для великого князя сие важное завоевание, приписанное Сигизмундом измене, козням Михаила Глинского, подкупу, обману. Сологубу отсекли в Литве голову: он, конечно, не был изменником, отвергнув все милостивые предложения Василиевы, не захотев ни за какое богатство, ни за какие чины остаться в России. В делах государственных несчастие бывает преступлением. Но Михаил действительно мог иметь тайные связи в Смоленске: по крайней мере он думал, что ему из благодарности за его услуги отдадут сей знаменитый город во владение. Великий князь не сделал того и смеялся, как уверяют, над безмерным честолюбием Глинского, а Глинский, уже опытный в измене, замыслил новую.

Михаил Глинский с женой в тюрьме. Польская литография 1901 г.
Государь немедленно отрядил воевод московских и смоленских к Мстиславлю, где княжил тогда один из потомков Гедиминова сына Евнутия, Михаил: не имея сил противиться, он выехал навстречу к нашему войску, присягнул России, был у великого князя и, милостиво им одаренный, возвратился в свою отчину. Граждане Кричева и Дубровны сами собою нам поддались. Довольный сими приобретениями, Василий не желал иных: учредил правительство в Смоленске, оставил там часть войска, другую послал к Борисову, к Минску и сам возвратился в Дорогобуж. Михаил Глинский стоял с вверенным ему отрядом близ Орши. Никто не знал о его злых умыслах. Потеряв надежду видеть себя владетельным князем смоленским, досадуя на Василия и жалея о Литве, он тайно предложил Сигизмунду свои услуги, изъявлял раскаяние, обещал загладить прошедшее. Личная, справедливая ненависть к изменнику уступила явной пользе государственной: король уверил Глинского в милости. Утвердили договор клятвами; согласились, чтобы войско литовское шло как можно скорее к Днепру: ибо Михаил ответствовал королю за победу. Уже сие войско находилось близ Орши: Глинский, узнав о том, ночью сел на коня и бежал из российского стана; но отъехал недалеко. Один из его слуг известил воеводу нашего, князя Булгакова-Голицу, о бегстве изменника: воевода в ту же минуту с легкою дружиною поскакал за ним в обгон, пересек дорогу и ждал в лесу. Глинский ехал впереди; за ним, в версте, толпа вооруженных слуг: их и господина схватили и представили в Дорогобуже великому князю. Глинский не мог запираться: у него вынули из кармана Сигизмундовы письма. Готовясь к смерти, он говорил смело о своих услугах и неблагодарности Василиевой. Государь приказал отвезти его скованного в Москву; а воеводам нашим, князю Булгакову, боярину Челяднину и многим другим, идти навстречу к неприятельской рати. Константин Острожский предводительствовал ею. Пишут, что наших было 80 000, литовцев же только 35 000. Сошлись на берегах Днепра и несколько дней стояли тихо, россияне на левом, литовцы на правом. Чтобы усыпить московских воевод, Константин предлагал им разойтись без битвы и тайно наводил мост в пятнадцати верстах от их стана. Узнав, что половина неприятелей уже на сей стороне реки, гордый боярин Челяднин сказал: «Мне мало половины; жду их всех и тогда одним разом управлюсь с ними». Конница, пехота литовская перешли, устроились, заняли выгодное место: началась кровопролитная битва [8 сентября]. Уверяют, что главные воеводы московские, князь Булгаков-Голица и боярин Челяднин, от зависти не хотели помогать друг другу; что движения нашего войска не имели связи, ни общей цели; что в самом пылу сражения Челяднин выдал Булгакова и бежал. По другим известиям, князь Константин употребил хитрость: отступил притворно, навел россиян на пушки и в то же время зашел им в тыл. Все говорят согласно, что литовцы никогда не одерживали такой знаменитой победы над россиянами: гнали, резали, топили их в Днепре и в Кропивне; телами усеяли поля между Оршей и Дубровною; пленили Булгакова, Челяднина и шесть иных воевод, тридцать семь князей, более 1500 дворян и чиновников; взяли обоз, знамена, снаряд огнестрельный; одним словом, в полной мере отмстили нам за Ведрошскую битву. Мы лишились тридцати тысяч воинов: ночь и леса спасли остальных. На другой день Константин торжествовал победу над своими единоверными братьями и русским языком славил Бога за истребление россиян; пышно угостил знатных пленников и немедленно отправил к Сигизмунду, который велел Челяднина и Булгакова оковать цепями: следственно, наказал их за то, что они услужили ему своим неразумием. Сии злосчастные воеводы долго томились в неволе, презираемые Литвою и как бы забвенные отечеством. Сигизмунд, будучи вне себя от радости, спешил известить всю Европу о славе литовского оружия; дарил государей и папу нашими пленниками; мыслил, что отнимет у России не только Смоленск, но и все прежние завоевания; что Василий не может собрать новых сильных полков и что ему остается только бежать в глубину московских лесов. Король ошибся: сия блестящая победа не имела никаких важных следствий.

Битва под Оршей, 8 сентября 1514 г. Неизвестный художник, возможно, Ганс Крелл
С первою вестью о нашем несчастии прискакали в Смоленск некоторые раненные в битве чиновники великокняжеские. Весь город пришел в волнение. Многие тамошние бояре думали, подобно Сигизмунду, что Россия уже пала: советовались между собою, с епископом Варсонофием и решились изменить государю. Епископ тайно послал к королю своего племянника с уверением, что если он немедленно пришлет войско, то Смоленск будет его. Но другие верные бояре донесли о сем умысле наместнику князю Василию Шуйскому, который, едва успев взять изменников и самого епископа под стражу, увидел знамена литовские: сам Константин с шестью тысячами отборных воинов явился перед городскими стенами. Тут Шуйский изумил его и жителей зрелищем ужасным: велел на стене, в глазах Литвы, повесить всех заговорщиков, кроме святителя, надев на них собольи шубы, бархаты, камки, а другим привязав к шее серебряные ковши или чарки, пожалованные им от великого князя. Константин воспылал гневом: приступил к Смоленску; но изменников уже не было: граждане и воины бились мужественно с Литвою. Константин ушел: россияне захватили немало пленников и часть обоза. Недостойного пастыря Варсонофия отвезли в Дорогобуж к великому князю, который, изъявив удовольствие Шуйскому и дав все нужные повеления для безопасности Смоленска, возвратился в Москву. Литовцы заняли только Дубровну, Мстиславль и Кричев, где жители снова присягнули Сигизмунду.
[1515 г.] Король желал отдохновения и распустил войско; но сын Менгли-Гирея, Магмет, узнав о победе его, хотел воспользоваться ею, чтобы опустошить южные владения российские с помощью нового изменника нашего, воеводы Евстафия Дашковича. Мы упоминали о сем литовском беглеце, коего милостиво принял Иоанн и который, служив несколько лет Василию, ушел к Сигизмунду вслед за Константином Острожским. Получив от короля во владение Канев и Черкасы, имея воинские достоинства, смелость, мужество, Дашкович прославился в истории днепровских казаков, заслужив имя их Ромула: образовал, устроил сие легкое, деятельное, неутомимое ополчение, коему удивлялась Европа; избрал вождей, ввел строгую подчиненность, дал каждому воину меч и ружье; наблюдал все движения крымцев и преграждал им путь в Литву. Дашкович знал Россию и казался для нас тем опаснее: вместе с киевским воеводою Андреем Немировичем он присоединился к толпам Магмет-Гиреевым, думая взять Чернигов, Новгород-Северский, Стародуб, где не было ни князей, ни московской рати: Шемякин и князь Василий Стародубский находились тогда у государя. Неприятели сверх многочисленной конницы имели тяжелый снаряд огнестрельный. Но воеводы северские отстояли города: ибо Магмет-Гирей боялся тратить людей на приступах; не слушался литовских предводителей и заключил свой поход бегством.
Тем не менее Василий с огорчением видел, что измена Менгли-Гиреева в пользу Литвы уменьшает силы России. Он искал нового средства обратить хана к прежней системе. Посол турецкий еще был в Москве: государь отпустил его в Константинополь со своим ближним дворянином Васильем Коробовым, написав с ним в ответной грамоте к султану о вероломстве Менгли-Гирея и прося, чтобы Селим запретил хану дружиться с Литвою. Коробову надлежало стараться о заключении решительного союза между Россией и Портою Оттоманскою с обязательством помогать друг другу во всех случаях, особенно против Литвы и Тавриды, ежели Менгли-Гирей не отступит от Сигизмунда. Но Коробов не успел в главном деле: Селим писал государю, что пришлет в Москву нового посла, и не сдержал слова, будучи занят войною Персидскою. Уставили единственно правила свободной торговли в Азове и в Кафе для наших купцов.
В сие время не стало Менгли-Гирея: Россия могла бы справедливо оплакивать его кончину, если бы он был для Василия то же, что для Иоанна. Сей достопамятный в истории хан пережил самого себя, быв в последние годы только тенью царя, и великий князь мог ждать более успеха в делах с его наследником, старшим сыном Магмет-Гиреем. К несчастию, новый хан не походил на отца ни умом, ни добрыми качествами: вопреки Алкорану любил пить до черезмерности, раболепствовал женам, не знал добродетелей государственных, знал одну прелесть корысти, был истинным атаманом разбойников. Сначала он изъявил желание приобрести дружбу России и с честью отпустил великокняжеского посла Тучкова; но вскоре, взяв дары от Сигизмунда, прислал в Москву вельможу своего Дувана с наглыми и смешными требованиями: писал, что взятие Смоленска нарушает договор Василиев с Менгли-Гиреем, который будто бы пожаловал Смоленское княжение Сигизмунду; что Василий должен возвратить оное, также и Брянск, Стародуб, Новгород-Северский, Путивль вместе с другими городами, будто бы данными ханом, отцом его, Иоанну в знак милости. Магмет-Гирей требовал еще освобождения всех крымских пленников, дани с Одоева, многих вещей драгоценных, денег; а в случае отказа грозил местию. Великий князь не мог образумить бессмысленного варвара; но мог надеяться на доброхотство некоторых вельмож крымских, в особенности на второго Менгли-Гиреева сына, Ахмата Хромого, объявленного калгою Орды, или первым чиновником по хане: для того вооружился терпением, честил посла и в удовольствие Магмет-Гирею освободил Летифа, ибо сей бывший царь казанский опять сидел тогда под стражею за неприятельские действия крымцев. Ему снова позволено было ездить во дворец и на охоту; но великий князь не согласился отпустить его к матери, которая желала отправиться с ним в Мекку. [1515–1516 гг.] Боярин Мамонов повез ответные грамоты и дары хану, весьма умеренные. Он должен был сказать Магмет-Гирею, что нелепые его требования суть плод Сигизмундова коварства; что государь не только намерен вечно владеть Смоленским княжением, но хочет отнять у короля и все иные древние города наши; что Менгли-Гирей утвердил свое могущество дружбою России, а не Литвы, и что мы готовы возобновить союз, ежели хан с искреннею любовию обратится к великому князю и престанет нам злодействовать: ибо в то самое время, когда его посол выезжал из Москвы, крымцы нападали на Мещеру и толпились в окрестностях Азова, угрожая пределам рязанским. Главным поручением Мамонова было преклонить к нам вельмож ханских.
Два обстоятельства помогли сначала его успеху: Магмет-Гирей тщетно ждал новых даров от Сигизмунда и сведал, что султан имеет особенное уважение к великому князю. Хотя Мамонов несколько раз был оскорбляем наглостью царедворцев; хотя Магмет-Гирей жаловался на скупость Василиеву: однако ж изъявил желание отстать от короля и вызвался даже в залог союза прислать одного из сыновей на житье в Россию, ежели великий князь пошлет сильную рать водою на Астрахань. Уже написали и грамоту договорную, которую надлежало утвердить присягою в день Менгли-Гиреева поминовения; но Сигизмунд успел вовремя доставить 30 000 червонцев хану: грамоту забыли, посла московского не слушали, и сын Магмет-Гиреев, царевич Богатырь, устремился на Россию с голодными толпами: ибо от черезвычайных жаров сего лета поля и луга иссохли в Тавриде. Опустошив села мещерские и рязанские, Богатырь ушел; а хан в ответ на жалобы великого князя просил его извинить молодость царевича, который будто бы самовольно тревожил российские владения. Еще мирные сношения не прерывались: место умершего в Тавриде Мамонова заступил боярский сын Шадрин, умный, деятельный. Весьма усердно помогал ему брат ханский, калга Ахмат, ненавистник Литвы и друг России, где он на всякий случай готовил себе верное убежище. «Мы живем в худые времена, – говорил Ахмат послу московскому. – Отец наш повелевал всеми, детьми и князьями. Теперь брат мой царь, сын его царь и князья цари». Истину сего доказывал калга собственными поступками: господствуя в Очакове, нападал на литовские пределы вопреки дружбе Сигизмундовой с Магмет-Гиреем и писал Василию: «Не думая ни о чем ином, возьми для меня Киев: я помогу тебе завоевать Вильну, Троки и всю Литву». Другие князья, также доброхотствуя нам, враждовали королю: уверяли, что и хан изменит ему, если великий князь будет только щедрее; а Магмет-Гирею сказывали, что Россия намерена помогать его злодеям, ногаям и астраханцам, если он не предпочтет ее союза литовскому. Сии вельможи и бесстыдное корыстолюбие самого хана произвели наконец то, что он, взяв одною рукою Сигизмундово золото, занес другую с мечом на его землю, не для услуги нам, но единственно для добычи, послав 40 000 всадников разорять южные королевские владения. Сей варвар не боялся мести за свое вероломство, понимая, что Россия и Литва все простят ему в надежде вредить через него друг другу. Между тем открылось новое обстоятельство, которое убеждало его искать Василиевой приязни.
Царь казанский Магмет-Аминь занемог жестокою болезнию: от головы до ног, по словам летописца, он кипел гноем и червями; призывал целителей, волхвов и не имел облегчения; заражал воздух смрадом гниющего своего тела и думал, что сия казнь послана ему Небом за вероломное убиение столь многих россиян и за неблагодарность к великому князю Иоанну. «Русский Бог карает меня, – говорил он ближним. – Иоанн был мне отцом, а я, слушаясь коварной жены, отплатил злом благодетелю. Теперь гибну: к чему мне сребро и злато, престол и венец, одр многоценный и жены красные? Оставлю их другим». Чтобы умереть спокойнее, Магмет-Аминь желал удостоверить Василия в своей искренности: прислал ему 300 коней, украшенных золотыми седлами и червлеными коврами, царский доспех, щит и шатер, подарок владетеля персидского, столь богатый и хитро вытканный, что немецкие купцы рассматривали его в Москве с удивлением. Послы казанские молили великого князя объявить Летифа их владетелем в случае Магмет-Аминевой смерти, обязываясь вечно зависеть от государя московского и принимать царей единственно от его руки. Написали грамоту: окольничий Тучков ездил с нею в Казань, где царь, вельможи и народ утвердили сей договор клятвами. Василий в доказательство своего благоволения к Магмет-Аминю пожаловал Летифу город Каширу.
Хан крымский принимал живейшее участие в судьбе Казани, опасаясь, чтобы тамошние князья после Магмет-Аминя не взяли к себе на престол кого-нибудь из астраханских, ненавистных ему царевичей. Для сего он послал знатного человека в Москву, дружески писал к великому князю, хвалился разорением Литвы, обещал немедленно дать свободу московским пленникам и заключить союз с нами, если государь возведет Летифа на Казанское царство, отнимет городок Мещерский, бывшее Нордоулатово поместье, у своего служивого царевича астраханского Шиг-Алея, уступит оное кому-нибудь из сыновей Магмет-Гиреевых и решится воевать Астрахань. Долго Василий отвергал сие последнее условие: наконец и на то согласился. [1517 г.] Казалось, что все препятствия исчезли. В Москву ждали новых послов ханских с договорною грамотою: они не ехали, и великий князь узнал, что Сигизмунд, подобно ему неутомимый в искании Магмет-Гиреевой дружбы, умел опять задобрить хана богатыми дарами. 20 000 крымцев с огнем и мечом нечаянно явились в России и дошли до самой Тулы, где встретили их московские воеводы, князья Одоевский и Воротынский. Хищников наказали: спасаясь бегством, они тонули в реках и в болотах; гибли от руки наших воинов и земледельцев, которые засели в лесах и не давали им ни пути, ни пощады, так что весьма немногие возвратились домой, нагие и босые. Через несколько месяцев князь Шемякин выгнал крымцев из области Путивльской и побил их за Сулою.
Не имев успеха в сношениях с ханом, Василий приобрел в сие время двух знаменитых искренних друзей в Европе. Еще в 1513 году посол короля датского Иоанна находился в Москве или по делам шведским, или для того чтобы склонить нас к соединению греческой церкви с римскою, как сам король писал к императору Максимилиану и Людовику XII. Сын Иоаннов, Христиан II, памятный в истории ужасною свирепостью и прозванием Нерона Северного, в 1517 году утвердил приязнь с Россией торжественным договором воевать общими силами – где и когда будет возможно – Швецию и Польшу, хотя наместники великокняжеские в 1510 году заключили с первою шестидесятилетнее перемирие. Посол наш, дворянин Микулин, был в Копенгагене: Христианов, Давид Герольт, в Москве. Великий князь позволил датским купцам иметь церковь в Новгороде и свободно торговать в России. Усильно домогаясь властвовать над всею древнею Скандинавией, Христиан не мог содействовать нам против Сигизмунда; а Василий, занятый Литовскою войною, оставался единственно доброжелателем Христиана в его борении со шведским правителем Стуром. Однако ж тесная связь между сими двумя государями устрашала их врагов: Сигизмунд должен был опасаться Дании, а Швеция – России.
Вторым союзником нашим был великий магистр Немецкого ордена Альбрехт Бранденбургский. Пламенный дух сего воинственного братства, освященного верою и добродетелию, памятного великодушием и славою первых его основателей, угас в странах Севера: богатство не заменяет доблести, и рыцари-владетели, некогда сильные презрением жизни, в избытке ее приятностей увидели свою слабость. Покорители язычников были покорены собратьями-христианами. Казимир и наследники его уже взяли многие орденские города, именуя великого магистра своим присяжником. Рыцарство тосковало в унижении: хотело возвратить свою древнюю славу, независимость и владения; молило папу, Германию, императора о защите и наконец обратилось к России, весьма естественно: ибо мы одни ревностно желали ослабить Сигизмунда. Хотя Немецкий орден, вступаясь за Ливонию, часто оглашал нас в Европе злодеями, неверными, еретиками; но сии укоризны были преданы забвению, и крестоносные витязи иерусалимские дружественно простерли руку к великому князю. Альбрехт прислал в Москву орденского чиновника Дидриха Шонберга, принятого со всеми знаками уважения. В такое время, когда двор говел и обыкновенно не занимался делами, на первой неделе Великого поста, Шонберг имел переговоры с боярами, в субботу обедал у государя, в воскресенье вместе с ним слушал литургию в храме Успения. Заключили наступательный союз против короля. Магистр требовал ежемесячно 60 000 золотых рейнских на содержание 10 000 пехотных и 2000 конных воинов: государь обещал, если немцы возьмут Данциг, Торн, Мариенвердер, Эльбинг и пойдут на Краков; однако ж не хотел включить в договор, чтобы России не мириться с Сигизмундом до отнятия у него всех прусских и наших древних городов, сказав Шонбергу: «От вас надобно требовать обязательства, ибо вы еще не воюете; а мы уже давно в поле и делаем, что можем». Условились хранить договор в тайне, чтобы король не успел изготовиться к обороне. Шонберг, получив в дар бархатную шубу, 40 соболей и 2000 белок, отправился в Кёнигсберг с дворянином Загряжским. Разменялись клятвенными грамотами. Магистру хотелось, чтобы великий князь немедленно доставил 625 пудов серебра в Кёнигсберг, где наши собственные чиновники могли бы обратить оное в деньги и выдавать их в случае надобности немецким ратникам. Для сего новый посол орденский Мельхиор Робенштейн был в Москве. Василий ответствовал, что серебро готово, но что немцы должны прежде начать войну. Магистр ливонский, старец Плеттенберг, не участвовал в сем союзе: закоренелая ненависть к россиянам склоняла его, даже вопреки пользам Немецкого ордена, доброжелательствовать королю. В течение войны Литовской он с досадою извещал прусского магистра о наших выгодах, с удовольствием о неудачах, хотя и не мог надеяться на благодарность короля, быв принужден отказаться от его дружбы в угодность великому князю: положение весьма опасное для слабой державы!

Альбрехт Бранденбург-Ансбахский обменивается дипломатами с Василием III. Миниатюра из Лицевого летописного свода, XVI в.
Отпуская Загряжского в Кёнигсберг, государь велел ему разведать там о делах императора Максимилиана с королем французским, с Венецией; узнать, будет ли от него посольство в Москву и в каких сношениях он находится с Сигизмундом? Уже Василий не имел надежды на помощь императора в сей войне, слышав о свидании его с королями венгерским и польским в Вене, о брачных союзах их семейства; напротив того желал, чтобы Максимилиан объявил себя посредником между Литвою и Россией. Обе державы хотели отдохновения; но первая еще более. Великий князь молчал, а Сигизмунд просил императора доставить мир Литве. Для сего посол венского двора барон Герберштейн, муж ученый и разумный, прибыл в Москву. Представленный государю, он с жаром, искусством и красноречием описал бедствие междоусобия в Европе христианской и торжество злочестивых султанов, которые, пользуясь ее несогласием, берут земли и царства. «На что, – сказано в сей достопамятной речи посольской, – на что монархи державствуют? Ко благу веры и для спокойствия подданных. Так всегда мыслил император и воевал не ради суетной славы, не ради приобретений чуждого, но для наказания сварливых, презирая опасность личную, сам впереди, и с меньшим числом побеждая, ибо Господь за добродетель. Уже Максимилиан благоденствует в тишине. Папа и вся Италия с ним в союзе. Королевства испанские, Неаполь, Сицилия и все другие, числом двадцать шесть, и все православные признают в его внуке Карле своего наследственного, законного монарха. Король Португалии ему родственник, король Англии издавна друг сердечный, датский и венгерский – сыновья и братья, ибо женаты на внучках Максимилиановых; а польский имеет к государю моему неограниченную доверенность. Не буду говорить пред тобою о твоем величестве: ведаешь истинную, взаимную любовь, которая вас соединяет. Оставались только король французский и Венеция вне общего европейского братства: ибо всегда хотели особенных выгод своих, не занимаясь благом христианства; но и те уже изъявили миролюбие: уже, как слышу, и договор подписан. Теперь да обозрит человек вселенную от востока до запада, от юга до севера: кто из венценосцев православных не связан с императором или родством, или дружбою? Все – и все в мире, кроме Литвы и России. Максимилиан послал меня к тебе в надежде, что ты, государь знаменитый, в честь и в славу Божию успокоишь христианство и собственную землю: ибо миром цветут державы, войною изнуряются; победа изменяет – и кто в ней уверен? – Доселе вещал император: прибавлю и мое слово. Будучи в Вильне, я говорил с послом турецким: он сказывал, что султан завоевал Дамаск, Иерусалим и все царство Египетское. В истине сего уверял меня также один благородный путешественник, который сам был в тех местах. Государь! Мы и прежде опасались султанского могущества: не должны ли ныне еще более опасаться?» – Ученый посол говорил о Филиппе и Александре Македонских: славил миролюбие отца, осуждал сына, ненасытного в кровопролитии, и пр.

Василий III. Рисунок из «Записок о Московии» С. Герберштейна, 1556 г.
Василий имел бы право укорять императора нарушением договора с Россией; но зная, что такие упреки бесполезны и что политика легко все извиняет, он за доброе намерение изъявил ему благодарность и свою готовность к миру. Обязываясь быть посредником совершенно беспристрастным и даже объявить войну Литве, если король не согласится на предложения умеренные, честные, справедливые, Максимилиан хотел, чтобы наши уполномоченные съехались для того с литовскими в Дании или на границе, или в Риге: великий князь сказал, что переговоры должны быть в Москве, как всегда бывало, а не иначе, и дал опасную грамоту для королевских послов, назвав себя в ней Смоленским. Они приехали: Ян Щит, наместник могилевский, и Богуш, государственный секретарь, с семьюдесятью дворянами; но их не впустили в Москву: велели им жить в Дорогомилове, ибо великий князь узнал, что войско Сигизмундово вступило в наши пределы и что сам король находился в Полоцке с запасною ратью.
Сие нападение было местью. За несколько времени перед тем воевода псковский Андрей Сабуров без ведома государева ходил с тремя тысячами воинов на Литву: шел мирно, не делал никакой обиды жителям и стал у Рославля, объявив гражданам, что бежит от великого князя к королю. Они поверили и выслали ему как другу съестные припасы; но Сабуров нечаянно, в торговый день, взял Рославль, обогатился добычею и вывел оттуда множество пленников, из коих освободил только 18 купцов немецких. Чтобы наказать псковитян, герой Сигизмундов, Константин Острожский, хотел завоевать Опочку, где был наместником Василий Михайлович Салтыков, достойный жить в истории: ибо он редким мужеством удивил своих и неприятелей. Литовцы вместе с наемниками богемскими и немецкими две недели громили пушками сию ничтожную крепость: стены падали; но Салтыков, воины его и граждане не слабели в бодрой защите, [6 октября] отразили приступ, убили множество людей и воеводу Сокола, отняв у него знамя. Между тем воеводы московские спешили к Опочке: из Великих Лук князь Александр Ростовский, из Вязьмы Василий Шуйский. Впереди были князь Феодор Оболенский-Телепнев и храбрый муж Иван Лятцкий с детьми боярскими: они близ Константинова стана в трех местах разбили наголову 14 000 неприятелей и новую рать, посланную Сигизмундом к Острожскому; пленили воевод, взяли обоз и пушки. Наша главная сила шла прямо на Константина: он не захотел ждать ее, [18 октября] снял осаду, удалился скорыми шагами и не мог спасти тяжелых стенобитных орудий, которые остались трофеями Салтыкова. Россияне загладили стыд Оршинской битвы, возложив на Константина знамение беглеца, по выражению одного летописца.
[25 октября] Узнав о сей победе, великий князь дозволил послам Сигизмундовым торжественно въехать в Москву и принял их с удовольствием. «Король, – сказал он, – предлагает мир и наступает войною, теперь мы с ним управились: можем выслушать мирные слова его». Переговоры начались весьма неумеренными требованиями с обеих сторон. Мы хотели, чтобы Сигизмунд отдал нам Киев, Витебск, Полоцк и другие области российские вместе с сокровищами и с уделом покойной королевы Елены, казнив всех наглых панов, оскорбителей ее чести; а литовцы хотели иметь не только Смоленск, Вязьму, Дорогобуж, Путивль, всю землю Северскую, но и половину Новгорода, Пскова, Твери. «Вот речи высокие, – сказал барон Герберштейн. – Надобно искать средины, или я заехал в Москву бесполезно». Паны Щит и Богуш объявили наконец, что Сигизмунд согласится возобновить договор, заключенный между великим князем Иоанном и королем Александром в 1494 году. Посол Максимилианов убеждал Василия уступить хоть один Смоленск, ставя ему в пример умеренность славного царя Пирра, Максимилиана, отдавшего Венецианской республике Верону, и самого великого князя Иоанна, не хотевшего отнять Казани у древних ее царей. Бояре московские, умолчав о Пирре, ответствовали, что император мог быть великодушен против Венеции, но что великодушие не есть закон; что Казань была и есть в нашем подданстве; что великий князь не имеет обычая уступать свои отчины, данные ему Богом и победою. Уверяя в своем беспристрастии, Герберштейн явно держал сторону литовских послов; оправдывал Сигизмунда; говорил, что Василий не должен верить беглецам и пленникам, которые приписывают разбои Магмет-Гирея Сигизмундовым наущениям; что мысль государева наследовать удел Елены противна всем уставам; что оскорбители королевы могут быть наказаны, если мы умерим иные требования, и пр.

С. Герберштейн в одежде, подаренной великим князем. Рисунок из «Записок о Московии» С. Герберштейна, 1556 г.
В сих любопытных прениях видны искусство и тонкость разума Герберштейновы, грубость литовских послов и спокойная непреклонность Василиева: язык бояр его учтив, благороден и доказывает образованность ума. Спорили много и долго: Смоленск был главным препятствием мира. Пан Щит сказал: «Мы едем: Небо казнит виновника кровопролития». Не нас, – ответствовали бояре. Государь, отпуская послов, встал с места; велел кланяться Сигизмунду и в знак ласки дал им руку. Все кончилось. Тогда барон Герберштейн вручил великому князю особенную грамоту Максимилианову о Михаиле Глинском: император писал, что Михаил мог быть виновен, но уже довольно наказан за то неволею; что сей муж имеет знаменитые достоинства, воспитан при дворе венском, служил верно ему и курфюрсту саксонскому; что Василий сделает Максимилиану великое удовольствие, если отпустит Глинского в Испанию, к его внуку Карлу. Государь не согласился, ответствуя, что сей изменник положил бы свою голову на плахе, если бы не изъявил желания принять нашу веру; что отец и мать его были греческого Закона; что Михаил, в Италии легкомысленно пристав к римскому, одумался, хочет умереть христианином Восточной церкви и поручен митрополиту для наставления.
[1518 г.] Таким образом, посольство Максимилианово не имело никакого успеха; однако ж Герберштейн выехал из Москвы с надеждою, что если не мир, то хотя перемирие остается возможным между воюющими державами. Великий князь послал в Вену дьяка Владимира Племянникова объяснить императору нашу справедливость и требовать его обещанного содействия в войне против Сигизмунда. Сей дьяк не мог нахвалиться учтивостью Максимилиана, который велел ему говорить речь сидя, в колпаке; посадил и нашего толмача Истому; при имени великого князя снимал шляпу; угостил их пышно и ездил с ними на охоту; предлагал им лучших соколов в дар и твердил, что не имеет ничего заветного для своего брата, великого князя. Но сия ласка происходила единственно от желания прекратить войну Литовскую: ибо Максимилиан действительно замышлял тогда воздвигнуть всех европейских государей на султана и, видя слабость короля, боялся, чтобы Россия не подавила его. «Целость Литвы, – писал он к великому магистру немецкому, – необходима для блага всей Европы: величие России опасно». Новые послы Максимилиановы, советник Франциск да Колло и Антоний де Конти, прибыли в Москву с Племянниковым, чтобы вторично ходатайствовать за Сигизмунда, или, как они говорили, за христианство; с избытком красноречия представили картину оттоманских завоеваний в трех частях мира, от Воспора Фракийского до песков египетских, Кавказа и Венеции; описали жалостное рабство греческой церкви, матери нашего христианства; унижение святыни, Гроба Спасителева, Назарета, Вифлеема и Синая под властью магометан; изъясняли, что Порта в соседстве с нами через Тавриду и может скоро наложить тяжкую свою руку на Россию; изобразили свирепость, хитрость, счастие Селима, упоенного кровью отца и трех братьев, возжигающего пред собою светильники от стука сердец христианских и давшего себе имя владыки мира; убеждали Василия как знаменитейшего царя верных идти за хоругвию Иисуса; наконец молили его объявить искренно, желает ли или не желает мира с Литвою, чтобы не плодить речей бесполезно? Великий князь хотел его, но не хотел возвратить Смоленска. Послы начали говорить о перемирии на пять лет. Он соглашался, но с условием освободить всех пленников: чего не принял Сигизмунд, имея их гораздо более, нежели мы. Наконец Василий в угодность императору дал слово не воевать Литвы в течение 1519 года, если король также не будет беспокоить России и если Максимилиан обяжется после того вместе с Россией наступить войною на Сигизмунда. С сим предложением отправился в Австрию великокняжеский дьяк Борисов. Но Максимилиан скончался. Василий жалел о нем как о своем знаменитом приятеле, а Сигизмунд оплакал его как усердного покровителя в такое время, когда новые враги восстали на Литву и Польшу.

Б. А. Чориков. Великий князь Василий Иванович на охоте
Абдыл-Летиф, названный преемником царя Магмет-Аминя, умер в Москве [19 ноября] к огорчению великого князя: ибо Летиф служил ему орудием политики или залогом в отношении к Тавриде и Казани. Но сие происшествие имело сначала благоприятные для нас следствия. Желая завоевать Астрахань, Магмет-Гирей не менее желал подчинить себе и Казань: содействие России, нужное и для первого, было еще необходимее для успеха в последнем намерении. Итак, услышав о смерти Летифа, зная близость Магмет-Аминевой и назначив казанский престол брату своему Саип-Гирею, хан обратился к дружбе великого князя. Хотя многие вельможи и царевичи усильно противились сему расположению; хотя калга Ахмат-Гирей, наш ревностный приятель, был одним из них злодейски убит: но доброжелатели России, в числе коих находился князь Аппак, главный любимец ханский, превозмогли, и Магмет-Гирей известил Василия, что он немедленно пришлет в Москву сего Аппака с клятвенною грамотою; что крымцы уже воюют Литву; что мы их усердною помощью истребим всех врагов, если сами окажем услугу хану: возьмем для него Астрахань или Киев. Не упуская времени, государь послал в Тавриду князя Юрья Пронского, а с ним дворянина Илью Челищева, весьма угодного царю. [1519 г.] Они встретили Аппака, который действительно привез в Москву шертную грамоту ханскую, написанную слово в слово по данному от нас образцу, в том смысле, чтобы великому князю и Магмет-Гирею соединить оружие против Литвы и наследников Ахматовых. В описании сего посольства заметим некоторые любопытные черты. Аппак явился в чалме и не хотел снимать ее перед Василием. «Что значит такая новость? – спросили наши бояре. – Ты князь, однако ж не азейского рода, не мольнин и никогда не бывал в Мекке». Аппак изъяснил, что Магмет-Гирей дозволил ему ехать к Магометову гробу и в знак сего украсил его голову знамением правоверия. Посол и чиновники московские преклоняли колена, говоря друг другу именем своих государей. Он здравствовался с великим князем и стал на колена, чтобы отдать ханские письма. Союз утвердился присягою. Хартия шертная лежала на столе под крестом; Василий сказал: «Аппак! На сей грамоте клянуся моему брату, Магмет-Гирею, дружить его друзьям, враждовать неприятелям. Тут не упоминается об Астрахани; но даю слово вместе с ним объявить ей войну». Государь поцеловал крест, взяв письменное обязательство с Аппака в верности Магмет-Гирея.
Между тем судьба Казани решилась не так, как думал хан. Магмет-Аминь в ужасных муках закрыл глаза навеки: исполняя волю его и свой торжественный обет, уланы и вельможи казанские требовали нового царя от руки Василия, давно знавшего мысль хана крымского, но таившего свою. Настало время или угодить Магмет-Гирею, или сделать величайшую досаду. Василий не колебался: как ни желал союза Тавриды, но еще более опасался усилить ее хана, который в надменности властолюбия замышлял подчинением себе Астрахани и Казани восстановить царство Батыево, столь ужасное в памяти россиян. Один безумный варвар мог в таком случае ждать их услуг и содействия: не брату, а злодею Магмет-Гирееву Василий готовил престол в Казани и послал туда тверского дворецкого Михайла Юрьева объявить жителям, что дает им в цари юного Шиг-Алея, внука Ахматова, который переехал к Иоанну с отцом своим, Шиг-Авлеаром, из Астрахани и к неудовольствию Магмет-Гирея владел у нас городком Мещерским. Вельможи и народ, изъявив благодарность, прислали в Москву знатных людей за Шиг-Алеем. Димитрий Бельский отправился с ними и с новым царем в Казань, возвел его на престол, взял с народа клятву в верности к государю московскому. Все были довольны, и Шиг-Алей, воспитанный в России, искренно преданный великому князю как единственному своему покровителю, не имел иной мысли, кроме той, чтобы служить ему усердно в качестве присяжника.

Б. А. Чориков. Великий князь Василий Иванович обновляет союз с Крымом
Сие делалось во время бытности Аппака в Москве, и хотя не помешало заключению союза с Тавридою, однако ж произвело объяснения. Посол с удивлением спросил, для чего Василий, друг его царя, отдал Казань внуку ненавистного Ахмата? «Разве нет у нас царевичей? – сказал он. – Разве кровь ордынская лучше Менгли-Гиреевой? Впрочем, я говорю только от своего имени, угадывая мысли хана». Василий уверял, что он думал возвести брата или сына Магмет-Гиреева на сие царство, но что казанские вельможи непременно требовали Шиг-Алея, и если бы воля их не исполнилась, то они взяли бы себе царя из ногаев или Астрахани, следственно, опасного неприятеля России. Аппак замолчал, и вскоре пришла в Москву желанная весть, что хан уже действует как наш ревностный союзник; что сын его, калга Богатырь, совсем нечаянно вступив в Литву с 30 000 воинов, огнем и мечом опустошил Сигизмундовы владения едва не до самого Кракова, наголову разбил гетмана Константина Острожского, пленил 60 000 жителей, умертвил еще более и возвратился с торжеством счастливого разбойника, покрытый кровию и пеплом. Доказав, таким образом, королю, что мнимый союз варваров бывает хуже явной вражды (ибо производит оплошность), Магмет-Гирей готовился доказать сию истину и великому князю; но еще около двух лет представлял лицо нашего друга. Аппак выехал из Москвы весьма довольный милостью государя, и новый посол российский, боярин Федор Клементьев, заступил в Тавриде место князя Пронского. Зная, сколь Магмет-Гирей боится султана, Василий отправил в Царьград дворянина Голохвастова с письмом к Селиму, изъявляя сожаление; что он долго не шлет к нам второго, обещанного им посольства для заключения союза, который мог бы обуздывать хана, ужасая Литву с Польшею. Голохвастов имел еще тайное поручение видеться в Константинополе с Гемметом-царевичем, сыном убитого в Тавриде калги Ахмата. Носился слух, что султан мыслит дать ему Крымское ханство; а как отец его любил Россию, то великий князь надеялся и на дружбу сына. Голохвастов должен был предложить Геммету покровительство Василиево, верное убежище в Москве, удел и жалованье. Геммет, непримиримый враг своего дяди Магмет-Гирея, мог и в изгнании быть нам полезен, имея связи и друзей в Тавриде: тем более надлежало искать в нем приязни, если милость султанская готовила для него ханство. Посол наш возвратился благополучно. Геммет не сделался ханом, не приехал и в Россию; но Селим, написав Василию ласковый ответ, в доказательство истинной к нему дружбы велел своим пашам тревожить королевские владения; подтвердил также условия свободной торговли между обеими державами.

Царь Шиг-Алей на престоле в Казани. Миниатюра из Лицевого летописного свода, XVI в.
Изумленный нападением Магмет-Гирея, Сигизмунд узнал, что и присяжник его Альбрехт, магистр Немецкого ордена, вследствие заключенного им договора с Россией готовится к войне. Долго сей искренний союз не имел своего действия от двух причин. Во-первых, папа Леон X убеждал магистра не только остаться в мире с королем, но и быть посредником между ним и Россией, предлагая ему главное воеводство в христианском всенародном ополчении, коему надлежало собраться под знаменами веры, чтобы смирить гордость султана. Сей папа, славный в истории любовию к искусствам и наукам гораздо более, нежели пастырскою ревностью и государственным благоразумием, представлял через магистра и великому князю, что Константинополь есть законное наследие российского монарха, сына греческой царевны; что здравая политика велит нам примириться с Литвою, ибо время воюет сию державу и Сигизмунд не имеет наследников; что смерть его разрушит связь между Литвою и Польшею, которые, без сомнения, изберут тогда разных владетелей и несогласием ослабеют; что все благоприятствует величию России, и мы станем на первой степени держав европейских, если, соединясь с ними против оттоманов, соединимся и верою; что церковь греческая не имеет главы; что древняя сестра ее, церковь римская, возвысит нашего митрополита в сан патриарха, утвердит грамотою все добрые наши обычаи без малейшей перемены и новостей; что он (папа) желает украсить главу непобедимого царя русского венцом царя христианского без всякого мирского возмездия или прибытка, единственно во славу Божию.
Василий, как пишут, негодовал на Леона за то, что он торжественно праздновал в Риме победу Сигизмундову в 1514 году, объявив нас еретиками; однако ж сей благоразумный государь ответствовал магистру, что ему весьма приятно видеть доброе к нам расположение папы и быть с ним в дружественных сношениях по государственным делам Европы; но что касается веры, то Россия была, есть и будет греческого исповедания во всей чистоте и неприкосновенности оного. Поверенный Леонов в Кракове и в Кёнигсберге, монах Николай Шонберг, желал ехать и в Москву: великий князь обещал принять его милостиво и дозволил папе иметь через Россию сообщение с царем персидским. Второю виною Альбрехтовой медленности был недостаток в деньгах: он требовал 100 000 гривен серебра от великого князя, чтобы нанять воинов в Германии; но великий князь, опасаясь истощить казну свою бесполезно, ответствовал: «Возьми прежде Данциг и вступи в Сигизмундову землю»; а магистр говорил: «Не могу ничего сделать без денег». По желанию Альбрехта Василий написал дружественные грамоты к королю французскому и немецким избирателям или курфюрстам, убеждая их вступиться за Орден, утесняемый Польшею, и советовал князьям Германии избрать такого императора, который мог бы сильною рукою защитить христианство от неверных и ревностнее Максимилиана покровительствовать славное рыцарство немецкое. Послы магистровы были честимы в Москве, наши в Кёнигсберге: Альбрехт сам ходил к ним для переговоров, сажал их за обедом на свое место, не хотел слушать поклонов от великого князя, называя себя недостойным такой высокой чести; приказывал к нему поклоны, до земли, учил немцев языку русскому; говорил с умилением о благодеяниях, ожидаемых им от России для Ордена знаменитого, хотя и несчастного в угнетении; объявил государю всех своих тайных союзников, и в числе их короля датского, архиепископов майнцского, кёльнского, герцогов саксонского, баварского, брауншвейгского и других; уверял, что папа Леон будет за нас, если Сигизмунд отвергнет мир справедливый; в порыве ревности даже не советовал Василию мириться, чтобы Литва, находясь тогда в обстоятельствах затруднительных, не имела времени отдохнуть. Великий князь не сомневался в усердии магистра, но сомневался в его силах; наконец послал ему серебра на 14 000 червонцев для содержания тысячи наемных ратников к удивлению магистра ливонского Плеттенберга, который смеялся над легковерием Альбрехта, говоря: «Я живу в соседстве с россиянами и знаю их обычай: сулят много, а не дают ничего». Узнав же, что серебро привезли из Москвы в Ригу, он вскочил с места, всплеснул руками и сказал: «Чудо! Бог явно помогает великому магистру!» Слыша, что Альбрехт действительно вызывает к себе 10 000 ратников из Германии и всеми силами ополчается на короля; сведав, что война уже открылась между ними (в конце 1519 года), великий князь еще отправил знатную сумму денег в Пруссию, желая Ордену счастия, славы и победы.
Между тем Россия и сама бодро действовала оружием. Московская дружина, новгородцы и псковитяне осаждали в 1518 году Полоцк; но голод принудил их отступить: немалое число детей боярских, гонимых литовским паном Волынцем, утонуло в Двине. В августе 1519 года воеводы наши, князья Василий Шуйский из Смоленска, Горбатый из Пскова, Курбский из Стародуба, ходили до самой Вильны и далее, опустошая, как обыкновенно, всю землю; разбили несколько отрядов и шли прямо на большую литовскую рать, которая стояла в Креве, но удалилась за Лоск, в места тесные и непроходимые. Россияне удовольствовались добычею и пленом, несметным, как говорит летописец. Другие воеводы московские, Василий Годунов, князь Елецкий, Засекин с сильною татарскою конницею приступали к Витебску и Полоцку, выжгли предместья, взяли внешние укрепления, убили множество людей. Третья рать под начальством Феодора царевича, крещенного племянника Алегамова, также громила Литву. Польза сих нападений состояла единственно в разорении неприятельской земли: магистр советовал нам предпринять важнейшее: сперва завоевать Самогитию, открытую, беззащитную и богатую хлебом; а после идти в Мазовию, где он хотел соединиться с российским войском, чтобы ударить на короля в сердце его владений, в самое то время, когда наемные немецкие полки, идущие к Висле, устремятся на него с другой стороны.
[1520 г.] Положение Сигизмундово казалось весьма бедственным. Не только война, но и язва опустошала его державу. Лучшее королевское войско состояло из немцев и богемских славян: они после неудачного приступа к Опочке с досадою ушли восвояси и говорили столь обидные для Сигизмунда речи, что единоземцы их уже не хотели служить ему. Лавры славного гетмана Константина увяли. Города литовские стояли среди усеянных пеплом степей, где скитались толпами бедные жители деревень, сожженных крымцами или россиянами. Но счастие вторично спасло Сигизмунда. Он не терял бодрости; искал мира, не отказываясь от прежних требований, и заключил в Москве через пана Лелюшевича только перемирие на шесть месяцев: действовал в Тавриде убеждениями и подкупом; укреплял границу против нас и всеми силами наступил на магистра, слабейшего, однако ж весьма опасного врага, который имел тайные связи в немецких городах Польши, знал ее способы, важные местные обстоятельства и мог давать гибельные для нее советы великому князю. Альбрехт предводительствовал не тысячами, а сотнями, ожидая серебра из Москвы и воинов из Германии; сражаясь мужественно, уступал многочисленности неприятелей и едва защитил Кёнигсберг, откуда посол наш должен был для безопасности выехать в Мемель. Наемники Ордена, 13 000 немцев, действительно явились на берегах Вислы, осадили Данциг, но рассеялись, не имея съестных запасов, ни вестей от магистра. Воеводы королевские взяли Мариенвердер, Голланд и заставили Альбрехта просить мира.
[1521 г.] Но главным Сигизмундовым счастием была измена казанская с ее зловредными для нас последствиями. Если хан крымский, сведав о воцарении Шиг-Алея, не вдруг с огнем и мечом устремился на Россию, то сие происходило от боязни досадить султану, коего отменная благосклонность к великому князю была ему известна. Селим, гроза Азии, Африки и Европы, умер, и немедленно отправился в Константинополь посол московский Третьяк Губин приветствовать его сына, героя Солимана, на троне оттоманском, и новый султан велел объявить Магмет-Гирею, чтобы он никогда не смел беспокоить России. Тщетно хан старался уничтожить сию дружбу, основанную на взаимных выгодах торговли, и внушал Солиману, что великий князь ссылается со злодеями Порты, дает царю персидскому огнестрельный снаряд и пушечных художников, искореняет веру магометанскую в Казани, разоряет мечети, ставит церкви христианские. Мы имели усердных доброжелателей в пашах азовском и кафинском: утверждаемый ими в приязни к нам, султан не верил клеветам Магмет-Гирея, который языком разбойника сказал ему наконец: «Чем же буду сыт и одет, если запретишь мне воевать московского князя?» Готовясь покорить Венгрию, Солиман желал, чтобы крымцы опустошали земли ее союзника, Сигизмунда, но хан уже возобновил дружбу с Литвою. Еще называясь братом Магмет-Гиреевым, великий князь вдруг услышал о бунте казанцев. Года три Шиг-Алей царствовал спокойно и тихо, ревностно исполняя обязанность нашего присяжника, угождая во всем великому князю, оказывая совершенную доверенность к россиянам и холодность к вельможам казанским: следственно, не мог быть любим подданными, которые только боялись, а не любили нас, и с неудовольствием видели в нем слугу московского. Самая наружность Алеева казалась им противною, изображая склонность к низким, чувственным наслаждениям, несогласным с доблестью и мужеством: он имел необыкновенно толстое, отвислое брюхо, едва заметную бороду и лицо женское. Его добродушие называли слабостию: тем более жаловались, когда он, подвигнутый усердием к России, наказывал злых советников, предлагавших ему отступить от великого князя по примеру Магмет-Аминя. Такое общее расположение умов в Казани благоприятствовало проискам Магмет-Гирея, который обещал ее князьям полную независимость, если они возьмут к себе в цари брата его Саипа и соединятся с Тавридою для восстановления древней славы Чингисова потомства.
Успех сих тайных сношений открылся весною в 1521 году: Саип-Гирей с полками явился перед стенами казанскими, без сопротивления вступил в город и был признан царем; Алея, воеводу московского Карпова и посла великокняжеского Василия Юрьева взяли под стражу, всех наших купцов ограбили, заключили в темницы, однако ж не умертвили ни одного человека: ибо новый царь хотел показать умеренность; объявил себя покровителем сверженного Шиг-Алея, уважая в нем кровь Тохтамышеву; дал ему волю ехать со своею женою в Москву, коней и проводника; освободил и воеводу Карпова. Немедленно оставив Казань, Алей встретился в степях с нашими рыболовами, которые летом обыкновенно жили на берегах Волги, у Девичьих гор, и тогда бежали в Россию, испуганные возмущением казанцев: он вместе с ними питался запасом сушеной рыбы, травою, кореньями; терпел голод и едва мог достигнуть российских пределов, откуда путешествие его до столицы было уже как бы торжественным: везде чиновники великокняжеские ждали царя-изгнанника с приветствиями и с брашном, а народ с изъявлением усердия и любви. Все думные бояре выехали к нему из Москвы навстречу. Сам государь на лестнице дворца обнялся с ним дружески. Оба плакали. «Хвала Всевышнему! – сказал Василий. – Ты жив: сего довольно». Он благодарил Алея именем отечества за верность; утешал, осыпал дарами; обещал ему и себе управу: но еще не успел предпринять мести, когда туча варваров нашла на Россию.
Исхитив Казань из наших рук, Магмет-Гирей не терял времени в бездействии: хотел укрепить ее за своим братом и для того сильным ударом потрясти Василиеву державу; вооружил не только всех крымцев, но поднял и ногаев; соединился с атаманом казаков литовских Евстафием Дашковичем и двинулся так скоро к московским пределам, что государь едва успел выслать рать на берега Оки, дабы удержать его стремление. Главным воеводою был юный князь Димитрий Бельский; с ним находился и меньший брат государев, Андрей: они в безрассудной надменности не советовались с мужами опытными или не слушались их советов; стали не там, где надлежало; перепустили хана через Оку, сразились не вовремя, без устройства, и малодушно бежали. Воеводы князь Владимир Курбский, Шереметев, двое Замятниных положили свои головы в несчастной битве. Князя Феодора Оболенского-Лопату взяли в плен. Великий князь ужаснулся, и еще гораздо более, сведав, что другой неприятель, Саип-Гирей Казанский, от берегов Волги также идет к нашей столице. Сии два царя соединились под Коломною, опустошая все места, убивая, пленяя людей тысячами, оскверняя святыню храмов, злодействуя, как бывало в старину при Батые или Тохтамыше. Татары сожгли монастырь Св. Николая на Угреше и любимое село Василиево, Остров, а в Воробьеве пили мед из великокняжеских погребов, смотря на Москву. Государь удалился в Волок собирать полки, вверив оборону столицы зятю, царевичу Петру, и боярам. Все трепетало.
Хан 29 июля [1521 г.] среди облаков дыма, под заревом пылающих деревень, стоял уже в нескольких верстах от Москвы, куда стекались жители окрестностей с их семействами и драгоценнейшим имением. Улицы заперлись обозами. Пришельцы и граждане, жены, дети, старцы, искали спасения в Кремле, теснились в воротах, давили друг друга. Митрополит Варлаам (преемник Симонов) усердно молился с народом: градоначальники распорядили защиту, всего более надеясь на искусство немецкого пушкаря Никласа. Снаряд огнестрельный мог действительно спасти крепость; но был недостаток в порохе.

А. М. Васнецов. В осадном сидении. Троицкий мост и башня Кутафья
Открылось и другое бедствие: ужасная теснота в Кремле грозила неминуемою заразою. Предвидя худые следствия, слабые начальники вздумали – так повествует один чужеземный современный историк – обезоружить хана Магмет-Гирея богатыми дарами: отправили к нему посольство и бочки с крепким медом. Опасаясь нашего войска и неприступных для него московских укреплений, хан согласился не тревожить столицы и мирно идти восвояси, если великий князь по уставу древних времен обяжется грамотою платить ему дань. Едва ли сам варвар Магмет-Гирей считал такое обязательство действительным: вероятнее, что он хотел единственно унизить Василия и засвидетельствовать свою победу столь обидным для России договором. Вероятно и то, что бояре московские не дерзнули бы дать сей грамоты без ведома государева: Василий же, как видно, боялся временного стыда менее, нежели бедствия Москвы, и предпочел ее мирное избавление славным опасностям кровопролитной, неверной битвы. Написали хартию, скрепили великокняжескою печатью, вручили хану, который немедленно отступил к Рязани, где стан его имел вид азиатского торжища: разбойники сделались купцами, звали к себе жителей, уверяли их в безопасности, продавали им свою добычу и пленников, из коих многие даже без выкупа уходили в город. Сие было хитростью. Атаман литовский Евстафий Дашкович советовал Магмет-Гирею обманом взять крепость: к счастию, в ней бодрствовал окольничий Хабар Симский, сын Иоаннова воеводы Василия Образца, муж опытный, благоразумный, спаситель Нижнего Новгорода. Хан, желая усыпить его, послал к нему московскую грамоту в удостоверение, что война закончилась и что великий князь признал себя данником Крыма; а между тем неприятельские толпы шли к крепости будто бы для отыскания своих беглецов. Симский, исполняя устав чести, выдал им всех пленников, укрывавшихся в городе, и заплатил 100 рублей за освобождение князя Феодора Оболенского; но число литовцев и татар непрестанно умножалось под стенами до самого того времени, как рязанский искусный пушкарь, немец Иордан, одним выстрелом положил их множество на месте: остальные в ужасе рассеялись. Коварный хан притворился изумленным: жаловался на сие неприятельское действие; требовал головы Иордановой, стращал местью, но спешил удалиться, ибо сведал о впадении астраханцев в его собственные пределы. Торжество Симского было совершенно; он спас не только Рязань, но и честь великокняжескую: постыдная хартия Московская осталась в его руках. Ему дали после сан боярина и – что еще важнее – внесли описание столь знаменитой услуги в книги Разрядные и в Родословные на память векам.

Спас Смоленский с припадающими Сергием и Варлаамом. Икона посвящена видению монахине Спаса с преподобными во время нашествия татар при Василии Ивановиче
Сие нашествие варваров было самым несчастнейшим случаем Василиева государствования. Предав огню селения от Нижнего Новгорода и Воронежа до берегов Москвы-реки, они пленили несметное число жителей, многих знатных жен и девиц, бросая грудных младенцев на землю; продавали невольников толпами в Кафе, в Астрахани; слабых, престарелых морили голодом: дети крымцев учились над ними искусству язвить, убивать людей. Одна Москва славила свое, по мнению народа, сверхъестественное спасение: рассказывали о явлениях и чудесах; уставили особенный крестный ход в монастырь Сретения, где мы доныне три раза в год благодарим Небо за избавление сей древней столицы от Тамерланова, Ахматова и Магмет-Гиреева нападений. Великий князь, возвратясь, изъявил признательность немецким чиновникам огнестрельного снаряда, Никласу и Иордану; но велел судить воевод, которые пустили хана в сердце России. Все упрекали Бельского безрассудностью и малодушием; а Бельский слагал вину на брата государева Андрея, который, первый показав тыл неприятелю, увлек других за собою. Василий, щадя брата, наказал только одного воеводу, князя Ивана Воротынского, мужа весьма опытного в ратном деле и дотоле всегда храброго. Вина его, кажется, состояла в том, что он, будучи оскорблен надменностью Бельского, с тайным удовольствием видел ошибки сего юного полководца, жертвовал самолюбию отечеством и не сделал всего возможного для блага России: преступление важное и тем менее извинительное, чем труднее уличить виновного! Лишенный своего поместья и сана, князь Воротынский долгое время сидел в заключении: был после освобожден, ездил ко двору, но не мог выехать из столицы.
Скоро пришло в Москву известие о новом грозном для нас замысле хана: он велел объявить на трех торгах, в Перекопи, в Крыме, в Кафе, и в других местах, чтобы его уланы, мурзы, воины не слагали с себя оружия, не расседлывали коней и готовились вторично идти на Россию. Татары не любили воевать в зимнее время, без подножного корма: весною полки наши заняли берега Оки, куда прибыл и сам великий князь. Никогда Россия не имела лучшей конницы и столь многочисленной пехоты. [1522 г.] Главный стан близ Коломны уподоблялся обширной крепости, под защитою огнестрельного снаряда, которого мы прежде не употребляли в поле. Сказывают, что государь, любуясь прекрасным войском и станом, послал вестника к Магмет-Гирею с такими словами: «Вероломно нарушив мир и союз, ты в виде разбойника, душегубца, зажигальщика напал нечаянно на мою землю. Имеешь ли бодрость воинскую? Иди теперь: предлагаю тебе честную битву в поле». Хан ответствовал, что ему известны пути в Россию и время, удобное для войны; что он не спрашивает у неприятелей, где и когда сражаться. Лето проходило. Магмет-Гирей не являлся. В августе государь возвратился в Москву, где Солиманов посол, князь манкупский Скиндер, уже несколько месяцев ждал его, приехав из Константинополя вместе с Третьяком-Губиным.
Послу оказали великую честь: государь встал с места, чтобы спросить у него о здравии султана; дал ему руку и велел сесть подле себя. Нельзя было писать ласковее, как Солиман писал Василию, своему верному приятелю и доброму соседу, уверяя, что желает быть с ним в крепкой дружбе и в братстве, но Скиндер говорил единственно о делах торговых и, купив несколько драгоценных мехов, уехал. Не теряя надежды приобрести деятельный союз Оттоманской империи, Василий еще посылал в Константинополь ближнего дворянина Ивана Морозова с дружественными грамотами; однако же не велел ему объявлять условий, на коих мы желали заключить письменный договор с Портою: ибо великому князю, по обыкновенной гордости нового российского двора, хотелось, чтобы султан прислал для того собственного вельможу в Москву. Сей опыт был последним с нашей стороны: Солиман довольствовался учтивостями, не думая, кажется, чтобы Россия могла искренно содействовать оттоманам в покорении христианских держав, и еще менее думая быть орудием нашей особенной политики; стесняя Венгрию, завоевав Родос, готовясь устремиться на Мальту, он требовал от нас мира, товаров и ничего более.
Если бы Сигизмунд в одно время с Магмет-Гиреем и с казанским царем напал на Россию, то великий князь увидел бы себя в крайности и поздно бы узнал, сколь судьба государства бывает непостоянна вопреки хитрым соображениям ума человеческого. Но, к счастию нашему, король не имел сильного войска, боялся ужасного Солимана, знал вероломство хана крымского и, радуясь претерпенному нами от него бедствию, надеялся только, что оно склонит Василия к миролюбию. Государь в самом деле желал прекратить войну с Литвою для скорейшего обуздания Тавриды и Казани. Пользуясь обстоятельствами, Сигизмунд хотел договариваться о мире не в Москве, как обыкновенно бывало, а в Вильне или в Кракове: великий князь отверг сие предложение, и знатный королевский чиновник Петр Станиславович с секретарем Иваном Горностаем приехали в Москву, когда еще воеводы наши стояли у Коломны, готовые идти на татар или на Литву. Не могли согласиться в условиях вечного мира: долго спорили о перемирии; наконец заключили его на пять лет от 25 декабря 1522 года. Смоленск остался нашим; границею служили Днепр, Ивака и Меря. Уставили вольность торговли; поручили наместникам украинским решить тяжбы между жителями обоих государств: но пленникам не дали свободы, к прискорбию Василия, который должен был отказаться от сего требования. Окольничий Морозов и дворецкий Бутурлин ездили в Краков с перемирною грамотою. Литовский историк с удивлением говорит о пышности сих вельмож, сказывая, что под ними было пятьсот коней. Два раза Сигизмунд звал их обедать, и два раза они уходили из дворца, чтобы не сидеть за столом вместе с папскими, цесарскими и венгерскими поверенными в делах: ибо сие казалось для них несовместным с честью великокняжеского посольства. Король утвердил грамоту присягою, облегчив судьбу наших пленников.
Так закончилась сия десятилетняя война Литовская, славная для Сигизмунда громкою победою Оршинскою, а для нас полезная важным приобретением Смоленска, для обоих же государств равно опустошительная, если отнесем к ней гибельное нашествие Магмет-Гирея. Достопамятным следствием ее было уничтожение Немецкого ордена, к прискорбию Василия, который лишился в нем хотя и слабого, но ревностного союзника. Уступив силе, жалуясь на скупость великого князя, может быть, невольную по нашим умеренным доходам, и на худое усердие своего народа, магистр искал мира и пожертвовал ему бытием рыцарства, славного в летописях. Сигизмунд признал Альбрехта наследственным владетелем орденских городов с условием, чтобы они вечно зависели от государей польских, и дал Пруссии герб Черного Орла с изображением буквы S, начальной Сигизмундова имени. Хотя с переменою обстоятельств сие знаменитое Палестинское братство отжило век свой и казалось уже несоответственным новому государственному порядку в Европе: однако ж гибель учреждения, столь памятного своею великодушною целию, законами суровой добродетели и геройством первых основателей, произвела всеобщее сожаление. Орден Ливонский, быв около трех веков сопряжен с Немецким, остался в печальном уединении среди грозных опасностей и между двумя сильными державами, Россией и Польшею, в ненадежной, но в полной свободе, как старец при дверях гроба. Ливонские рыцари давали великому магистру немецкому деньги и людей для войны: за что он торжественно объявил их независимыми навеки. Судьба также готовила им конец; но Плеттенберг еще жил и как бы в награду за свое великодушие долженствовал спокойно умереть главою свободного братства. В 1521 году он возобновил мирный договор с Россией на 10 лет.
Глава III Продолжение государствования Василиева (1521–1534)
Распространив Литовскою войною пределы государства, Василий в то же время довершил великое дело единовластия внутри оного.
[1517–1523 гг.] Еще Рязань была особенным княжением, хотя треть городов ее, часть умершего князя Феодора, принадлежала к Московскому, и Василий уже именовался Рязанским. Еще князья северский и стародубский, или черниговский, называясь слугами государя российского, имели права владетелей. Василий, исполнитель Иоанновых намерений, ждал только справедливого повода к необходимому уничтожению сих остатков удельной системы.
Вдова, княгиня Агриппина, несколько лет господствовала в Рязани именем своего малолетнего сына Иоанна: Василий оставлял в покое слабую жену и младенца, ибо первая во всем повиновалась ему как верховному государю; но сын ее, достигнув юношеского возраста, захотел вдруг свергнуть с себя опеку и матери, и великого князя московского: то есть властвовать независимо, как его предки, старейшие в роде Ярослава I. Пишут, что он торжественно объявил сие Василию, вступил в тесную связь с ханом крымским и мыслил жениться на дочери Магмет-Гиреевой. Государь велел ему быть к себе в Москву: князь Иоанн долго не ехал; наконец, обманутый советом знатнейшего боярина своего Симеона Крубина, явился перед Василием, который, уличив его в неблагодарности, в измене, в дружбе со злодеями России, отдал под стражу, взял всю Рязань, а вдовствующую княгиню Агриппину сослал в монастырь. Сие случилось в 1517 году. Когда Магмет-Гирей шел к Москве, князь Иоанн, пользуясь общим смятением, бежал оттуда в Литву, где и окончил жизнь в неизвестности. Таким образом, около четырех столетий быв отдельным, независимым княжением, Рязань вслед за Муромом и за Черниговом присоединилась к северным владениям Мономахова потомства, которые составили российское единодержавие. Она считалась тогда лучшею и богатейшею из всех областей государства Московского, будучи путем нашей важной торговли с Азовом и Кафою, изобилуя медом, птицами, зверями, рыбою, особенно хлебом, так что нивы ее, по выражению писателей XVI века, казались густым лесом. Жители славились воинским духом; их упрекали высокоумием и суровостью. Чтобы мирно господствовать над ними, великий князь многих перевел в другие области.
[1525 г.] Тогда великий князь, свободный от дел воинских, занимался важным делом семейственным, тесно связанным с государственною пользою. Он был уже двадцать лет супругом, не имея детей, следственно, и надежды иметь их. Отец с удовольствием видит наследника в сыне: таков устав природы; но братья не столь близки к сердцу, и Василиевы не оказывали ни великих свойств душевных, ни искренней привязанности к старейшему, более опасаясь его как государя, нежели любя как единокровного. Современный летописец повествует, что великий князь, едучи однажды на позлащенной колеснице, вне города увидел на дереве птичье гнездо, заплакал и сказал: «Птицы счастливее меня: у них есть дети!» После он также со слезами говорил боярам: «Кто будет моим и Русского царства наследником? Братья ли, которые не умеют править и своими уделами?» Бояре ответствовали: «Государь! Неплодную смоковницу посекают: на ее месте садят иную в вертограде». Не только придворные угодники, но и ревностные друзья отечества могли советовать Василию, чтобы он развелся с Соломониею, обвиняемою в неплодии, и новым супружеством даровал наследника престолу.
Следуя их мнению и желая быть отцом, государь решился на дело, жестокое в смысле нравственности: немилосердно отвергнуть от своего ложа невинную, добродетельную супругу, которая двадцать лет жила единственно для его счастия; предать ее в жертву горести, стыду, отчаянию; нарушить святой устав любви и благодарности. Если митрополит Даниил, снисходительный, уклончивый, внимательный к миру более, нежели к духу, согласно с великокняжеским синклитом признал намерение Василиево законным или еще похвальным: то нашлись и духовные и миряне, которые смело сказали государю, что оно противно совести и церкви. В числе их был пустынный инок Вассиан, сын князя литовского Ивана Юрьевича Патрикеева и сам некогда знатнейший боярин, вместе с отцом в 1499 году неволею постриженный в монахи за усердие к юному великому князю, несчастному Димитрию. Сей муж уподоблялся, как пишут, древнему святому Антонию: его заключили в Волоколамском монастыре, коего иноки любили угождать мирской власти; а престарелого воеводу князя Симеона Курбского, завоевателя земли Югорской, строгого постника и христианина, удалили от двора: ибо он также ревностно вступался за права Соломонии. Самые простолюдины – одни по естественной жалости, другие по Номоканону – осуждали Василия. Чтобы обмануть закон и совесть, предложили Соломонии добровольно отказаться от мира: она не хотела. Тогда употребили насилие: вывели ее из дворца, постригли в Рождественском девичьем монастыре, увезли в Суздаль и там в женской обители заключили. Уверяют, что несчастная противилась совершению беззаконного обряда и что сановник великокняжеский Иван Шигона угрожал ей не только словами, но и побоями, действуя именем государя; что она залилась слезами и, надевая ризу инокини, торжественно сказала: «Бог видит и отмстит моему гонителю».

Елена Глинская. Скульптурная реконструкция по черепу С. А. Никитина
Не умолчим здесь о предании любопытном, хотя и недостоверном: носился слух, что Соломония, к ужасу и бесполезному раскаянию великого князя, оказалась после беременною, родила сына, дала ему имя Георгия, тайно воспитывала его и не хотела никому показать, говоря: «В свое время он явится в могуществе и славе». Многие считали то за истину, другие за сказку, вымышленную друзьями сей несчастной добродетельной княгини. [1526 г.] Разрешив узы своего брака, Василий по уставу церковному не мог вторично быть супругом: чья жена с согласия мужа постригается, тот должен сам отказаться от света. Но митрополит дал благословение, и государь через два месяца женился на княжне Елене, дочери Василия Глинского, к изумлению наших бояр, которые не думали, чтобы род чужеземных изменников удостоился такой чести. Может быть, не одна красота невесты решила выбор; может быть, Елена, воспитанная в знатном владетельном доме и в обычаях немецких, коими славился ее дядя Михаил, имела более приятности в уме, нежели тогдашние юные россиянки, научаемые единственно целомудрию и кротким, смиренным добродетелям их пола. Некоторые думали, что великий князь из уважения к достоинствам Михаила Глинского женился на его племяннице, дабы оставить в нем надежного советника и путеводителя своим детям. Сие менее вероятно: ибо Михаил после того еще более года сидел в темнице, освобожденный наконец ревностным ходатайством Елены. Свадьба была великолепна. Праздновали три дня. Двор блистал необыкновенною пышностью. Любя юную супругу, Василий желал ей нравиться не только ласковым обхождением с нею, но и видом молодости, которая от него удалялась: обрил себе бороду и пекся о своей приятной наружности.
В сие время Василий, благоразумием заслуживая счастие в деяниях государственных, сделался и счастливым отцом семейства. Более трех лет Елена вопреки желанию супруга и народа не имела детей. Она ездила с великим князем в Переславль, Ростов, Ярославль, Вологду, на Белоозеро; ходила пешком в святые обители и пустыни, раздавала богатую милостыню, со слезами молилась о чадородии, и без услышания. Добрые жалели о том: некоторые, осуждая брак Василиев как беззаконный, с тайным удовольствием предсказывали, что Бог никогда не благословит оного плодом вожделенным. Наконец Елена оказалась беременною. Какой-то юродивый муж, именем Дометиан, объявил ей, что она будет матерью Тита, широкого ума, и – в 1530 году, августа 25, в 7 часу ночи – действительно родился сын Иоанн, столь славный добром и злом в нашей истории! Пишут, что в самую ту минуту земля и небо потряслись от неслыханных громовых ударов, которые следовали один за другим с ужасною, непрерывною молниею. Вероятно, что гадатели двора великокняжеского умели растолковать сей случай в пользу новорожденного: не только отец, но и вся Москва, вся Россия, по словам летописца, были в восторге. Через десять дней великий князь отвез младенца в Троицкую лавру, где игумен Иоасаф Скрыпицын вместе с благочестивейшими иноками, столетним Кассианом Босым, Иосифова Волоколамского монастыря, и св. Даниилом Переславским, окрестили его. Обливаясь слезами умиления, родитель взял из их рук своего дражайшего первенца и положил на раку св. Сергия, моля угодника, да будет ему наставником и защитником в опасностях жизни. Василий не знал, как изъявить благодарность Небу: сыпал золото в казны церковные и на бедных; велел отворить все темницы и снял опалу со многих знатных людей, бывших у него под гневом: с князя Федора Мстиславского, женатого на племяннице государевой и ясно уличенного в намерении бежать к польскому королю; с князей Щенятева, Суздальского-Горбатого, Плещеева, Морозова, Лятцкого, Шигоны и других, подозреваемых в недоброжелательстве к Елене.
С утра до вечера дворец наполнялся усердными поздравителями, не только московскими, но и самых отдаленных городов жителями, которые хотели единственно взглянуть на счастливого государя и сказать ему: «Мы счастливы вместе с тобою!» Пустынники, отшельники приходили благословить державного младенца в пеленах и были угощаемы за трапезою великокняжескою. В знак признательности к угодникам Божиим, защитникам Москвы, святым митрополитам Петру и Алексию, великий князь заказал сделать для их мощей богатые раки: для первого золотую, для второго серебряную. Одним словом, никто живее Василия не чувствовал радости быть отцом, тем более что он – вероятно, тревожимый совестью за развод с несчастною первою супругою – мог видеть в сем благословенном плоде второго брака как бы знак Небесного умилостивления. Елена через год и несколько месяцев родила еще сына Георгия. Тогда государь женил меньшего брата своего, Андрея, на княжне хованской Евфросинии. Братья Симеон и Димитрий Иоанновичи скончались безбрачными: первый в 1518 году, а второй в 1521 году. Василий, кажется, не дозволял им жениться, пока не имел детей, чтобы отнять у них всякую мысль о наследовании престола.
Летописцы говорят, что странное небесное знамение еще 24 августа [1533 г.] предвестило смерть Василиеву; что в первом часу дня круг солнца казался вверху будто бы срезанным; что оно мало-помалу темнело среди ясного неба и что многие люди, смотря на то с ужасом, ожидали какой-нибудь великой государственной перемены. Василий имел 54 года от рождения; бодрствовал духом и телом; не чувствовал дотоле никаких припадков старости; не знал болезней; любил всегда деятельность и движение. Радуясь изгнанию неприятеля, он с супругою и детьми праздновал 25 сентября, день Св. Сергия, в Троицкой лавре; поехал на охоту в Волок Ламский и в своем селе Озерецком занемог таким недугом, который сперва нимало не казался опасным. На сгибе левого стегна явилась болячка с булавочную головку, без верха и гноя, но мучительная. Великий князь с нуждою доехал до Волока; однако ж был на пиру у дворецкого Ивана Юрьевича Шигоны, а на другой день ходил в мыльню и обедал с боярами. Время стояло прекрасное для охоты: государь выехал с собаками; но от сильной боли возвратился с поля в село Колпь и лег в постелю. Немедленно призвали Михаила Глинского и двух немецких медиков, Николая Люева и Феофила. Лекарства употреблялись русские: мука с медом, печеный лук, масть, горшки и семенники. Сделалось воспаление: гной шел целыми тазами из чирья. Боярские дети перенесли государя в Волок Ламский. Он перестал есть; чувствовал тягость в груди и, скрывая опасность не от себя, но единственно от других, послал стряпчего Мансурова с дьяком Путятиным в Москву за духовными грамотами своего отца и деда, не велев им сказывать того ни великой княгине, ни митрополиту, ни боярам. С ним находились в Волоке кроме брата, Андрея Иоанновича, и Глинского князья Бельский, Шуйский, Кубенский: никто из них не знал сей печальной тайны, кроме дворецкого Шигоны. Другой брат Василиев, Юрий Иоаннович, спешил к нему из Дмитрова: великий князь отпустил его с утешением, что надеется скоро выздороветь; приказал вести себя в Москву шагом, в санях, на постели; заехал в Иосифову обитель, лежал в церкви на одре, и когда диакон читал молитву о здравии государя, все упали на колени и рыдали: игумен, бояре, народ. Василий желал въехать в Москву скрытно, чтобы иноземные послы, там бывшие, не видали его в слабости, в изнеможении; остановился в Воробьеве, принял митрополита, епископов, бояр, воинских чиновников, и только один показывал твердость: духовные и миряне, знатные и простые граждане обливались слезами. Навели мост на реке, просекая тонкий лед. Едва сани государевы взъехали, сей мост обломился: лошади упали в воду, но боярские дети, обрезав гужи, удержали сани на руках. Великий князь запретил наказывать строителей. Внесенный в кремлевские постельные хоромы, он созвал бояр, князей Ивана и Василия Шуйских, Михайла Юрьевича Захарьина, Михаила Семеновича Воронцова, Тучкова, Глинского, казначея Головина, дворецкого Шигону и велел при них дьякам своим писать новую духовную грамоту, уничтожив прежнюю, сочиненную им во время митрополита Варлаама; объявил трехлетнего сына Иоанна наследником государства под опекою матери и бояр до пятнадцати лет его возраста; назначил удел меньшему сыну; устроил державу и церковь; не забыл ничего, как сказано в летописях: но, к сожалению, сия важная хартия утратилась, и мы не знаем ее любопытных подробностей.
Желая утвердить душу свою в сии торжественные минуты, государь тайно причастился. Быв дотоле на одре недвижим, он с легкою помощью боярина Захарьина встал, принял Святые Дары с верою, любовию и слезами умиления; лег снова и хотел видеть митрополита, братьев, всех бояр, которые, узнав о недуге его, съехались из деревень в столицу; сказал им, что поручает юного Иоанна Богу, Деве Марии, святым угодникам и митрополиту; что дает ему государство, наследие великого отца своего; что надеется на совесть и честь братьев Юрия и Андрея; что они, исполняя крестные обеты, должны служить племяннику усердно в делах земских и ратных, да будет тишина в Московской державе и да высится рука христиан над неверными. Отпустив митрополита и братьев, так говорил боярам: «Ведаете, что державство наше идет от великого князя киевского Святого Владимира; что мы природные вам государи, а вы наши извечные бояре. Служите сыну моему, как мне служили: блюдите крепко, да царствует над землею; да будет в ней правда! Не оставьте моих племянников, князей Бельских; не оставьте Михаила Глинского: он мне ближний по великой княгине. Стойте все заедино как братья, ревностные ко благу отечества! А вы, любезные племянники, усердствуйте нашему юному государю в правлении и в войнах; а ты, князь Михаил, за моего сына Иоанна и за жену мою Елену должен охотно пролить всю кровь свою и дать тело свое на раздробление!»
Василий изнемогал более и более. Выслав всех, кроме Глинского, Захарьина, ближних детей боярских и двух врачей, Люева и Феофила, он требовал, чтобы ему впустили в рану чего-нибудь крепкого: ибо она гнила и смердела. Захарьин утешал его вероятностью скорого выздоровления. Великий князь сказал немцу Люеву: «Друг и брат! Ты добровольно пришел ко мне из земли своей и видел, как я любил тебя и жаловал: можешь ли исцелить меня?» Люев ответствовал: «Государь! Слышав о твоей милости и ласке к добрым иноземцам, я оставил отца и мать, чтобы служить тебе; благодеяний твоих не могу исчислить; но, государь! не умею воскрешать мертвых: я не Бог!» Тут великий князь обратился к детям боярским и молвил с улыбкою: «Друзья! Слышите, что я уже не ваш!» Они горько заплакали; не хотели растрогать его, вышли вон и пали на землю, как мертвые. Он забылся на несколько минут; открыл глаза и громко произнес: «Да исполнится воля Божия! Буди имя Господне благословенно отныне и до века».

Великий князь Василий III. Гравюра из «Космографии» А. Теве, 1584 г.
Сие было 3 декабря [1533 г.]. Игумен троицкий Иоасаф тихо приблизился к одру болящего. Василий сказал ему: «Отче! Молись за государство, за моего сына и за бедную мать его! У вас я крестил Иоанна, отдал угоднику Сергию, клал на гроб святого, поручил вам особенно: молитесь о младенце государе!» Он не велел Иоасафу выезжать из Москвы и, пользуясь слабыми остатками жизни, еще призвал думных бояр: Шуйских, Воронцова, Тучкова, Глинского, Шигону, Головина и дьяков; беседовал с ними от третьего до седьмого часа о новом правлении, о сношениях бояр с великою княгинею Еленою во всех важных делах, изъявляя удивительную твердость, хладнокровие и заботливость о судьбе оставляемой им державы. Пришли братья и неотступно молили его, чтобы он подкрепил свои силы пищею; но Василий не мог есть и сказал: «Смерть предо мною; желаю благословить сына, видеть жену, проститься с нею… Нет! Боюсь ее горести; вид мой устрашит младенца». Братья и бояре настояли, чтобы он призвал Елену. Князь Андрей Иоаннович и Михаил Глинский пошли за нею. Государь возложил на себя крест св. Петра митрополита и хотел прежде видеть сына. Брат Еленин, князь Иван Глинский, принес его на руках. Держа крест, Василий сказал младенцу: «Буди на тебе милость Божия и на детях твоих! Как св. Петр благословил сим крестом нашего прародителя, великого князя Иоанна Данииловича, так им благословляю тебя, моего сына». Он просил надзирательницу, боярыню Агриппину, чтобы она неусыпно берегла своего державного питомца и, слыша голос супруги, велел унести Иоанна. Князь Андрей и боярыня Челяднина вели Елену под руки: она страшно вопила и билась об землю в отчаянии. Великий князь утешал ее, говоря: «Мне лучше; не чувствую никакой боли», – и с нежностью молил успокоиться. Елена наконец ободрилась и спросила: «Кому же поручаешь бедную супругу и детей?» Василий отвечал: «Иоанн будет государем; а тебе, следуя обыкновению наших отцов, я назначил в духовной своей грамоте особенное достояние». Исполняя желание супруги, он велел принести и меньшего сына, Юрия [Георгия]; также благословил его крестом и сказал, что он не забыт в духовной. Умилительное прощание с Еленою раздирало сердца жалостью: все плакали и стенали. Она не хотела удалиться: Василий приказал вывести ее и, заплатив последнюю дань миру, государству и чувствительности, уже думал только о Боге.

Митрополит Петр с житием. Резная икона, XVI в.
Еще находясь в Волоке, он говорил духовнику своему, протоиерею Алексию, и любимому старцу Мисаилу: «Не предайте меня земле в белой одежде! Не останусь в мире, если и выздоровлю». Отпустив Елену, государь велел Мисаилу принести монашескую ризу и спросил игумена Кирилловской обители, в которой он издавна желал быть постриженным; но сего игумена не было в Москве. Послали за Иоасафом Троицким, за образами Владимирской Богоматери и св. Николая Гостунского. Духовник Алексий пришел с запасными Дарами, чтобы дать их Василию в самую минуту кончины. «Будь передо мною, – сказал великий князь, – смотри и не пропусти сего мгновения». Подле духовника стоял стряпчий государев, Феодор Кучецкой, бывший свидетелем Иоанновой смерти. Читали канон на исход души. Василий лежал в усыплении; потом, кликнув ближнего боярина Михаила Воронцова, обнял его с горячностью; сказал брату Юрию: «Помнишь ли преставление нашего родителя? Я так же умираю», – и требовал немедленного пострижения, одобряемого митрополитом и некоторыми боярами; но князь Андрей Иоаннович, Воронцов и Шигона говорили, что Св. Владимир не хотел быть монахом и назван равноапостольным; что герой Донской также скончался мирянином, но своими добродетелями, без сомнения, заслужил Царствие Небесное. Шумели, спорили, а Василий крестился и читал молитвы; уже язык его тупел, взор меркнул, рука упала: он смотрел на образ Богоматери и целовал простыню, с явным нетерпением ожидая священного обряда. Митрополит Даниил взял черную ризу и подал игумену Иоасафу: князь Андрей и Воронцов хотели вырвать ее. Тогда митрополит с гневом произнес ужасные слова: «Не благословляю вас ни в сей век, ни в будущий. Никто не отнимет у меня души его. Добр сосуд сребряный, но лучше позлащенный!» Василий отходил. Спешили закончить обряд. Митрополит, надев епитрахиль на игумена Иоасафа, сам постриг великого князя, переименованного Варлаамом. Второпях забыли мантию для нового инока: келарь троицкий Серапион дал свою. Евангелие и схима ангельская лежали на груди умирающего. Несколько минут продолжалось безмолвие: Шигона, стоя подле одра, первый воскликнул: «Государь скончался!» – и все зарыдали. – Пишут, что лицо Василиево сделалось вдруг светло, что вместо бывшего несносного запаха от его раны комната наполнилась благоуханием. Митрополит омыл тело и вытер хлопчатою бумагою.
Была полночь. Никто не спал в Москве. С ужасом ждали вести: народ толпился в улицах. Плач и вой раздались от дворца до Красной площади. Напрасно бояре, сами заливаясь слезами, удерживали других от громкого стенания, представляя, что великая княгиня еще не знает о кончине супруга. Митрополит, облачив умершего в полное монашеское одеяние, вывел его братьев в переднюю горницу и взял с них клятву быть верными слугами Иоанна и матери его, не мыслить о великом княжении, не изменять ни делом, ни словом. Обязав такою же присягою и всех вельмож, чиновников, детей боярских, он пошел со знатнейшими людьми к Елене, которая, видя их, упала в обморок и два часа не открывала глаз. Бояре безмолвствовали: говорил один митрополит именем веры, утешая со слезами.

Евангелие тетр работы Михаила Медоварцева, работавшего с Максимом Греком
Между тем ударили в большой колокол: тело положили на одр, принесенный из Чудова монастыря, и растворили двери: народ с воплем устремился лобызать хладные руки мертвого. Любимые певчие Василиевы хором пели: Святый Боже! Их никто не слыхал. Иноки Иосифова и Троицкого монастырей несли тело в церковь Св. Михаила. Елена не могла идти. Дети боярские взяли ее на руки. Все бояре окружали гроб: князья Василий Шуйский, Михаил Глинский, Иван Телепнев-Оболенский и Воронцов шли за Еленою вместе со знатнейшими боярынями. Погребение было великолепно и скорбь неописанная в народе. «Дети хоронили своего отца», по словам летописцев, которые с чувствительностью называют Василия добрым, ласковым государем: имя скромное, но умилительное, и простота его ручается за его истину.
Василий стоит с честью в памятниках нашей истории между двумя великими характерами, Иоаннами III и IV, и не затмевается их сиянием для глаз наблюдателя; уступая им в редких природных дарованиях – первому в обширном, плодотворном уме государственном, второму в силе душевной, в особенной живости разума и воображения, опасной без твердых правил добродетели, – он шел путем, указанным ему мудростью отца, не устранился, двигался вперед шагами, размеренными благоразумием, без порывов страсти, и приблизился к цели, к величию России, не оставив преемникам ни обязанности, ни славы исправлять его ошибки; был не гением, но добрым правителем; любил государство более собственного великого имени и в сем отношении достоин истинной, вечной хвалы, которую немногие венценосцы заслуживают. Иоанны III творят, Иоанны IV прославляют и нередко губят; Василии сохраняют, утверждают державы и даются тем народам, коих долговременное бытие и целость угодны Провидению.
Василий имел наружность благородную, стан величественный, лицо миловидное, взор проницательный, но не строгий; казался и был действительно более мягкосердечен, нежели суров, по тогдашнему времени. Читая письма его к Елене, видим нежность супруга и отца, который, будучи в разлуке с женою и детьми, непрестанно обращается к ним в мыслях, изъясняемых простыми словами, но внушаемыми только чувствительным сердцем. Рожденный в век еще грубый и в самодержавии новом, для коего строгость необходима, Василий по своему характеру искал середины между жестокостью ужасною и слабостью вредною: наказывал вельмож, и самых ближних, но часто и миловал, забывал вины. Умный боярин Беклемишев заслужил его гнев: удаленный от двора, жаловался на великого князя с нескромною досадою; находил в нем пороки и предсказывал несчастия для государства. Беклемишева судили, уличили в дерзости и казнили смертью на Москве-реке; а дьяку Федору Жареному отрезали язык за лживые слова, оскорбительные для государевой чести. Тогда не отличали слов от дел и думали, что государь как земной Бог может наказывать людей и за самые мысли, ему противные! Опасались милосердия в таких случаях, где святая особа венценосца могла унизиться в народном мнении; боялись, чтобы вина отпускаемая не показалась народу виною малою.
Кроме двух несчастных жертв политики, юного великого князя Димитрия и Шемякина, сын героя Даниила Холмского, воевода и боярин князь Василий, супруг государевой сестры Феодосии, в 1508 году был сослан на Белоозеро и в темнице умер. Такую же участь имел и знатный дьяк Долматов: назначенный в посольство к императору Максимилиану, он не хотел ехать, отговариваясь своею бедностью: велели опечатать его дом, нашли в оном 3000 рублей денег и наказали Долматова как преступника. Государь простил князей Ивана Воротынского и Шуйских, которые думали уйти в Литву. Иван Юрьевич Шигона, быв несколько лет в опале, сделался после одним из первых любимцев Василиевых, равно как и Георгий Малый Траханиот, грек, выехавший с великою княгинею Софиею: пишут, что он впал в немилость от тайной связи с купцом греческим Марком, осужденным в Москве за какую-то опасную для церкви ересь. Зная способности и необыкновенный разум Георгия, великий князь возвратил ему свою милость, советовался с ним о важнейших делах и для того приказывал знатным чиновникам возить его нездорового во дворец на тележке. Муж славный в нашей церковной истории, инок Максим Грек, был также в числе знаменитых, винных или невинных страдальцев сего времени. Судьба его достопамятна: расскажем обстоятельства.

Рынды в XVI–XVII столетиях. «Историческое описание одежды и вооружения российских войск», под ред. А. В. Висковатова, 1841–1862 гг.
Василий, в самые первые дни своего правления осматривая богатства, оставленные ему родителем, увидел множество греческих духовных книг, собранных отчасти древними великими князьями, отчасти привезенных в Москву Софиею и лежавших в пыли без всякого употребления. Он хотел иметь человека, который мог бы рассмотреть оные и лучшие перевести на язык славянский: не нашли в Москве и писали в Константинополь. Патриарх, желая угодить великому князю, искал такого философа в Болгарии, в Македонии, в Фессалонике; но иго оттоманское задушило все остатки древней учености: тьма и невежество господствовали в областях султанских. Наконец узнали, что в славной обители Благовещения на горе Афонской есть два инока, Савва и Максим, богословы искусные в языках греческом и славянском. Первый в изнеможении старости не мог предпринять дальнего путешествия в Россию: второй согласился исполнить волю патриарха и великого князя. В самом деле нельзя было найти человека, способнейшего для замышляемого труда. Рожденный в Греции, но воспитанный в образованной Западной Европе, Максим учился в Париже, во Флоренции; много путешествовал, знал разные языки, имел сведения необыкновенные, приобретенные в лучших университетах и беседах с мужами просвещенными. Василий принял его с отменною милостию. Увидев нашу библиотеку, изумленный Максим сказал в восторге: «Государь! Вся Греция не имеет ныне такого богатства, ни Италия, где латинский фанатизм обратил в пепел многие творения наших богословов, спасенные моими единоземцами от варваров Магометовых». Великий князь слушал его с живейшим удовольствием и поручил ему библиотеку; а ревностный грек, описав все, еще неизвестные славянскому народу книги, по желанию государеву перевел Толковую Псалтирь с помощью трех москвитян, Власия, Димитрия и Михайла Медоварцова. Одобренная митрополитом Варлаамом и всем духовным Собором сия важная книга, прославив Максима, сделала его любимцем великого князя, так что он не мог с ним расстаться и ежедневно беседовал о предметах веры. Умный грек не ослепился сею честью: благодаря Василия, убедительно требовал отпуска в тишину своей Афонской обители и говорил: «Там буду славить имя твое, скажу моим единоземцам, что мир еще имеет царя христианского, сильного и великого, который, если угодно Всевышнему, может освободить нас от тиранства неверных». Но Василий ответствовал ему новыми знаками благоволения и держал его девять лет в Москве: время, употребленное Максимом на переводы разных книг, на исправление ошибок в старых переводах и на сочинения душеспасительные, из коих знаем более ста. Имея свободный доступ к великому князю, он ходатайствовал иногда за вельмож, лишаемых государевой милости, и возвращал им оную к неудовольствию и зависти многих людей, в особенности духовенства и суетных иноков Иосифова монастыря, любимых великим князем. Смиренный митрополит Варлаам мало думал о земном; но преемник Варлаамов, гордый Даниил, не замедлил объявить себя врагом чужеземца. Говорили: «Кто сей человек, дерзающий искажать древнюю святыню наших церковных книг и снимать опалу с бояр?». Одни доказывали, что он еретик; другие представили его великому князю злоязычником, неблагодарным, втайне осуждающим дела государевы. Сие было во время развода Василиева с несчастною Соломониею: уверяют, что сей благочестивый муж действительно не хвалил оного; по крайней мере находим в Максимовых творениях Слово к оставляющим жен своих без вины законныя. Любя вступаться за гонимых, он тайно принимал их у себя в келье и слушал иногда речи, оскорбительные для государя и митрополита. Например: несчастный боярин Иван Беклемишев, жалуясь ему на вспыльчивость великого князя, сказал, что прежде достойные церковные пастыри удерживали государей от страстей и несправедливости, но что Москва уже не имеет митрополита; что Даниил носит только имя и личину пастыря, не мысля быть наставником совести, ни покровителем невинных; что Максима никогда не выпустят из России: ибо великий князь и митрополит опасаются его нескромности в чужих землях, где он мог бы огласить их слабости. Наконец умели довести государя до того, что он велел судить Максима: обвинили его и заточили в один из тверских монастырей как уличенного в ложных толкованиях Св. Писания и догматов церковных, что, по мнению некоторых современников, было клеветою, вымышленною чудовским архимандритом Ионою, коломенским епископом Вассианом и митрополитом.

Н. С. Самокиш. Василий Иоаннович на охоте
В государственных бумагах сего времени находим, что знатные люди, недовольные Василием, обвиняли его в излишней надежности на самого себя, в неуважении советов, в упрямстве, нетерпении противоречий, несмотря на то что он решил все дела именем боярским. «Иоанн, – говорили они, – не употреблял сего выражения в бумагах, но охотно слушал противоречия и любил смелых; а Василий не чтит старых людей и делает все дела, запершись сам-третей, у постели». Жаловались также на любовь его к новым обычаям, привезенным в Москву с Софииными греками, которые, по их словам, замешали Русскую землю. Но все такие, можно сказать, легкие обвинения, если и справедливые, доказывая, что Василий не был чужд обыкновенных слабостей человеческих, опровергают ли сказание летописцев о природном его добродушии? Снискав общую любовь народа, он, по словам историка Иовия, не имел воинской стражи во дворце: ибо граждане служили ему верными телохранителями.
Великий князь, как говорили тогда, судил и рядил землю всякое утро до самого обеда, после коего уже не занимался делами; любил сельскую тишину; живал летом в Острове, Воробьеве или в Москве на Воронцове поле до самой осени; часто ездил по другим городам и на псовую охоту, в Можайск и Волок-Ламский; но и там не забывал государства: трудился с думными боярами и дьяками; иногда принимал послов иноземных. Барон Герберштейн описывает так охоту великокняжескую: «Мы увидели государя в поле; оставили лошадей своих и приблизились к нему. Он сидел на гордом коне, в богатом терлике, в высокой, осыпанной драгоценными каменьями шапке, с златыми перьями, которые развевались ветром; на бедре висели кинжал и два ножа; за спиною, ниже пояса, кистень. Подле него ехали с правой стороны царь казанский Алей, вооруженный луком и стрелами, а с левой два ктозя молодые, из коих один держал секиру, другой булаву, или шестопер; вокруг более трехсот всадников». Перед вечером сходили с коней; расставляли шатры на лугу. Государь, переменив одежду, садился в своем шатре на кресла, призывал бояр и весело беседовал с ними о подробностях счастливой или неудачной ловли того дня. Служители подавали закуски, вино и мед. Самые древние князья наши, Всеволод I, Мономах и другие, любили звериную ловлю; но Василий едва ли не первый завел псовую охоту: ибо россияне в старину считали псов животными нечистыми и гнушались ими.
Двор его был великолепен. Василий умножил число сановников оного, прибавив к ним оружничего, ловчих, крайнего и рынд. Крайний был тоже, что ныне обер-шенк, а рындами именовались оруженосцы, молодые знатные люди, избираемые по красоте, нежной приятности лица, стройному стану: одетые в белое атласное платье и вооруженные маленькими серебряными топориками, они ходили перед великим князем, когда он являлся народу; стояли у трона и казались иноземцам подобием ангелов небесных; а в воинских походах хранили доспех государев. Смиренный в церкви, где, удаляя от себя многочисленных царедворцев, он стоял всегда один у стены, близ дверей, опираясь на свой посох, Василий любил пышность во всех иных торжественных собраниях, особенно в приеме иноземных послов. Чтобы они видели множество и богатство народа, славу и могущество великого князя, для того в день их представления запирались все лавки, останавливались все работы и дела: граждане в лучшем своем платье спешили к Кремлю и густыми толпами окружали стены его. Из окрестных городов призывали дворян и детей боярских. Войско стояло в ружье. Чиновники за чиновниками, одни других знатнее, выходили навстречу к послам. В приемной палате, наполненной людьми, царствовало глубокое молчание. Государь сидел на троне; близ него на стене висел образ; перед ним с правой стороны лежал колпак, с левой посох. Бояре сидели на скамьях в одежде, усеянной жемчугом, в высоких горлатных шапках. Обеды великокняжеские продолжались иногда до самой ночи. В большой комнате накрывались столы в несколько рядов. Подле государя занимали место братья его или митрополит; далее вельможи и чиновники, между коими угощались иногда и простые воины, отличные заслугами. В середине, на высоком столе, сияло множество золотых сосудов, чаш, кубков и пр. Первым блюдом были всегда жареные лебеди. Разносили кубки с мальвазиею и с другими греческими винами. Государь в знак милости сам к некоторым посылал кушанье: тогда они вставали и кланялись ему; другие также вставали, из учтивости к ним: за что надлежало их благодарить особенными поклонами. Для сокращения времени гости могли свободно разговаривать друг с другом. Беседы веселые, благочинные без принуждения, нравились Василию. С иноземцами говаривал он за обедом весьма ласково; называл их монархов великими; желал, чтобы они, утружденные дальним путем, насладились в Москве отдохновением и собрали новые силы для пути обратного; предлагал им вопросы и пр. «Когда мы, – пишет Франциск да Колло, посол Максимилианов, – ночью возвращались домой из Кремля, все улицы были освещены так ярко, что ночь казалась днем». Сверх даров послам ежедневно отпускалось в изобилии все для них нужное; считалось за обиду, если они что-нибудь покупали. Приставы смотрели им в глаза, ответствуя за малейшее неудовольствие сих почетных гостей.

Турские шубы и горлатные шапки. Русская одежда с XIV по XVIII вв. «Историческое описание одежды и вооружения российских войск» под ред. А. В. Висковатова, 1841–1862 гг.
Василий так же, как и родитель его, назывался только великим князем для России, употребляя следующий титул в сношениях с державами иноземными: «Великий государь Василий, Божиею милостию царь и государь всея Руси и великий князь Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Смоленский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; государь и великий князь Новгорода Низовской земли, и Черниговский, и Рязанский, и Волоцкий, и Ржевский, и Бельский, и Ростовский, и Ярославский, и Белозерский, и Удорский, и Обдорский, и Кондинский, и иных». Иоанн на предложение императора дать ему королевское достоинство ответствовал, как мы видели, гордо; а Василий на такое же предложение папы Леона X не ответствовал ни слова вопреки басням иностранных писателей, которые думали, что наши великие князья издревле домогались королевского титула.

Портрет Василия Ивановича. Рисунок из «Записок о Московии» С. Герберштейна, 1556 г.
Следуя во всем Иоанну, Василий старался привлекать иноземцев полезных в Россию. Кроме людей, искусных в деле воинском, он первый из великих князей имел немецких лекарей при дворе. Мы упоминали о Люеве и Феофиле: сей последний был любчанин, взятый в плен воеводою Сабуровым в Литве. Магистр прусский ходатайствовал о свободе его; но великий князь сказал, что сей немец лечит одного из наших вельмож и должен прежде возвратить ему здоровье, а после требовать отпуска в свою землю. Волею или неволею Феофил остался в Москве, где находился и третий знаменитый лекарь, родом грек, именем Марко, коего жена и дети жили в Царьграде. Султан писал к великому князю: «Отпусти Марка к его семейству; он заехал в Россию единственно для торговли»; но государь отвечал: «Марко издавна служит мне добровольно и лечит моего новгородского наместника; пришли к нему жену и детей». Иноземцам с умом и с дарованием легче было тогда въехать в Россию, нежели выехать из нее.
Василий издал многие законы для внутреннего благоустройства государственного, которые вместе с Уложением отца его вошли в Судебник царя Иоанна Василиевича. Например, сей великий князь уставил, чтобы владельцы тверские, оболенские, белозерские и рязанские не продавали отчин своих жителям других областей; чтобы наследники людей, отказавших имение монастырям, не выкупали оного, если в завещании не дано им право на сей выкуп, и пр. Жалованная Смоленская грамота велит наместникам отдавать всякое поличное истцам, искоренять ябедников и немедленно освобождать судимого, представляющего надежных порук; дозволяет мещанам без явки рубить лес около города; запрещает боярам кабалить вольных людей и держать корчмы; определяет пошлину судную, мировую, брачную, стадную, убойную и показывает нам тогдашнюю многосложную, запутанную, мелочную систему казенных доходов, изобретенную в века невежества. Важное и любопытное судное постановление сделано было Василием в Новгороде: узнав, что наместники и тиуны кривят душою в решении тяжб, он велел избрать там 48 целовальников или присяжных, с тем, чтобы сии люди, достойные общего уважения, по очереди судили все дела с тиунами. Для чего не распространил он столь мудрого и благодетельного учреждения на все государство? Может быть, другие россияне еще не имели довольно гражданского ума и навыка: они молчали, а новгородцы, воспоминая старину, жаловались и требовали. Самодержавие не мешало государю дать лучшим гражданам участие в судном праве. Летописцы хвалят еще Василия за утверждение тишины и безопасности в Новгороде: он учредил там пожарную и ночную стражу; велел, как и в Москве, замыкать ввечеру улицы рогатками и совершенно прекратил воровство. Лишенные способа жить кражею и злодействами, негодники ушли или обратились к трудолюбию, выучились ремеслам и сделались людьми полезными.
При сем великом князе построены четыре важные крепости с каменными стенами: в Нижнем Новгороде, Туле, Коломне и Зарайске; первую строил Петр Фрязин: она еще цела. Каширу и Чернигов укрепили только валом и деревянными башнями. В Москве фрязин Алевиз обложил кремлевские рвы кирпичом и выкопал несколько прудов в предместьях. В Новгороде, опустошенном пожарами, чиновники великокняжеские размерили улицы, площади, ряды на образец московских. Из храмов, созданных Василием, доныне существуют в Москве кремлевская церковь Св. Николая Гостунского (на том месте, где была деревянная) и Девичий монастырь, основанный в знак благодарности ко Всевышнему за взятие Смоленска. Государь из собственной казны своей отложил на то 3000 рублей (около шестидесяти тысяч нынешних) кроме дворцовых сел и деревень, данных сему монастырю. Главным строителем церковным был тогда фрязин Алевиз Новый. Довершив храм Михаила Архангела, Василий (в 1507 году) перенес туда гробы своих предков и сам назначил себе могилу подле родителя. Собор Успенский был (в 1515 году) украшен живописью, чудною и столь искусною, говорят летописцы, что великий князь, святители и бояре, вступив в церковь, сказали: «Мы видим небеса!» Между иконописцами славился россиянин Федор Едикеев, который расписывал церковь Благовещения, соединенную с новым великолепным дворцом, куда Василий перешел в мае 1508 года.

Ф. Я. Алексеев. Панорама Ивановской площади. Церковь Николы Голунского справа на переднем плане. Графика к. XVIII – нач. XIX в.
Церковная история Василиева государствования кроме мнимой ереси Максима Грека в исправлении священных книг представляет немного достопамятных случаев. Уже давно мощи Алексия митрополита, по сказанию летописцев, исцеляли недужных: но в 1519 году были священным обрядом утверждены во славе чудотворения. Митрополит Варлаам донес государю, что многие слепцы, с усердием лобызая руку Алексия, прозрели. Собралось все духовенство и несметное число людей при колокольном звоне. Объявили чудеса и доказательства оных. Пели молебен над святым гробом: великий князь, обливаясь слезами умиления, первый поклонился оному и восхвалил милость Неба, которая во дни его царствования открыла второй источник благодати и спасения для Москвы. Светло праздновали сей день, и св. Алексий в народном мнении стал наряду с древним московским угодником Божиим, митрополитом Петром.
Немалым соблазном для духовенства и мирян была тогдашняя ссора архиепископа новгородского Серапиона со св. Иосифом Волоцким за то, что сей последний с монастырем своим отложился от его ведомства к митрополии. Великий князь в гневе лишил Серапиона епархии, и новгородцы, 17 лет не имев святителя, с радостью встретили наконец знаменитого Макария, бывшего архимандрита лужковского, согласно с древним обычаем поставленного к ним в архиепископы. Летописец их славит сие время как счастливейшее для его отчизны, где молитвами ревностного пастыря вселилась тишина, сопутствуемая здравием людей, обилием и веселием. Макарий первый учредил общежительство в монастырях новгородских и тем умножил везде число иноков, доставив им способ жить беспечно: ибо прежде каждый из них имел свое хозяйство, соединенное с заботами. Строгий в наблюдении благочиния, он вывел игуменов из всех женских монастырей и дал инокиням настоятельниц; отличался также усердием к лепоте церковной: сделал в Софии, на место обветшалых, новые богатые царские двери и великолепный амвон; расписал стены, обновил иконы, между которыми древнейшие были греческие: Спасителя и апостолов Петра и Павла, устроенные (как сказано в летописи) из золота и серебра.
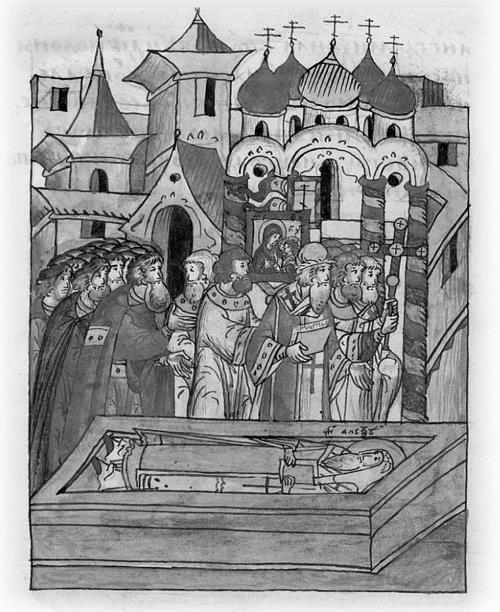
Великий князь Василий Иоанович с митрополитом всея Руси Варлаамом приходят в обитель святого архангела Михаила ко гробу святителя Алексия. Миниатюра из Лицевого летописного свода, XVI в.
В первые годы Макариева архиепископства лапландские поморяне, обитавшие близ устья реки Нивы и Кандалажской губы, прислали старейшин к великому князю, моля его дать им учителей христианских; а государь велел Макарию отправить туда софийского иерея с диаконом, которые просветили жителей истиною Евангельскою. Через несколько лет еще отдаленнейшие дикари, лапландцы кольские, изъявили Макарию желание креститься и с великим усердием приняли священников. Так россияне от самых древних времен до новейших насаждали веру Спасителеву, не употребляя ни малейшего принуждения. Но сии люди полудикие, уже веруя во Христа, еще держались старых обычаев: в пятине Вотской, в Ижере, около Ивангорода, Ямы, Копорья, Ладоги, Невы до Каянии и Лапландии, на пространстве тысячи верст или более, народ еще обожал солнце, луну, звезды, озера, источники, реки, леса, камни, горы; имел жрецов, именуемых арбуями, и, ходя в церкви христианские, не изменял и кумирам. Макарий с дозволения государева послал туда умного монаха Илию с наставительною грамотою к жителям, которые, уверяя его в их ревности к христианству, говорили, что они не смеют коснуться своих идолов, хранимых ужасными духами. Илия зажег мнимые леса священные, бросил в воду кумиры, удивил народ и проповедью слова Божия довершил торжество христианства. Летописец сказывает, что пятилетние младенцы помогали сему добродетельному иноку сокрушать мольбища идолопоклонников. Заметим, что не только чудь, но и самые россияне в XVI веке еще усердно следовали некоторым языческим обыкновениям. Жители Псковской области 24 июня праздновали день Купала: собирали травы в пустынях и в дубравах с какими-то суеверными обрядами, а ночью веселились, били в бубны, играли на сопелях, на гудках; молодые жены, девицы плясали, обнимались с юношами, забывая стыд и целомудрие: о чем ревностный игумен Елеазаровской обители старец Памфил с укоризною писал к наместнику и сановникам Пскова в 1505 году.
В 27 лет Василиева государствования Россия испытала немалые физические бедствия: от 1507 до 1509 года свирепствовала язва с железою в Новгороде, и в одну осень схоронены там 15 000 человек; зимою в 1512 году во многих областях люди умирали кашлем; в 1521 и 1532 годах было во Пскове ужасное поветрие, от коего все государственные чиновники разбежались и которое миновало, по известию летописцев, от употребления святой воды, присланной архиепископом Макарием, великим князем и митрополитом. Тогда же и в Новгороде умерло более 1000 жителей от прыщей. Были чрезвычайные засухи: пишут, что летом в 1525 году около четырех недель солнце и луна не показывались на небе от густой мглы; что в 1533 году от 29 июня до сентября не упало ни одной дождевой капли на землю; что болота и ключи иссохли, леса горели: солнце тусклое, багровое скрывалось за два часа до захождения; люди в день не распознавали друг друга в лицо и задыхались от дымного смрада; путешественники, плаватели не видали пути; птицы не могли парить в воздухе. Напротив того, летом в 1518 году недель пять шли непрестанно сильные дожди: реки выступили из берегов; поля залились водою; прервалось сообщение между городами и селами. Великий князь торжественными молебствиями старался умилостивить Небо: двор и народ постились. Общий неурожай в 1512 году произвел неслыханную дороговизну: бедные умирали с голоду. В сентябре 1515 года Москва имела недостаток в хлебе: нельзя было купить ни четверти ржи. В 1525 году все съестное продавалось там в десять раз дороже обыкновенного. Летописцы жалуются на частые пожары (обвиняя в том учреждения пороховых заводов): в Москве, Пскове, особенно в Новгороде, где (в 1508 году) самые каменные палаты распадались от силы огня и сгорели 5314 человек. Явление трех комет (от 1531 до 1533 года) во всей России приводило народ в ужас.
Описав деяния и случаи сего времени, напомним читателю, что оно, будучи достопамятно для России благоразумием ее правления, славно в летописях Европы, во-первых, редким собранием венценосцев, знаменитых делами и характером, во-вторых, важным церковным преобразованием. Немногие века хвалятся такими государями современными, каковы были Максимилиан, Карл V, Людовик XII, Франциск I, Селим, Солиман, Генрик VIII, Густав Ваза: можем прибавить к ним и папу Леона X, и врага нашего, Сигизмунда. Все они, за исключением английского и французских королей, находились в сношениях с Василием, их достойным современником; все имели ум и дарования отличные. Но была ли счастлива Европа? Видим, как обыкновенно, необузданность властолюбия, зависть, козни, битвы и бедствия: ибо не один ум, но и страсти действуют на театре мира. Ужасаемая могуществом Оттоманской империи, волнуемая борением Франции с силами Испании и Австрии, Европа в то же время была потрясена церковным мятежом, который скоро сделался государственным. Уже духовная власть или папская, очерненная многими злоупотреблениями, давно слабела в западных державах, но упорствовала в своих гордых требованиях и не хотела обратиться к истинному духу христианства вопреки успехам просвещения.

Мартин Лютер сжигает папскую буллу. Гравюра на дереве, 1557 г.
Явился бедный инок Мартин Лютер, который, свергнув с себя монашескую одежду и держа в руке Евангелие, смел назвать папу антихристом: уличал его в обманах, в корыстолюбии, в искажении святыни и, несмотря на церковные клятвы, Соборы и гнев Карла V, основал новую веру, хотя также на Евангельском учении, но с отвержением многих важных, значительных обрядов, введенных в самом начале христианства и, без сомнения, полезных: ибо люди имеют не только разум, но и воображение, не менее первого действующее на сердце. Обнажив богослужение, лишив оное торжественности и как бы закрыв для мысли Небо, куда взор и дух молящихся устремляются от велелепия алтарей, от таинственного священнодействия литургии, сей решительный преобразователь удовольствовался одною нравственною проповедию; оказал еще более ненависти к Риму, нежели усердия к Сиону; ссылаясь единственно на Христа и апостолов, не подражал им в кротости; подвергая догматы церкви суду ума, говорил языком страстей и, лишив папу духовной власти во многих землях Германии, в трех северных королевствах, в бывших владениях Немецкого ордена и в Ливонии, сам представлял лицо начальника церковного, обязанный своим торжеством не фанатизму народному, а земным расчетам правителей: удерживая имя христиан и святыню Евангелия, новым исповеданием они свергали с себя иго зависимости от гордого, взыскательного, корыстолюбивого Рима; присоединяли дани и пошлины церковные к своим доходам и могли в делах совести уже не бояться духовного запрещения. Многие толкователи всемирных происшествий говорят о лютеранской вере как о великом благодеянии для человечества: она неоспоримо способствовала успехам просвещения и лучшей нравственности, соединенной с оными; но первым ее следствием были кровопролития и новые секты христианские, отчасти вредные для самых правительств и спокойствия гражданского. Генрик VIII, написав книгу против Лютера, сам последовал его примеру: оставил римское исповедание и сделался главою англиканского, связав оное крепким узлом с пользою королевской власти и дав себе волю удовлетворять своему гнусному любострастию переменою жен. Одним словом, если враги латинской церкви справедливо винили ее в неверности к истинному христианству, то и ревностные католики по совести могли винить их в лицемерии, в обманах и в беззаконии.
Сия важная перемена церковная не укрылась от внимания наших современных богословов: о ней рассуждали в Москве, и Грек Максим написал Слово о Лютеровой ереси, где, не хваля мирского властолюбия пап, строго осуждает новости в Законе, внушаемые страстями человеческими.
Глава IV Состояние России (1462–1533)
В сие время отечество наше было как бы новым светом, открытым царевною Софиею для знатнейших европейских держав. Вслед за нею послы и путешественники, являясь в Москве, с любопытством наблюдали физические и нравственные свойства земли, обычаи двора и народа; записывали свои примечания и выдавали оные в книгах, так что уже в первой половине XVI века состояние и самая древняя история России были известны в Германии и в Италии. Контарини, Павел Иовий, Франциск да Колло, в особенности Герберштейн, старались дать современникам ясное, удовлетворительное понятие о сей новой державе, которая вдруг обратила на себя внимание их отечества.

Герберштейн во время поездки по России. Рисунок из «Записок о Московии» С. Герберштейна, 1556 г.
Ничто не удивляло так иноземцев, как самовластие государя российского и легкость употребляемых им средств для управления землею. «Скажет, и сделано, – говорит барон Герберштейн. – Жизнь, достояние людей, мирских и духовных, вельмож и граждан, совершенно зависит от его воли. Нет противоречия, и все справедливо, как в делах Божества: ибо русские уверены, что великий князь есть исполнитель воли Небесной. Обыкновенное слово их: так угодно Богу и государю; ведает Бог и государь. Усердие сих людей невероятно. Я видел одного из знатных великокняжеских чиновников, бывшего послом в Испании, седого старца, который, встретив нас при въезде в Москву, скакал верхом, суетился, бегал как молодой человек; пот градом тек с лица его. Когда я изъявил ему свое удивление, он громко сказал: Ах, господин барон! Мы служим государю не по-вашему! Не знаю, свойство ли народа требовало для России таких самовластителей или самовластители дали народу такое свойство». Без сомнения дали, чтобы Россия спаслась и была великою державою. Два государя, Иоанн и Василий, умели навеки решить судьбу нашего правления и сделать самодержавие как бы необходимою принадлежностью России, единственным уставом государственным, единственною основою целости ее, силы, благоденствия. Сия неограниченная власть монархов казалась иноземцам тираниею, они в легкомысленном суждении своем забывали, что тирания есть только злоупотребление самодержавия, являясь и в республиках, когда сильные граждане или сановники утесняют общество. Самодержавие не есть отсутствие законов: ибо где обязанность, там и закон; никто же и никогда не сомневался в обязанности монархов блюсти счастие народное.

Вооружение русских всадников. Рисунок из «Записок о Московии» С. Герберштейна, 1556 г.
Сии иноземные наблюдатели сказывают, что великий князь, будучи для подданных образом Божества, превосходя всех иных венценосцев в нравственном могуществе, не уступал никому из них и в воинских силах, имея 300 000 боярских детей и 60 000 сельских ратников, коих содержание ему ничего или мало стоило: ибо всякий боярский сын, наделенный от казны землею, служил без жалованья, кроме самых беднейших из них и кроме литовских или немецких пехотных воинов, числом менее 2000. Конница составляла главную силу; пехота не могла с успехом действовать в степях против неприятелей конных. Оружием были лук, стрелы, секира, кистень, длинный кинжал, иногда меч, копье. Знатнейшие имели кольчуги, латы, нагрудники, шлемы. Пушки не считались весьма нужными в поле: вылитые итальянскими художниками для защиты и осады городов, они стояли неподвижно в Кремле на лафетах. В битвах мы надеялись более на силу, нежели на искусство; обыкновенно старались зайти в тыл неприятелю, окружить его, вообще действовать издали, не врукопашь; а когда нападали, то с ужасным стремлением, но непродолжительным. «Они, – пишет Герберштейн, – в быстрых своих нападениях как бы говорят неприятелю: беги, или мы сами побежим! И в общежитии и в войне народы удивительно разнствуют между собою. Татарин, сверженный с коня, обагренный кровию, лишенный оружия, еще не сдается в плен: машет руками, толкает ногою, грызет зубами. Турок, видя слабость свою, бросает саблю и молит победителя о милосердии. Гонись за русским: он уже не думает обороняться в бегстве; но никогда не требует пощады. Коли, руби его: молчит и падает». Щадя людей и худо употребляя снаряд огнестрельный, мы редко брали города приступом, надеясь изнурить жителей долговременною осадою и голодом. Располагались станом обыкновенно вдоль реки, недалеко от леса, в местах паственных. Одни чиновники имели наметы; воины строили себе шалаши из прутьев и крыли их подседельными войлоками в защиту от дождя. Обозов почти не было: возили все нужное на вьючных лошадях. Каждый воин брал с собою в поход несколько фунтов толокна, ветчины, соли, перцу; самые чиновники не знали иной пищи, кроме воевод, которые иногда давали им вкуснейшие обеды. Полки имели своих музыкантов или трубачей. На великокняжеских знаменах изображался Иисус Навин, останавливающий солнце. В каждом полку особенные сановники записывали имена храбрых и малодушных, означая первых для благоволения государева и наград, а других для его немилости или общественного стыда. Молодые люди обыкновенно готовили себя к воинской службе богатырскими играми: выходили в поле, стреляли в цель; скакали на конях, боролись, и победителям была слава.
Хваля ясность, простоту наших законов и суда, не имевших нужды ни в толкователях, ни в стряпчих – не менее хваля и Василиеву любовь к справедливости, – иноземцы замечали, однако ж, что богатый реже бедного оказывался у нас виновным в тяжбах; что судьи не боялись и не стыдились за деньги кривить душою в своих решениях. Однажды донесли Василию, что судья московский, взяв деньги с истца и с ответчика, обвинил того, кто ему дал менее. Великий князь призвал его к себе. Судья не запирался и с видом невинного ответствовал: «Государь! Я всегда верю лучше богатому, нежели бедному», разумея, что первому менее нужды в обманах и в чужом. Василий улыбнулся, и корыстолюбец остался по крайней мере без тяжкого наказания. Не только законодательная, но и судная власть, как в самую глубокую древность, принадлежала единственно государю: все другие судьи были только его временными или чрезвычайными поверенными, от великокняжеских думных советников до тиунов сельских. Государь нередко уничтожал их приговоры. Они не могли лишить жизни ни крестьянина, ни раба или холопа. Мирская власть наказывала и духовных. Иногда митрополит жаловался на уголовных судей, которые приговаривали священников к кнуту и к виселице; судьи отвечали: «Казним не священников, а негодяев, по древнему уставу наших отцов». В сочинениях Иовия и Герберштейна находим первое известие о жестоких судных пытках, коими заставляли у нас преступников виниться в их злодеяниях: воров били по пятам; разбойникам капали сверху на голову и на все тело самую холодную воду и вбивали деревянные спицы за ногти. Обыкновение ужасное, данное нам татарским игом вместе с кнутом и всеми телесными мучительными казнями.

Троицкий Болдин монастырь в Смоленской области. Основан в 1530 г. преподобным Герасимом Болдинским
Торговля сего времени была в цветущем состоянии. К нам привозили из Европы серебро в слитках, сукна, сученое золото, медь, зеркала, ножи, иглы, кошельки, вина; из Азии – шелковые ткани, парчи, ковры, жемчуг, драгоценные каменья; от нас вывозили в Немецкую землю меха, кожи, воск; в Литву и в Турцию – меха и моржовые клыки; в Татарию – седла, узды, холсты, сукна, одежду, кожи в обмен на лошадей азиатских. Оружие и железо не выпускалось из России. В Москву ездили польские и литовские купцы; датские, шведские и немецкие торговали в Новгороде; азиатские и турецкие на Мологе, где существовал прежде Холопий городок и где находилась тогда одна церковь. Сия ярмонка еще славилась своею знатною меною. Иноземцы обязывались показывать товары свои в Москве великому князю: он выбирал для себя, что ему нравилось; платил деньги и дозволял продажу остальных. Пряные зелия, шелковые ткани и многие иные вещи были у нас дешевы в сравнении с их ценою в Германии. Лучшие меха шли из земли Печорской и Сибири. Платили иногда за соболя 20 и 30 золотых флоринов, за черную лисицу (употребляемую на боярские шапки) пятнадцать. Весьма уважались и бобры: ими опушивали нарядные платья. Волчьи меха были дороги, рысьи дешевы. Горностай стоил три или четыре, белка – две деньги и менее. С товаров ввозимых и вывозимых брали в казну пошлины, семь денег с рубля, а за воск – четыре деньги с пуда сверх цены оного. Россия считалась в Европе землею, изобильнейшею диким или бортевым медом. Монастырь Троицкий в Смоленской области, на берегу Днепра, был главным пристанищем для купцов литовских: они жили там в гостиницах и грузили товары, покупаемые ими в России для отправления в их землю. Некоторые места особенно славились своими произведениями для внутренней торговли: например, Калуга деревянною красивою посудою, Муром вкусною рыбою, Переславль сельдями, а еще более Соловки, где находились лучшие соляные варницы. Многие судоходные реки облегчали перевоз товаров; но Россия еще не имела морей, кроме Северного океана, к коему она примыкала своими полунощными хладными пустынями. Иногда небольшие суда ходили от устья Двины Белым морем мимо Святого Носа, Семи островов и шведской Лапландии в Норвегию и в Данию. Сим путем датский посол возвращался из Москвы в Норвегию с нашим толмачом Истомою. Другой толмач, именем Власий, плыл Сухоною, Югом и Двиною до Белого моря, чтобы ехать оттуда в Копенгаген. Сие плавание считалось весьма опасным и затруднительным: купцы скандинавские не смели вверять оному своих товаров и держались Новгорода. Любопытно знать, что россияне уже имели тогда сведение о Китае и думали, что можно Северным океаном достигнуть берегов сей отдаленной империи.

Деньга псковская. Серебро. Вес: 0.31 гр.

Деньга московская. Серебро. Вес: 0,39 гр.
В России ходили серебряные и медные деньги: московские, тверские, псковские, новгородские; серебряных считалось 200 в рубле (который стоил два червонца), а медных пул 1200 в гривне. Новгородские деньги имели почти двойную цену: их было только 140 в рубле. На сих монетах изображался великий князь, сидящий в креслах, и другой человек, склоняющий перед ним голову; на псковских голова в венце; на московских – всадник с мечом: новые были ценою вполовину менее старых. Золотые деньги ходили только иностранные: венгерские червонцы, римские гульдены и ливонские монеты, коих цена переменялась. Всякий серебреник бил и выпускал монету: правительство наблюдало, чтобы сии денежники не обманывали в весе и чистоте металла. Государь не запрещал вывозить монету из России, однако ж хотел, чтобы мы единственно менялись товарами с иноземцами, а не покупали их на деньги. Вместо нынешнего ста обыкновенным торговым счетом были сорок и девяносто; говорили: сорок, два сорока или девяносто, два девяноста и пр.

Улица в Москве. Рисунок из книги А. Олеария «Описание путешествия Голштинского посольства в Московию и Персию», XVII в.
Успехи торговли более и более умножали доходы государевы. Современники славят богатство и бережливость Василия. Главная казна его хранилась на Белоозере и в Вологде как в безопаснейших и недоступных для неприятеля местах, окруженных лесами и болотами непроходимыми. «Удивительно ли, – пишут иноземцы, – что великий князь богат? Он не дает денег ни войску, ни послам и даже берет у них, что они вывозят драгоценного из чужих земель: так князь ярославский, возвратясь из Испании, отдал в казну все тяжелые золотые цепи, ожерелья, богатые ткани, серебряные сосуды, подаренные ему императором и Фердинандом Австрийским. Сии люди не жалуются, говоря: великий князь возьмет, великий князь и наградит». Не тем, без сомнения, Иоанн и Василий богатели, что не давали серебром жалованья войску (ибо поместья стоили серебра), и не тем, что брали иногда у послов вещи, которые им отменно нравились; но мудрою бережливостью, точным соображением предприятий с государственными способами, запасом на случай нужды: правило важное для благоденствия держав. Карл V с сокровищами Нового Света часто не имел денег, а великие князья наши могли хвалиться богатством, издерживая менее, нежели получая.

А. М. Васнецов. На Крестце в Китай-городе
Несмотря на деятельность торговли, Россия казалась путешественникам малонаселенною в сравнении с иными европейскими странами: редкие жительства, степи, дремучие леса, худые, пустынные, уединенные дороги свидетельствовали, что сия держава была еще новою в гражданском образовании. С ужасом говоря о наших распутицах, тленных мостах, опасностях, неудобствах в пути, чужестранцы хвалят исправность и скорость нашей почты: из Новгорода в Москву приезжали они в 72 часа, платя шесть денег за 20 верст. Лошадей было множество на учрежденных ямах: кто требовал десяти или двенадцати, тому приводили сорок или пятьдесят. Усталых кидали на дороге; брали свежих в первом селении или у проезжих.
Чем ближе к столице, тем более селений и людей встречалось глазам путешественника. Все оживлялось: на дороге обозы, вокруг частые поля, луга представляли картину человеческой деятельности. Необозримая Москва величественно возвышалась на равнине с блестящими куполами своих несметных храмов, с красивыми башнями, с белыми стенами кремлевскими, с редкими каменными домами, окруженными темною грудою деревянных зданий, среди зеленых садов и рощей. Окрестные монастыри казались маленькими, прелестными городками. В слободах жили кузнецы и другие ремесленники, которые непрестанным употреблением огня могли быть опасны в соседстве: расселенные на большом пространстве, они сеяли хлеб и косили траву перед их домами, на обеих сторонах улицы. Один Кремль считался городом: все иные части Москвы, уже весьма обширной, назывались предместьями, ибо не имели никаких укреплений, кроме рогаток. На крутоберегой Яузе стояло множество мельниц. Неглинная, будучи запружена, уподоблялась озеру и наполняла водою ров кремлевский. Некоторые улицы были тесны и грязны; но сады везде чистили воздух, так что в Москве не знали никаких заразительных болезней, кроме наносных. В 1520 году, как пишут, находилось в ней 41 500 домов, исчисленных по указу великого князя; а сколько жителей, неизвестно: но можно полагать их гораздо за 100 000. В Кремле, в разных улицах, в огромных деревянных домах (между многими, отчасти также деревянными церквами) жили знатнейшие люди, митрополит, князья, бояре. Гостиный двор (там же, где и ныне, на площади Китай-города), обнесенный каменною стеною, прельщал глаза не красотою лавок, но богатством товаров, азиатских и европейских. Зимою хлеб, мясо, дрова, лес, сено обыкновенно продавались на Москве-реке в лавках или в шалашах.
Наши свойства казались наблюдателям и худыми и добрыми, обычаи любопытными и странными. Контарини пишет, что москвитяне толпятся с утра до обеда на площадях, на рынках, а заключают день в питейных домах: глазеют, шумят, а дела не делают. Герберштейн, напротив того, с удивлением видел их работающих в праздники. В будни запрещалось им пить; одни иноземные воины, служа государю за деньги, имели право быть невоздержными в употреблении хмельного: для чего слобода за Москвою-рекою, где они жили, именовалась Налейками, от слова наливай. Великий князь Василий, опасаясь действий худого примера, не дозволял своим подданным жить вместе с ними. У всякой рогатки на улицах стоял караул: никто не смел ходить ночью без особенной важной причины и без фонаря. Тишина царствовала в городе. Замечали, что россияне не злы, не сварливы, терпеливы, но склонны (особенно москвитяне) к обманам в торговле. Славили древнюю честность новгородцев и псковитян, которые тогда уже начинали изменяться в характере. Пословица: товар лицом продать служила уставом в купечестве. Лихоимство не считалось стыдом: ростовщики брали обыкновенно 20 на 100 и еще хвалились умеренностью: ибо в древние времена должники платили у нас 40 на 100.

Лавка сапожника в Китай-городе. Неизвестный гравер, сер. XVII в.
«Рабство, несовместимое с душевным благородством, было (по словам Герберштейна) общим в России: ибо и самые вельможи назывались холопями государя»; но имя не вещь: оно изображало только неограниченную преданность россиян к монарху; а в самом деле народ пользовался гражданскою свободою. Рабами были единственно крепостные холопи или дворовые, или сельские, потомки людей купленных, военнопленных, законом лишенных вольности. В XI веке они не имели у нас ни гражданских, ни человеческих прав (так и в древнем Риме): господин мог располагать ими как собственностью, как вещью; мог своевольно отнимать у них жизнь, никому не ответствуя. Но в сие время – или в XVI веке – уже одна государственная власть смертью казнила холопа, следственно, уже человека, уже гражданина, покровительствуемого законом. Здесь видим успех нравственности и действие лучших гражданских понятий. Вообще судьба сих природных рабов не казалась им тяжкою: ибо многие из них, освобождаемые по духовным завещаниям, немедленно искали себе новых господ и шли к ним в кабалу или в новую крепость не из-за того что не находили способа жить своими трудами (ибо хороший поденщик в Москве вырабатывал с утра до вечера две деньги, или около двадцати копеек нынешних), а потому что любили домашнюю легкую службу и беспечность: раб-отец не заботился о многочисленном семействе, не боялся ни старости, ни болезни. Закон молчал о должности господ: общее мнение предписывало им человеколюбие и справедливость; тираном гнушались как бесчестным гражданином; никто из вольных людей не хотел идти к нему в услужение; именем его бранились на площадях. Гораздо несчастнее холопства было состояние земледельцев свободных, которые, нанимая землю в поместьях или в отчинах у дворян, обязывались трудиться для них свыше сил человеческих, не могли ни двух дней в неделю работать на себя, переходили к иным владельцам и обманывались в надежде на лучшую долю: ибо временные, корыстолюбивые господа или помещики нигде не жалели, не берегли их для будущего. Государь мог бы отвести им степи, но не хотел того, чтобы поместья не опустели, и сей многочисленный род людей, обогащая других, сам только что не умирал с голоду: старец, бездомок от юности, изнурив жизненные силы в работе наемника, при дверях гроба не знал, где будет его могила. Бедность рождает презрение: в старину называли у нас земледельцев смердами, в XVI веке крестьянами, то есть христианами, но в худом, варварском смысле: ибо долговременные наши тираны, Батыевы монголы, поносили россиян сим именем. Вероятно, что многие земледельцы шли тогда в кабалу к дворянам; по крайней мере, знаем, что многие отцы продавали своих детей, не имея способа кормиться. Сын мог быть несколько раз продан отцом; но в четвертый раз отпущенный господином на волю, уже зависел единственно от себя.

Русский боярин. Рисунок из книги А. Олеария «Описание путешествия Голштинского посольства в Московию и Персию», XVII в.
Здесь представляется любопытный вопрос: неужели никогда не бывало в России крестьян-владельцев? По крайней мере не знаем, когда они были. Видим, что князья, бояре, воины и купцы – то есть городские жители, – искони владея землями, отдавали их в наем крестьянам свободным. Всякая область принадлежала городу; все ее земли считались как бы законною собственностью его жителей, древних господ России, купивших, вероятно, сие право мечом в такое время, до коего не восходят летописи, ни предания. Но крестьяне, платя дань или оброк владельцам, имели свободу личную и движимую собственность.
Не только бояре знатные, но и самые простые, бедные дворяне казались спесивыми, недоступными. К первым никто не смел въехать на двор: оставляли лошадей у ворот. Благородные стыдились ходить пешком и не имели знакомства с мещанами, опасаясь тем унизиться. Они вообще любили сидячую жизнь и не понимали, как можно заниматься делами стоя или ходя. Молодые женщины были совершенными затворницами: боялись показываться чужим людям и в церковь ходили редко; дома шили, пряли. Одна забава считалась для них позволенною: качели. Богатые не пеклись о домашнем хозяйстве, которое лежало единственно на слугах и служанках. Бедные поневоле трудились; но самая беднейшая, готовя для себя кушанье, не могла умертвить никакого животного: стояла у ворот с курицею или с уткою и просила мимоходящих, чтобы они закололи сию птицу ей на обед. Несмотря на строгое заключение жен, бывали, как и везде, примеры неверности, тем естественнее, что взаимная любовь не участвовала в браках и что мужья-дворяне, находясь в государевой службе, редко живали дома. Не жених обыкновенно сватался за невесту, но отец ее выбирал себе зятя и говорил о том с отцом его. Назначали день свадьбы, а будущие супруги еще не знали друг друга в глаза. Когда нетерпеливый жених домогался видеть невесту, то родители ее всегда отвечали ему: «Спроси у добрых людей, какова она?» Приданое состояло в одежде, в драгоценных украшениях, в слугах, в конях и прочем; а что родственники и приятели дарили невесте, то муж должен был после свадьбы возвращать им или платить деньгами. Герберштейн первый сказал, что жена россиянка не уверена в любви супруга без частых от него побоев: сие вошло в пословицу, хотя могло быть только отчасти истиною, объясняемою для нас древними обычаями славянскими и грубою нравственностью времен Батыева ига.

Б. А. Чориков. Австрийский посланник представляется Иоанну III. 1491 г.
Спесивые против бедных мещан, дворяне и богатые купцы были гостеприимны и вежливы между собою. Гость, входя в комнату, глазами искал святых образов, шел к ним, крестился и, несколько раз сказав вслух: Господи помилуй! – обращался к хозяину с приветствием: Дай Боже тебе здравия! Они целовались, кланялись друг другу и чем ниже, тем лучше; переставали и снова начинали кланяться; садились, беседовали, и гость, взяв шапку, шел опять к образам; хозяин провожал его до крыльца, а любимого до самых ворот. Потчевали приятелей медом, пивом, винами иноземными: романеею, мушкателем, канарским, белым рейнским; лучшим считалась мальвазия, употребляемая, однако ж, более в лекарство и во дворце за великокняжескою трапезою. Ужинов не знали: обеды были изобильные и вкусные для самых иноземцев, которые дивились у нас множеству и дешевизне всякого скота, рыбы, птиц, дичины, добываемой охотою псовою, соколиною, тенетами. Вообще роскошь тогдашняя состояла в избытке обыкновенных, дешевых вещей; умели хвалиться ею, не разоряясь; бережливость не славилась добродетелью, ибо казалось естественною людям, которые еще не ведали прелестей изнеженного вкуса. Дорогие одежды означали первостепенных государственных сановников: если не закон, то обыкновение воспрещало другим равняться с ними в сих принадлежностях знатности, соединенной всегда с богатством. Сии наряды употреблялись бережно; ветреная мода не изменяла оных, и вельможа оставлял свою праздничную одежду в наследство сыну. Платье боярское, дворянское, купеческое не различалось покроем: верхнее с опушкою, широкое, длинное называлось однорядками; другое охабнями, с воротником; третье ферезями, с пуговицами до подола, с нашивками или без нашивок; такое же длинное, с нашивками или только с пуговицами до пояса, кунтышами, доломанами, кафтанами; у всякого были клинья, а на боках прорехи. Полукафтанье носили с козырем; рубахи с вышитым разноцветным воротником и с серебряною пуговицею; сапоги сафьянные, красные, с железными подковами; шапки высокие, шляпы поярковые, черные и белые. Мужчины стригли себе волосы. Дома не блистали внутренним украшением: самые богатые люди жили в голых стенах. Сени огромные, а двери низкие, и входящий всегда наклонялся, чтобы не удариться головою о верхний косяк.

Свадьба Василия III с Еленой Глинской. Миниатюра из Лицевого летописного свода, XVI в.
Опишем некоторые достопамятные обыкновения. Посланник великокняжеский Димитрий, будучи в Риме и беседуя с Павлом Иовием о нравах своего отечества, сказывал ему, что россияне, искони набожные, любя чтение душеспасительных книг, не терпят проповеди в церквах, дабы слышать в них единственно слово Господне без примеса мудрований человеческих, несогласных с простотою Евангельскою; что нигде не имеют такого священного уважения к храмам, как у нас; что муж и жена, вкусив удовольствие законной любви, не дерзают войти в церковь и слушают обедню, стоя на паперти; что молодые нескромные люди, видя их там, угадывают причину и своими насмешками заставляют женщин краснеться; что мы весьма не любим католиков, а евреями гнушаемся и не дозволяем им въезжать в Россию. Сие время особенно славилось открытием многих святых целебных мощей; но Иоанн и Василий не всегда верили молве и рассказам народным; а без согласия государева духовенство не умножало числа святых: когда же строгое исследование и достоверные свидетельства убеждали великого князя в истине чудес, то объявляли их всенародно, звонили в колокола, пели молебны, и недужные со всех сторон спешили к праху новых угодников, как ныне спешат к новым славным врачам, чтобы найти исцеление. Тогдашняя христианская набожность произвела один умилительный обычай. Близ Москвы было кладбище, называемое селом скудельничим, где люди добролюбивые в четверток перед Троицыным днем сходились рыть могилы для странников и петь панихиды в успокоение души тех, коих имена, отечество и вера были им неизвестны; они не умели назвать их, но думали, что Бог слышит и знает, за кого воссылаются к нему сии чистые, бескорыстные, истинно христианские молитвы. Там погребались тела, находимые в окрестностях города, а может быть, и всех иноземцев.
Иовий пишет, что великие князья, подобно султанам, избирают себе жен за красоту и добродетель, нимало не уважая знатности; что невест привозят из всей России; что искусные, опытные бабки осматривают их тайные прелести; что совершеннейшая или счастливейшая выходит за государя, а другие в тот же день за молодых придворных чиновников. Сие известие может относиться единственно к двум бракам Василия: ибо отец, дед и предки его женились обыкновенно на княжнах владетельных. Сообщим здесь любопытные подробности из описания Василиевой свадьбы 1526 года.
«Державный жених, нарядясь, сидел в брусяной столовой избе со своим поездом; а невеста, Елена Глинская, с женою тысяцкого, двумя свахами, боярынями и многими знатными людьми шла из дому в середнюю палату. Перед нею несли две брачные свечи в фонарях, два каравая и серебряные деньги. В сей палате были сделаны два места, одетые бархатом и камками; на них лежали два зголовья и два сорока черных соболей; а третьим сороком надлежало опахивать жениха и невесту. На столе, покрытом скатертью, стояло блюдо с калачами и солью. Елена села на своем месте; сестра ее, княжна Анастасия, на жениховом; боярыни вокруг стола. Василий прислал туда брата, князя Юрия, который, заняв большое место, велел звать жениха. Государь! сказали ему: иди с Богом на дело. Великий князь вошел с тысяцким и со всеми чиновниками, поклонился иконам, свел княжну Анастасию со своего места и сел на оное. Читали молитву. Жена тысяцкого гребнем чесала голову Василию и Елене. Свечами богоявленскими зажгли брачные, обогнутые соболями и вдетые в кольца. Невесте подали кику и фату. На золотой мисе, в трех углах, лежали хмель, соболи, одноцветные платки бархатные, атласные, камчатные, и пенязи, числом по девяти в каждом угле. Жена тысяцкого осыпала хмелем великого князя и Елену, опахиваемых соболями. Дружка государев, благословясь, изрезал перепечу и сыры для всего поезда; а Еленин дружка раздавал ширинки. Поехали в церковь Успения: государь с братьями и вельможами, Елена в одних санях с женою тысяцкого и с двумя большими свахами; за нею шли некоторые бояре и чиновники; перед нею несли свечи и караваи. Жених стоял в церкви на правой стороне у столпа, невеста – на левой. Они шли к венчанию по камкам и соболям. Знатнейшая боярыня держала скляницу с вином фряжским: митрополит подал ее государю и государыне: первый выпив вино, растоптал скляницу ногою. Когда священный обряд совершился, новобрачные сели на двух красных изголовьях. Митрополит, князья и бояре поздравляли их; певчие пели многолетие. Возвратились во дворец. Свечи с караваями отнесли в спальню, или в сенник, и поставили в кадь пшеницы. В четырех углах сенника были воткнуты стрелы, лежали калачи с соболями, у кровати два зголовья, две шапки, одеяло кунье, шуба; на лавках стояли оловянники с медом; в головах кровати иконы Рождества Христова, Богоматери и Крест Воздвизальный; на стенах также иконы Богоматери с Младенцем; над дверью и над всеми окнами, внутри и снаружи, кресты. Постелю стлали на двадцати семи ржаных снопах. Великий князь завтракал с людьми ближними; ездил верхом по монастырям и обедал со всем двором. Князь Юрий Иоаннович сидел опять на большом месте, а Василий рядом с Еленою; перед ними поставили жареного петуха: дружка взял его, обвернул верхнею скатертью и отнес в спальню, куда повели и молодых из-за стола. В дверях знатнейший боярин выдавал великую княгиню и говорил речь. Жена тысяцкого, надев две шубы, одну наизвороть, вторично осыпала новобрачных хмелем; а дружки и свахи кормили их петухом. Во всю ночь конюший государев ездил на жеребце под окнами спальни с обнаженным мечом. На другой день супруги ходили в мыльню и ели кашу на постеле». Легко угадать разум сих обрядов, без сомнения, весьма древних, отчасти, может быть, славянских, отчасти скандинавских: некоторые образовали любовь, согласие, чадородие, богатство; другие должны были удалять действие злого волшебства.
Василий, находясь в частых сношениях с государями европейскими, любил хвалиться ласкою, оказываемою их послам в России; но иноземцы жаловались на сей милостивый прием, соединенный с обрядами скучными и тягостными. Приближаясь к границе, посол давал о том знать наместникам ближайших городов. Ему предлагали множество вопросов: «Из какой земли, от кого едет? Знатный ли человек? Какого именно звания? Бывал ли прежде в России? Говорит ли нашим языком? Сколько с ним людей и каких?» О сем немедленно доносили великому князю; а к послу высылали чиновника, который, встретив его, не уступал ему дороги и всегда требовал, чтобы он стоя выслушивал государево приветствие со всем великокняжеским титулом, несколько раз повторяемым. Назначали дорогу и места, где надлежало обедать, ночевать. Ехали тихо, иногда не более пятнадцати или двадцати верст в день: ибо ждали ответа из Москвы. Иногда останавливались в поле, несмотря на зимний мороз; иногда худо ели. За то пристав терпеливо сносил брань иноземцев. Наконец государь высылал дворян своих к послу: тут везли его уже скорее и лучше содержали. Встреча перед Москвою была всегда пышная: являлось вдруг несколько чиновников в богатых одеждах и с отрядом конницы; говорили речи, спрашивали о здоровье, и пр. Двор посольский находился близ Москвы-реки: большое здание со многими комнатами, но совершенно пустыми; никто не жил в сем доме. Приставы служили гостям, непрестанно заглядывая в роспись, где было все исчислено, все измерено, что надлежало давать послам немецким, литовским, азиатским: сколько мясных блюд, меду, луку, перцу, масла, даже дров. Между тем придворные чиновники ежедневно спрашивали у них, довольны ли они угощением? Нескоро назначался день представления: ибо любили долго изготовляться к оному. Послы сидели одни, не могли заводить знакомств и скучали. Великий князь к сему дню, для их торжественного въезда в Кремль, обыкновенно дарил им коней с богатыми седлами.