ЧАСТЬ I
К читателю
Совместная Победа над фашистской Германией, смерть Сталина, хрущевская оттепель, брежневско-черненковский застой, горбачевские гласность и Перестройка, сопротивление реформации и распад СССР, неудавшиеся попытки демократизации послесоветской России, чекистский реванш и агония империи – эти исторические вехи России на протяжении сознательной жизни моего поколения, моей жизни.
Она стоит того, чтобы о ней рассказать, осмысливая жизнь в потоке этого времени, потому что с младых ногтей выгребал на стремнину. Миру известны истории знаменитых диссидентов, вступивших в открытую борьбу с репрессивным социализмом и терявших свободу или родину, а то и жизнь в этой борьбе.
Моя история другая. Она о невидимой, но мучительной борьбе с самим собой, о драме самоидентификации в стране, совершившей чудовищный социальный эксперимент со своим народом и рухнувшей в одночасье под тяжестью его последствий. Но почти пятьдесят лет выпало жить при социализме, находя смысл и удовлетворение в попытках его очеловечивания.
А потом пришел как-то легко и вдохновенно Михаил Сергеевич Горбачев. Он привел в движение гласностью и новым мышлением всю страну, заставил работать рычаги экономических интересов, закончил бессмысленную и затратную холодную войну. Но слишком сильны были сопротивление партийной номенклатуры с одной стороны и спонтанные центробежные силы «братских республик» с другой, чтобы сохранить равновесие и продолжить реформацию созданного большевиками Союза.
Распад произошел тоже внезапно, как звездный час другого секретаря обкома, Ельцина, расчетливо возглавившего стихию рвавшегося к демократии народа. Из пут союзных структур вычленилось новое государство Россия, началось невиданное в истории движение вспять от социализма к капитализму, время рискованных экспериментов, криминальных приватизаций и обнищания обманутого свободой народа. Время, которое в корне изменило мою жизнь, наполнив ее кипящим, совершенно невероятным содержанием.
Во-первых, это активное участие в реформах вырывавшейся из пут цензуры советской киноиндустрии. Она осуществлялась Союзом кинематографистов под руководством Элема Климова. Во-вторых, это первые свободные и альтернативные выборы и отрезвляющий опыт депутатской работы в районном совете московских Хамовников. В-третьих, открытие для себя благотворительности как нового типа общественной активности. И, наконец, выход на главную тему всей жизни – раскрепощение сознания и поведенческих стереотипов на микроуровне политической системы, в сфере территориального общественного самоуправления и самоорганизации соседских сообществ.
Внимая советам Солженицына, мы закладывали основы гражданского общества, действуя как фермент самоорганизации жителей вокруг коммунальных и прочих проблем местного значения. Возрождая традиции русского дореволюционного земства, мы опровергали на практике горячечный бред пропагандистов «русского мира», «евразийства» и «русской цивилизации», утверждавших неспособность и нежелание народов России воспринимать и перенимать «чуждые им ценности загнивающего либерализма Запада».
Инфраструктуру демократии в России помогал создавать как раз Запад в надежде на то, что власти подхватят энергетические потоки, идущие снизу. Но время было упущено. Если бы Горбачев пришел сразу после Хрущева и вывел бы КПСС за пределы правового поля, страна была бы сегодня другой. Но застой сделал свое черное дело. Власть в пост-советской России оказалась какой-то странной. На своих местах оставались те же советские кадры, партийная номенклатура и затаившиеся чекисты. Путч 1991 года предупреждал об угрозе реванша.
И все же гражданское общество как-то проклюнулось. Уже первые общественные организации социальной сферы в 90-х заложили основы гражданского общества, доказав желание и способность рядовых граждан вырваться из оков патернализма и поставить государство на место, сделав личные интересы мотором общественного развития. Для чего лишь не хватало либерально-демократического устройства самого государства.
Мой долг сохранить свидетельства того, как сопротивлялось демократическим инициативам низов это странное государство на всех своих уровнях, как рождались формы территориального общественного самоуправления, как начинал работать социальный капитал местного развития.
Что такое совесть и откуда она берется, не знаю. Знаю только, с ней шутить нельзя. Можно потерять не только покой, но и самого себя. Можно пережить неудачи, даже чью-то ненависть стерпишь, когда твердо знаешь: жил и действовал по совести. По совести подставляли мы плечо под не окрепшую российскую демократию. Мы были там, внизу, где под слоем пепла тлела похороненная большевиками и затоптанная их наследниками русская демократия – чеховское земство.
Нас было ничтожно мало для такой огромной страны – тех, кому пришлось взять на себя миссию социального аниматора искаженного идеологией общественного сознания, у которого частный, личный интерес был задавлен государством-Левиафаном, созданным партией большевиков и ее чекистами сначала под лозунгами светлого будущего, потом под камлание о «русской духовности» и «особом русском пути».
Не отрицая роли государства, мы добивались его десакрализации, продвигая на историческую сцену нового для России посредника между населением и властью – гражданское общество как организованную силу.
И сегодня, оставшись в меньшинстве, мы остаемся верны правам человека, верховенству закона, разделению властей, национальному государству и демократии места. В них будущее России.
Моя благодарность Агентству международного развития США, фонду Форда, фонду Евразии, фонду Ч. С. Мотта и Британскому Совету. Они помогали делать то, что я считал нужным для своей родины.
Спасибо моей спутнице жизни в изгнании, любимой женщине и умнице Еве Андреевой, без которой жить дальше не имело бы смысла.
Особая благодарность моему другу Виктору Косогорову, взявшему на себя кропотливый труд редактирования этой книги и издательству Ридеро.ру, открывшему фантастические возможности книгоиздания XXI века.
Много добрых слов хочется сказать моим коллегам и соратникам, всем хорошим людям, с которыми прожита лучшая часть жизни – незавершенное обновление России. Спасибо вам.
ВРЕМЯ НАДЕЖД…
Глава 1. Одесса 60х: оттепель
Да, город этот мечен нами,
И запах держит старый двор…
И только крепнет он с годами
И тянет нас на разговор…
Что я оставлю детям? Не деньги, их у меня никогда и не было. Откуда деньги у советского человека? Другие ценности, на которых держалась жизнь, как на прочном фундаменте, важнее денег. Наступают времена, когда деньгами и не прикроешься. Вот гены… А что знаю я о своих генах? Сожжены, уничтожены все следы – даже письма и фотографии деда, казачьего офицера, погибшего в 1905 году под Мукденом. Да и в истории моего народа много чего скрыто, уничтожено, запутано… Пусть хоть дети мои узнают, от кого они…
Так случилось, я родился в Одессе. Между Оперным театром и городским сквером. Это много значит для тех, кто понимает. Но еще важнее, когда. Сразу, как закончились кровавые тридцатые. Подумать только, как повезло: выскользнуть из жутких лап коллективизации, из молотилки Большого террора, из мясорубки страшной войны, но до самой мужской зрелости ничего и не знать об этом. Счастливчик…
Здесь, от Оперного через бульвар, открывавший весь порт и море, к колоннаде Воронцовского дворца и к школе Столярского у Сабанеева моста с видом на далекую Нефтегавань, глаз привыкал к красоте и морскому простору.
А вот детства у нас не было. Его отняла война. В Одессу из эвакуации мы вернулись из Владивостока в 1945-м. Пол подъезда было снесено бомбой вместе с квартирой соседей. Наша с остатками лестницы сохранилась. Первое время поднимались на пятый этаж, держась за перила и не глядя вниз. За городской баней, где мылись по субботам всей семьей, был известный только нам, пацанам, подземный ход в катакомбы с костями не то людей, не то каких-то животных.
Потом была Румыния, отец принимал на Дунае разные суда в счет репараций. Мотался с ним на студебеккере по горам Трансильвании, в Бухаресте в генеральском особняке возле Военной Академии на улице Хереску ненавидел уроки музыки, читал первые книжки. За три года на улице научился румынскому. Там, на Хиреску, нас и обокрали ночью цыгане из табора, светившегося кострами за Академией. В Браила, где мы жили позже с отцом, украли уже меня, семилетнего. Но я сбежал из табора и спрятался в нашей воинской части, в клетке с кроликами. Потому что там была морковка.
Зимой 1947 года видел из окна короля Михая, которого наши уговорили отречься от престола. Красивый такой стройный мужчина, он стоял в открытой машине, объезжавшей город в сопровождении конной гвардии. Король прощался с народом, уходя в эмиграцию. Зима была неспокойной, вечером около посольской школы выстрелом в затылок убили одноклассника сестры.
После этого советских детей приказано было отправить на родину. Нас с сестрой, уже кончавшей в Бухаресте девятый класс, пароходом в Одессу – на попечение бабушки Мани, Марии Степановны, родившейся еще до революции в болгарском поселении под Одессой. Её брат, добрейший дядя Спира, командовал одесской железной дорогой.
Для счастья нам достаточно было знать, что впереди ждет, не дождется светлое будущее всего человечества. Мне предстоит его приближать. Жизнь в стране только что победившей Германию – это кусок черного хлеба с жесткой конской колбасой, стакан чая с куском сахара перед школой и песни советских композиторов после. Ни холодильников, ни телевизоров, ни телефонов, ни ванн у нас не было. Воду носил из колонки во дворе на пятый этаж ведрами. Но был горд, что родился в СССР, а не в загнивающей Америке, где негров вешают.
А еще у одесских мальчишек было море – чистое, зеленоватое у заросших мидиями осколков скал. Море и книги. Аккуратным почерком записывал каждую прочитанную… Вот она передо мной, полуистлевшая тетрадка, которой 70 лет. В ней целая библиотека, огромный мир, в который предстояло войти и сделать его справедливым, красивым и счастливым. Если партии удалось вывести породу советского человека, то это я. Будущее звало за пределы планеты Земля, завораживало романами Ефремова. Про Оруэлла мы ничего не знали.
Ранним летним утром добегали пацаны до Ланжерона, влетали в прохладную плотную воду и легко проплывали всю дикую, заросшую степным пахучим ковылём Отраду, выбрасывались на горячий уже песок в Аркадии и спали под палящим солнцем, черные, как сухие коряги, до обеда. Просыпались, чтобы с наслаждением проглотить за двадцать копеек четыре пирожка с потрохами, выпить на пятак газировки. И обратно морем. Но, уже не торопясь, выходя к рыбакам в Отраде похлебать из солдатского котелка юшки.
Дома баба Маня уже наготовила миску салата из степных помидоров, с луком, с картошкой, с огурцами и с постным маслом. Набьешь голодное пузо – и в городской садик у Дерибасовской. Там летняя эстрада, концерт московских звёзд. Через забор – и на тёплый еще асфальт перед первым рядом: пой, Ружена Сикора, мы здесь. Счастливые, вечно голодные, советские дети пятидесятых, строительный материал коммунизма во всем мире…
Потом вернулись из Румынии родители, и отец сразу ушел в море. А бабушка вернулась к дочери и ее детям в Москву, в Томилино. Мы остались с мамой. Рита училась в музыкальной школе, а от меня, наконец, отстали с этой музыкой. Когда умер Сталин, гудели заводы, сигналили автомашины, я стоял, держа руку в пионерском салюте. По маминым щекам текли слезы. Все ожидали конца света. А Юрка Бровкин зло выковыривал глаза на портрете в учебнике. Нам было по тринадцать, мы дружили. До этого дня. До кровавой драки. Тогда и сказал что-то странное разнимавший нас учитель химии, печально обводя взглядом класс:
– Кто знает, может быть в таких драках и вырастают будущие вожди.
…Осенняя слякоть, старушка несет с базара в обеих руках кошелку, авоську, бидон с молоком. Помню крышку бидона, нечаянно сброшенную полой пальто прохожего прямо под ноги, в жидкую, чавкающую грязь. Я поднимаю ее, протираю сначала рукавом, потом своей белой рубашкой насухо и прикрываю ею бидон. Смотрю, а старушка плачет, глядя на мои неуклюжие старания. Обожгло меня. И у самого слезы. Что это было? «Стрела добра пронзила его сердце». Из книжки фраза. Но на всю жизнь.
Да, мы книжные дети. Читать было страстью: «Как закалялась сталь», «Тимур и его команда», «Люди с чистой совестью», «Молодая гвардия», «Двенадцать стульев», «Спартак», «Овод», «Белый клык», «Старик и море», Диккинс, Бальзак и Маяковский… Горьковское «Человек – это звучит гордо!» представлялось как образ всечеловеческий, планетарный. А лермонтовское: «А он, мятежный, просит бури…» волновало и требовало жертвы.
Прочитанное, услышанное, впитанное живет в какой-то таинственной конфигурации в подсознании, создавая разных мальчишек и девчонок. Я не думал тогда о том, что Юрка Бровкин мог знать то, чего не знал я. И что вообще-то люди все разные, и мир они могут видеть иначе, не так как я. Не знал пацан, что где-то, спрятанная по спецхранам, существовала и другая литература – Замятина, Бердяева, Бунина, Платонова, Набокова…
Томик Есенина мать рассерженно вырвала из рук и выбросила с балкона. Он летел прямо на головы прохожих:
– Не смей читать эти декадентские стихи! О самоубийстве думаешь?
Оберегала от чего-то, одной ей ведомого. Она была мне и отцом и матерью. В городе моряков это не редкость. О своей молодости она не рассказывала, о голоде, о продразверстке, об ужасах процессов 30-х годов ни она, ни отец никогда – ни громко, ни шёпотом – не вспоминали.
О деле врачей мы уже узнали и сами. Неужели и там? Опять враги? Мы же всех победили! Но раз в «Правде»… Как не верить! Маму лучше не спрашивать, у нее самой ужас в глазах. И заботы: сберечь детей. Вот и крутилась по дому – одеть, обуть, обстирать, накормить, чтоб друзья были нормальные, и все с неизменной папиросой в зубах. Сколько помню, она всегда курила, с самой войны. Курила «Приму», полторы пачки в день.

Мама, когда меня еще не было.
– В бараний рог скручу, но сделаю вас счастливыми! – твердила она эту непонятную мне фразу.
Она была в ответственности за нас перед отцом. Мама, бросившая из-за войны медицинский, спасла нас с сестрой, вытащив на себе малышей из горящей Одессы через всю воевавшую страну аж на Дальний Восток. По дороге за блюдечко манной каши отдала золотое обручальное кольцо. И тем спасла мне жизнь.
Отец, ходивший в 1942-м механиком в караванах с грузами лендлиза из Ливерпуля в Мурманск (те самые «караваны смерти»), отлежав полгода в госпиталях, нашёл нас во Владивостоке только в 1944. И всю жизнь был благодарен матери, сохранившей детям жизнь в то невероятно, немыслимо тяжёлое время. Охраняла она нас и теперь, в 50-х. Умрет мама рано, в 66 лет от разрыва сердца. Я тогда упал на гроб и, запоздало рыдая, долго не отпускал ее.

Отец, когда я уже был.
Отец в дальних рейсах, он влиял на меня самим фактом своего существования. Авторитетом, которым пользовался на флоте. Инженер-механик, «дед», механик-наставник, парторг, ордена за труд. Не в торговле все же… В машинном отделении, в его каюте все было на своих местах. И ни пылинки. Его любили все, кто с ним работал. Мне это запомнилось, и я перенял эту страсть к организованности. Неосознанно, конечно. Может быть это была страсть к обживанию пространства? Вот и выбирали старостой класса, председателем совета пионерской дружины школы. Доверяли и учителя и товарищи.
Моими подшефными в 7-м классе были тертые хулиганы братья Лысенки. Мне, не ударившему в жизни ни одного человека, были страшны их кулаки, хотя и защищавшие меня. Я видел, как старший брат, вызванный к директору школы за хулиганство одного из младших, тут же в кабинете ударом ноги в живот вплющил пацана в стенку, и тот сполз на пол, теряя сознание.
Пробьет час, и один из братьев в составе элитных войск КГБ будет штурмовать дворец Амина в Афгане, и умрет от ран в неполные 50 лет. Прощаться с Мишей приедет весь класс постаревших одноклассников.
С корешем моим, Юркой Марковым, на заросшем виноградом балконе, с которого была видна синяя полоска моря и Военная гавань, готовились к выпускным экзаменам. Размышляли о дружбе на всю жизнь, о том, что человек рожден для счастья, как птица для полета, о смысле этого счастья, о едином человечестве без оружия и войн, ощущая себя частью гигантской машины, несущейся к коммунизму.
В аттестате у меня одна четверка и одна тройка. Четверка – по украинскому языку, на него внимания особого не обращали. Говорили на одесском. История Украины – такого предмета не было, а Сковорода, Коцюбинский, Леся Украинка, Тарас Шевченко и даже Павло Григорьевич Тычина – все как-то в пол уха. Про язык шутили: «одичавший русский». И демонстрировали карикатурным переложением пушкинских «Паду ли я стрелой пронзенный»: «Чы гэпнусь я дручком пропэртый…» И нам за это ничего не было. В голову не приходило, что мы живем на Украине. Одесса – наша Родина, неповторимая и чертовски обаятельная Одесса, а потом уже СССР, великая держава, будущее человечества. А Украина была где-то рядом ковыльной степью с запахом степных помидоров и певучим сельским говором на Привозе.
Мы родились и жили в СССР, где партия трудилась над выведением особой человеческой породы «советский человек» – без буржуазного гуманизма, индивидуализма и мещанства с геранью на подоконнике. Все мы, русские, евреи, украинцы, молдаване, болгары, цыгане, должны были стать новой исторической общностью – советским народом, где все люди братья. И сестры. А что говорят по-русски, так это же само собой. Мы же всех объединяем, оно и понятно!
А тройка – уже по поведению. Только за что? Да, ударил учительницу по голове ботинком. А зачем человека за руку дергать, когда он стоит вниз головой на руках на перилах в пролете третьего этажа? Если б не на училку упал, так внизу пятном кровавым. Я даже гордился этой тройкой, хотя именно она и закрыла дорогу туда, куда так хотелось.
…Помню в моих руках страшные тексты. Смятые, затертые страницы дневника недавно реабилитированного политзаключенного, друга моего отца, написанные им «там», урывками и тайком. На нашей маленькой даче в полдомика на 13-й станции Большого фонтана передо мной сидел изрезанный не то морщинами, не то шрамами сломленный человек и вяло рассказывал немыслимое. В 37-м он занимал высокий пост председателя Баскомфлота, профсоюза моряков. Его вызвали в Москву и взяли прямо в кабинете Берии, после дружеских объятий красного наркома. И для начала тут же профессионально избили. Ни за что.
Представить, как это избивать беззащитного человека, превращая его в корчащееся от боли животное, не мог. Только спросил его:
– Вы не хотите отомстить своим мучителям?
Он посмотрел на меня печальными, мертвыми глазами:
– Отомстить? Молодой человек, у меня сил осталось только дышать.
Тогда я не понял его, хотя уже был ХХ съезд КПСС, разоблачен культ личности, возвращены невинные жертвы террора. Лишь переспросил:
– Значит, вы им простили?
– Кому? Я знал: раз посадили, значит, партии так нужно. А где умирать за дело партии, в бою или в лагере… Значит, я был нужен ей там. Вот, прочтите еще это. Надеюсь, отец меня не заругает. Это Ольга Бергольц, сорок первый год.
Он протянул мне листок, напечатанный на машинке:
Нет, не из книжек наших скудных
Подобья нищенской сумы,
Узна́ете о том, как трудно,
Как невозможно жили мы.
Как мы любили – горько, грубо.
Как обманулись мы, любя,
Как на допросах, стиснув зубы,
Мы отрекались от себя.
И в тишине бессонных камер,
Все́ дни и ночи напролёт,
Без слёз, разбитыми губами
Шептали: «Родина… Народ»…
И находили оправданья
Жестокой матери своей,
На бесполезное страданье
Пославшей лучших сыновей.
О дни позора и печали!
О, неужели даже мы
Тоски людской не исчерпа́ли
В безвестных топях Колымы?
А те, что вырвались случайно,
Осуждены ещё страшней
На малодушное молчанье,
На недоверие друзей.
И молча, только втайне плача,
Зачем-то жили мы опять,
Затем, что не могли иначе
Ни жить, ни плакать, ни дышать.
И ежедневно, ежечасно,
Трудясь, страшились мы тюрьмы,
И не было людей бесстрашней
И терпеливее, чем мы.
За облик призрачный, любимый,
За обманувшую навек
Пески Монголии прошли мы
И падали на финский снег.
Но наши це́пи и вериги
Она воспеть нам не дала.
И равнодушны наши книги,
И трижды лжива их хвала.
Но если, скрюченный от боли,
Вы этот стих найдёте вдруг,
Как от костра в пустынном поле
Обугленный и мёртвый круг,
Но если жгучего страданья
Дойдёт до вас холодный дым,
Ну что ж, почтите нас молчаньем,
Как мы, встречая вас, молчим…
Мне вдруг захотелось обнять этого истерзанного человека и так и стоять, обнявшись и молча плача.
Через много лет я найду это стихотворение в своих тетрадках и повешу его над письменным столом. И буду вытирать рукавом глаза всякий раз, когда буду перечитывать страшные строки, смысл которых, наконец, дойдет до меня. Может быть и потому, что история решит повториться и в новом веке.
Тогда мы еще не знали многого. Книги и песни, фильмы и живопись учили любви в Родине. От гражданской войны осталась героика, а стройки коммунизма звали на подвиги. Отец, который привел меня к своему другу, молчал. А когда его, старшего механика Черноморского пароходства, всю жизнь утюжившего моря и океаны, партия вдруг бросит на подъем сельского хозяйства в Молдавию, безропотно подчинится. Конечно, это не лагерь и не допросы с пристрастием. Директор машино-тракторной станции в Молдавии в Дубоссарах ремонтировал комбайны вместо судовых двигателей. За что получил орден Трудового Красного знамени. Он тоже не задавал вопросов…
А я? И я ведь туда же! Придет время, и я по призыву комсомола в степи казахские на Всесоюзную стройку рвану с флота. Добровольно! С энтузиазмом!
– Идиот, – усмехнутся бывалые товарищи, глядя вслед уходящему.
– Романтик, – напишут в газетах.
Только добровольцы 41-го меня поймут. Правда, они не вернутся из боя. А я вернусь, и даже буду неожиданно вознагражден…
ХХ съезд обнулял кошмары прошлого, возвращал репрессированных и обещал: теперь все будет иначе. Знать бы будущее… А с другой стороны, что бы это меняло? Знать, что власть, обманувшая раз, обманет еще раз и еще раз? И как бы ты с этим знанием жил, строитель коммунизма? Нет, лучше не знать! Юность должна быть вдохновенной…
А жизнь между тем уже вносила кое-какие поправки. В том году объединили мужские и женские школы, и эта внезапная близость, случайные прикосновения, лукавые взгляды, девичьи запахи слегка наехали на жажду подвига. Стало неловко ходить по улицам, взгляд сам собой забегал под юбки длинноногим девчонкам. Субботние муки по вечерам: книга или танцы? Битва духа с плотью.
Спас отец. Догадывался ли он, не знаю. Но это отец отвел меня к своему товарищу, директору детской спортивной школы – ДСШ №1 на спортивную гимнастику. И этот простой шаг оказался судьбоносным для всей будущей жизни. Тогда спорт не только отвлек от игры гормонов, но и пустил в рост мышцы, подарил ощущение полета. Непередаваемо это чувство превосходства над толстым, неуклюжим человечеством. Вечерами в Воронцовском переулке, что возле Дюка и Потемкинской лестницы, разгонялся на турнике в большие обороты и сальто прогнувшись. На какое-то время мысли о человечестве вытеснит большой спорт.
Гимнастический зал уже в Москве, во взрослой жизни останется для меня родным домом, поможет справляться с сомнениями, которых только прибавлялось, а потяжелевшее тело и в 60 вынесет меня на двойное сальто, и в 70, привычно вложив ладони в кольца, поднимусь из виса в упор и в угол, и выжму стойку, не дрогнув.

От меня слева Федотов, справа Воскобойников, Кинолик,
Лысенко, Моисеев… Сборная Одессы по спортивной
гимнастике 1956 года
После тренировки – два стакана томатного сока и рондат-фляк-сальто прямо по брусчатке Пушкинской на оторопевшего милиционера. Не ходили по земле, летали. Саша, Зорик, Фред – сборная Одессы по спортивной гимнастике из Воронцовского переулка – крепкие ребята. С ними мы еще увидимся, в Москве, в Одессе, в Америке. Через много лет.
Девчонки из 8 «б» заглядывали в окна спортзала, шептались, хихикали, привлекали внимание касаниями колен под партой, я же видел только Её, пружинистую и гибкую, мелькавшую рядом на вольных, на брусьях, на бревне. Тогда и потекли сами собой струйки стихов. Я отправлял их ей почтой, анонимно. Она отвечала кому-то, она полагала взрослому, и эти ее коротенькие письма до сих пор со мной. Той первой любви, платонической и поэтической, обязан я своим благоговейным отношением к женщинам, которых выпадет любить. Спасибо тебе, Лара…

Ей мои первые чувства и неуклюжие стихи – Ларе Заякиной. А за Дюком, за домом справа – наша ДСШ-1, моя и ее колыбель спорта.
Мальчишки были хозяевами Черного моря, одесских пляжей и улиц. В Оперный мы залезали на балконы второго этажа по фонарным столбам, на Привозе весело переругивались с торговцами, таская на пробу большие куски чего угодно, и презирали курортников, устилавших жирными белыми телами наши пляжи. Гимнасты и акробаты, мы расчищали площадку на песке Ланжерона и на глазах публики вытворяли такие трюки, что нынешние мускулистые мулаты на Променаде Санта Моники кажутся мне салагами. Пока курортники, раскрыв рты, глазели на сальто и стойки, карманники тихо делали свое дело, слегка проходясь жадными пальцами по сложенной в кучки одежде. Одесса мама…
Я не знаю, как и почему в моей школьной жизни появился он. Просто вышли вместе после тренировки из спортзала и шли рядом, разговаривая. Он был старше лет на десять, умён и образован, одинок и печален. Мы говорили о смысле жизни, о бренности бытия.
Он говорил нараспев, глядя в небо:
– Люди делятся не на расы, не на национальности, а по тому, чем они живут. Одни, и их большинство, думают прежде всего о себе, другие – о человечестве. Вторых намного меньше. Тебе повезло, ты в меньшинстве. Хотя не знаю, чем для тебя это кончится.
Гера Воскобойников, гимнаст и философ провел в том году со мной много часов. Мы бродили по Пушкинской, он рассказывал про древних греков, про философию, учил жить, дорожа каждой минутой, отданной другим. Да, именно учил, как гуру. И как гуру остался в моей памяти.
«Философию истории» Гегеля подарил мне именно он. Музыка неземных сфер была притягательна немыслимо трудной задачей самопознания в процессе движения к «абсолютному духу», соединяющему нас и Космос. Помню, не мог справиться с формулой Спинозы «свобода как осознанная необходимость», она шла поперек стремления «переделывать мир», как хотел Карл Маркс. Потом Энгельс «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Тут все было просто. Труд создал человека. Хотя непонятно, зачем. И что он, человек, будет делать тогда, когда его труд возьмут на себя машины, тоже.
От Гегеля осталось еще и понимание истории как необратимого прогресса – вперед и выше. Что после нас, то и лучше. Вот и рвался в это будущее. Хотелось, как Огарев и Герцен когда-то на Воробьевых горах, «пожертвовать жизнью на избранную нами борьбу…» Борьбу за светлое будущее. С кем? Прежде всего с собой. Семья, уют, благополучие? Какое мещанство! Разве стоит тратить на это жизнь? Ведь мы учили горьковские строчки:
«Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник… Буря, пусть сильнее грянет буря!»
Во времена нашей юности Одесса была русским городом с еврейско-украинским акцентом. Аромат еврейской мудрости с привкусом украинской хитрости и щемящей красотой украинских песен. Порто-франко в каком-то духовном смысле. Нормальные люди общались цитатами из «Двенадцати стульев», хотя книги официально не существовало. Остапом Бендером вошла в сознание эпоха НЭПа, оставив за скобками кровавые роды советской власти. А нынешнее время надежд форматировал Жванецкий. Миша видел мир глазами застенчивого интеллигента, рассказывающего, как пройти на Дерибасовскую, смеющегося над глупым доцентом, которого довел до бешенства прямодушный студент Авас. Миша вносил свою лепту в нашу речь, помогая словом сохранять себя, свою внутреннюю свободу.
Слово вообще имело большое значение для одесситов. Им играли, им cкандалили, им упивались, им грелись, как солнцем на горячих пляжах. Жить для меня уже тогда значило прежде всего выразиться в слове, ради которого стоило и рисковать. Я рано понял, что увиденное, но не осмысленное, не переведенное в слова, растворяется без следа. Потом я найду эту мысль у Бунина в «Жизни Арсеньева» и слегка огорчусь. Оказывается, не я один…
Время выбора профессии между тем наступало на пятки. От этого выбора зависит получится жизнь или нет. Свербило неясное беспокойство: не найдешь свой путь, проиграешь жизнь. И даже не заметишь, что проиграл. Листал справочник учебных заведений, искал судьбу по названиям. Не в армии же терять три года! Почему в школе не учат, как жить и кем быть? Сколько людей могли бы спасти. Способность раннего выбора как знак таланта. И еще чего-то, имеющего отношение к силе характера, к воле и целеустремленности. Голос призвания – великая сила, данная ли от природы или внушенная, не важно.
Мальчишки и девчонки, мы еще не знаем ни своих способностей, ни капризов взрослой жизни, полной компромиссов и соблазнов. Я же жил с такой естественной и несокрушимой верой в свою избранность и исключительность, что особенно не волновался. Главное, быть готовым. Читать, слышать, всматриваться, думать, записывать. И не спешить выбирать. Жизнь сама тебя найдет.
Другой мой одноклассник, с которым мы дружили всю жизнь, Игорь Кириченко, не обременялся нашими сомнениями. Он уже знал, что будет химиком, и в этом было его счастье. Станет профессором одесского университета, будет преподавать в Алжире на французском, потом снова мирно жить в Одессе и преподавать в родном университете. Залетая изредка в родной город, я буду ночевать в его трехкомнатной квартире иногда сам, иногда с семьей. Буду расспрашивать о житье-бытье. С годами он передаст кафедру своей ученой дочери, тоже химику, будет любоваться рослым, красивым и умным внуком. Получит, наконец, от своего университета квартиру в элитном доме на высоком берегу Отрады, въедет в нее и знойным летом, войдя в те же волны, что и 70 лет назад, мгновенно умрет от разрыва сердца… Какая прекрасная жизнь.
Да, я любил свою Одессу, ее бульвары, одесских двориков с бельем на веревочке и европейских дворцов вроде бывшей биржи на Пушкинской, Пассажа и Оперного. Мила Фарбер на переменке подкармливала спортсмена бутербродами с колбасой от ее мамы. Олечка Александрович приносила домой заболевшему куриный бульон в кастрюльке. Я любил их всех, они любили меня. Это и было счастье.
Но суда, уходившие за горизонт, манили за собой в большой мир. Где-то там верстались пятилетние планы, осваивались целина и Космос, освобождались от колониального ига Африка и Восток, мы догоняли и перегоняли Америку. Светлое будущее буквально за поворотом. В школе юного журналиста у Григорянца при газете «Комсомольское племя» печатались отрывки из дневника десятиклассника…
Где-то в Москве был журфак, МГИМО, Институт философии, эти названия звучали, как песня. В Москву уже сбежала старшая сестра Рита, сменив одесскую консерваторию на МВТУ им. Баумана. Сказала всем на прощанье:
– Лучше быть средним инженером, чем средним пианистом.
И тем погубила свою жизнь, может быть, и не зная об этом. Хотя к этому выводу я приду гораздо позже. А пока я завидовал и намыливался за ней.

Курсант ОВИМУ, 3 курс
Но мать стояла насмерть, как панфиловцы под Москвой:
– Какая философия, прости господи? Сначала получи профессию! Ты что, в тюрьму захотел? Вон, соседа забрали, сел на пять лет за анекдот…
Не понимал их страхов. Моя жизнь, как на ладони – учеба, книги, тренировки, сбор макулатуры и металлолома, походы, стенгазета, шефство над двоечниками. Какая тюрьма, мама?
Но родители победили, и я задержался в Одессе еще на шесть лет. Высшая Мореходка, Одесское Высшее Инженерное Морское Училище – мечта любого пацана в этом городе стала моим первым университетом. На консультациях по русскому языку перед вступительными я стоял у доски. Преподаватель вызывал абитуриентов и диктовал слова. До первой ошибки. Человек пять слетели после 2—3 слов. На мне процесс сбился. Список слов был длинный, а я все писал и писал. И все увидели: не тот человек на борту…
Но отца знали и уважали члены приемной комиссии. Из меня стали делать судового механика: высшая математика, сопромат, дизеля, турбины, котлы, насосы, прочие железки. И все на шпаргалках, доведенных до совершенства. Измены жизнь не прощает. Сказал бы кто раньше…
После поступления я ей открылся. Ночью, наверху, на прогулочной палубе белоснежного лайнера «Украина», под свист ветра в вантах и шорох разрезаемых сталью волн я решился. «Жемчужина твоей девственности скрыта в перламутровой раковине моей души. Меня спрашивают, где живёшь ты, как будто не знают, что твой дом – в моем сердце». Говорил цитатами из «Дипломата» Олдриджа, сидя у ее таких желанных, божественной красоты ног, глядя в звездное августовское небо и не зная, что в тот момент она уже сделала свой выбор. Со скромным Саней, однокурсником, механиком по холодильным установкам на судах загранплавания она проживет счастливые пятьдесят лет.
А я буду старательно выращивать в себе моряка. Ходить на баркасе под парусом, конопатить теплые деревянные его борта перед очередной навигацией, маршировать на строевых на плацу экипажа, проверять ладонью температуру горячих шатунов в машине «Адмирала Нахимова» во время практики, писать шпаргалки перед экзаменами и просыпаться по ночам, разбуженный ласковым голосом дневального в ухо:
– А не пора ли нам поссать, любезный?
Успеешь брыкнуть ему по яйцам, и снова голову в подушку. Шутки бывали и похлеще.
Наверное, из уголовного мира пришло к нам это – кликухи, прозвища. У всех они были. Неизвестно, кто их придумывал. Но уже никто не удивлялся, что вот идет Мерзавчик, что опять напился Уголок, что стырил сухари в баталерке Чилона, куда-то делся Кенгуру и, как всегда, по утрам поднимает свои гири Качок. Меня окрестили: Идеалист-утопист. Нет, серьезно. Так и приклеилось.
А я завидовал Чилоне, деревенскому парню, паровоза не видавшего до мореходки. Как он в уме берет эти проклятые производные и интегралы? В моём им не было места. А что там было?
Через много лет в фильме Марка Осипяна «Три дня Виктора Чернышева» будет сцена: прут немецкие танки, у наших артиллеристов кончились снаряды. Окровавленный наводчик оборачивается и яростно кричит, протянув руку прямо в зрительный зал:
– Дай снаряд!!
Это я ползу по красному снегу и тащу ему тяжелый снаряд. Иначе, пожалуй, и не описать то чувство ко-всему-причастности, которое овладевало мной по мере взросления. И я не понимал, как можно чувствовать и жить иначе. А ведь жили! И ничего.
Однажды Санька Палыга не выдержал:
– Начитался утопистов, людям головы морочишь. А сам-то жить как будешь?
– Пока не знаю, – признавался я, – все впереди.
А что все? Читал под партой «Сумму технологий» Лема, ходил зачем-то на городские курсы английского языка и доставал вопросами преподавателя политэкономии: не мешают ли торговле государственные границы и устареет ли теория прибавочной стоимости, когда человеческий труд заменят роботы? А вот тренировки пришлось оставить. Не было спортивной гимнастики в ОВИМУ. Только сальто со стойки на руках с пятиметровки, собиравшее любопытных, не умеющих летать, приносило незабываемое удовлетворение.
Наконец, накатывало лето, а с ним практика по Крымско – Кавказской на белоснежных лайнерах. «Победа», «Россия», «Адмирал Нахимов»… Белые пароходы… Качается палуба под ногами практиканта от выпитых грузинских вин и танцев. Днем стоянка в Ялте, в Сочи, в Батуми. Красоты Крыма и Кавказа бесплатно в свободное от вахты в машинном отделении время. Скоро побережье я уже знал, как свои пять пальцев. Стоит команда вдоль борта, рассматривает пассажирок, идущих по трапу на посадку.
Одну сам принес на плече, подобрав нетрезвую на причале в слезах и соплях. Отмыл, уложил спать. Наутро невиданной красоты девчонка оказалась подругой валютчика Рокотова, только что взятого в Ялте с поличным. Прятала от посторонних взглядов сумку, доверху набитую деньгами. На судне ее искать не стали, а в Одессе, куда я ее довез через неделю, ее следы затерялись.
Татьяна Познякова, балерина Кировского театра, живущая ныне в маленьком городке под Нью-Йорком, любит вспоминать, как пятьдесят лет назад гуляла она с курсантом-практикантом по Сочи, как ели плавленный сырок на Приморском бульваре в Одессе и читали друг другу стихи. Тогда так и не поцеловались, а теперь поздно. Не судьба…
Катали мы на нашем лайнере и иностранцев. Но тут присмотр за командой был строгим. Длинный сутулый дядя Федя не сводил своих тухлых глаз с тех из нас, кто знал не по-русски. Я знал. И общался с парой молодых симпатяшек американцев. Говорили за жизнь. Они спрашивали, глядя на проплывавший вдали Воронцовский дворец:
– А хотел бы ты жить в таком?
Я отвечал совершенно искренне:
– Так там сейчас профсоюзный санаторий. Бесплатная путевка на 24 дня. Живи-не хочу, на всем готовом. У нас все побережье в таких санаториях.
Удивляются:
– А машину собственную?
Сама идея в те времена была так нереальна, что я, и правда, не мечтал:
– Так у нас хороший городской транспорт, всего несколько копеек билет. С машиной еще возиться надо.
– А работать в Сибирь, Азию, Казахстан? На цел… цел… на целину. Это добровольно?
В это время над палубами плыла, неслась наша песня: «Комсомольцы, добровольцы… надо верить, любить беззаветно… только так можно счастье найти!»
Как им, не знающих ни слов этих, ни наших высоких помыслов, передать энтузиазм романтиков 60-х, снова поверивших партии и готовых на подвиги с горящими, счастливыми глазами? Ну, какие дворцы и авто, вы, что ребята? У нас есть Родина. Мы Родине служим. Потому что любим. Читали «Как закалялась сталь»? Нет? То-то. Мы здесь все Павки Корчагины. Ну, не все. И не всегда. Но все же…
Кажется, эти симпатяги что-то поняли. Они переглянулись между собой, и Дайана сказала как-то с сожалением, больше самой себе:
– Да, наверное, они счастливы. У них есть родина. У нас тоже. И мы ее любим. Но он нужен своей стране. А мы нет. Только себе. Делай, что хочешь. Свобода. А зачем она, свобода, если ты никому не нужен? Тут что-то есть, Джим.
Я чувствовал себя гордым и счастливым. Сами же признаются! Вот только если бы не этот тухлый взгляд из-за угла…
Экипаж наш у подножия города, у Дюковского парка. К парку скатывается сверху трамвай по улице Перекопской Победы мимо Главного корпуса. Тормозит у экипажа и уходит дальше на Молдаванку. Парк не ахти какой, но с бассейном. Бассейн, правда, и у нас в экипаже, даже с десятиметровой вышкой. Но зимой у нас воду спускали. А в Дюке, когда замерзала вода, кто-то делал проруби. По утрам, после йоги я бежал туда нырять под лед. Выныривал на другом конце бассейна из другой проруби. Пар валил, тело звенело и, казалось, стрелы бы отскакивали. Жизнь и вечность сливались в одно волнующее предчувствие: все впереди, уже скоро!
И оно таки случилось! По субботам на Тираспольской площади, на конечной остановке трамвая, в забегаловке за рубль брал, как все, стакан водки:
Была традиция такая:
Сойдя с гремящего трамвая,
Зайти в закусочную с края
И взять, не думая, сто грамм
С хвостом селедки пополам.
И так два раза. Автомат
Всегда давал курсанту шансы…
А после этого – на танцы!
И поднимали корешА пьяное тело к кольцам, и прикипали кольца к ладоням, и взвивали ввысь гимнаста привычно напрягшиеся мышцы. И стоял в стойке вниз головой как вкопанный, и замолкала музыка, и ахали девчонки. С одной такой охнувшей целовались до одури душными летними ночами. В ночном парке сгоняли нас со скамейки дежурные милиционеры.
И тогда однажды она привела меня к себе домой. Родителей не было. Отец служил где-то в Германии. И здесь уже все было дозволено. А что все? Я и не знал. Просто сгорал в пламени вырвавшейся на свободу страсти и не знал, что делать. Показала. И вдруг все куда-то делось. Подо мной лежала потная растрепанная женщина с закрытыми глазами. Я тихо встал, оделся и вышел на предутреннюю спящую улицу. Мимо громыхал трамвай. Я вскочил на подножку, сел, держась за поручни, и смотрел, как мелькало сквозь деревья поднимающееся из-за моря солнце. И это все? Разочарование, стыд и молчание в ответ на любопытные вопросы товарищей по кубрику. Больше мы с ней никогда не встречались…

Отсюда глухими ночами, трамвай загрузив корешами, ползли в экипаж с самоволки усталые пьяные волки…
По ночам дневальному делать нечего. Сонный экипаж, тумбочка в конце гулкого пустого коридора, стул и заветный дневник, куда бывало, заползали рифмы. Эти самопроизвольно зарождавшиеся стихи как ныряние вглубь себя, в прорубь волнующих предчувствий, сомнений и разочарований. Теперь я знал: любовь только до. После – одна пустота. Странно. А у других как? В мужские бесстыдные откровения о женщинах (у нас они «бабы») не вступал, втайне завидуя простоте их отношений.
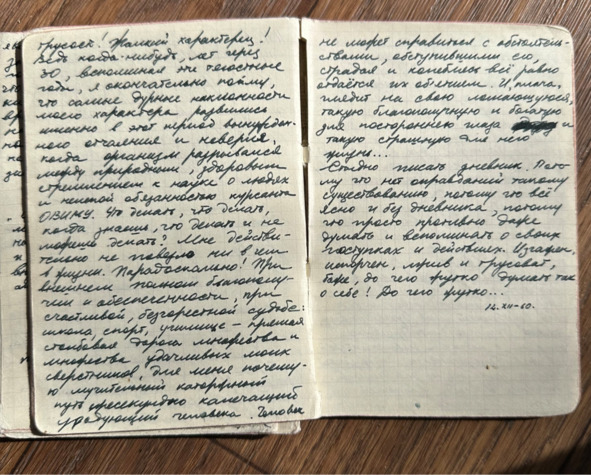
«…Нет оправданий такому существованию».
Строчки из дневника. 1960.
Виктор Бородин, изящный, всегда пахнувший одеколонной свежестью худощавый брюнет с насмешливым взглядом был нашей знаменитостью. Он пел. Лучший тенор училища, занимавший первые места на разных конкурсах, он, изгнанный когда-то из Водного института за любовь к польской студентке, отмолотивший за это три года в армии, пришел уже к нам, в ОВИМУ сразу на второй курс. Его звали на профессиональную сцену, он отказался.
– Что ты здесь делаешь? – спросил я его как-то вечером, сидя на гладильном столе в коридоре.
– А ты? – ответил он насмешливо, и мы больше не возвращались к этому вопросу.
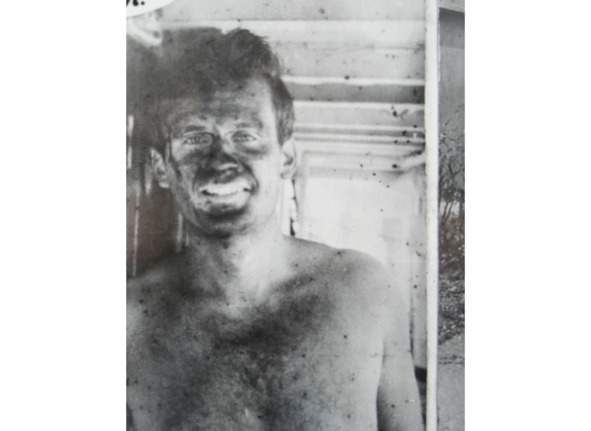
Володя Марин. После вахты. Пенсионером жить не захочет.
Уйдет в рейс и погибнет в шторм, на посту.
Светлая моряку память…
А стишки строчил в стенгазету. «Смелый кто? Попробуй счисти-ка эту грязь с курсанта Пищика!» Пищика уже нет, а смешные те строчки остались. И Пищик в них стоит перед глазами, небритый, темный кожей. Пятьдесят лет спустя на традиционной встрече выпускников кто-то скажет мне:
– А мы думали, ты поэтом станешь. Сильно был не такой, как все…
Поэтом станет однокурсник Домулевский. Стихи его будут печатать в одесских газетах. О море, о кораблях, о родине и трудовых подвигах…
Вечерами, грустя, бывалые пели под баян шальное курсантское танго:
«С тихим звоном сдвинулись бокалы,
Каплю на подушку уронив,
Брошенный мужской рукой усталой,
Шлепнулся на пол презерватив.
А муж твой в далеком море
Ждет от тебя привета…»
Знали о чем поют морские бродяги, воображая себе свое уже близкое будущее…
Перед экзаменами в кубрике у всех носы в учебниках, руки в шпаргалках. Дух стоит тяжёлый от сорока парней на смятых одеялах. Никто уже не острит и не выпендривается. Толя Коханский, главный наш зубрила, вслух что-то бубнит и бубнит над сопроматом. Как китаец, честное слово. Не удивительно, что он на последнем курсе женился на нашей преподавательнице. Женщины всех возрастов таких положительных любят. На пятидесятилетие нашего выпуска в сентябре 2012-го Коханские придут вместе и под ручку. А потом, через месяц Толя уйдет… Земля ему пухом…

Одесса, 2014. Великолепная десятка ОВИМУ выпуска 1962 года и моя награда, Ленка.
Их юность только мне видна
Сквозь их седины и морщины.
Да разве знали мы тогда
Зачем мы Родине, мужчины?
Что дружбу разорвет вражда,
Погибнут города от «Града».
А мы, скучая без труда,
Лишь помолчим, усевшись рядом…
На четвертом курсе произошло три важных события. В городской библиотеке, сбежав с лекций, читал, ошеломленный, «Один день Ивана Денисовича», первую публикацию Солженицына. После дневников папиного друга, которые я читал на даче на 11-й станции Большого Фонтана, после доклада Хрущева на ХХ съезде КПСС, теперь лобовая встреча с ними, растоптанными и замученными… Кем? Партией, которая «ум, честь и совесть нашей эпохи»?!
Ощущал какую-то свою кошмарную причастность, мучительную и страшную связь времен. Нет, говорил я себе, нет! Причем здесь я? Но приснилось же! Именно тогда и приснилось, будто кто-то в форме вкладывает мне в ладонь пистолет:
– Стреляй! В затылок! Ну?!…
И я просыпаюсь в ужасе, с трясущимися руками. Неужели смог бы?…
Никогда уже, ни сейчас, ни потом не избавлюсь от ужаса перед этой слепой силой, заставляющей людей истязать и убивать просто потому, что у них работа такая. Оставшиеся в живых их жертвы не предъявили счет, не отомстили и даже не осудили, как фашистов на Нюренбергском процессе. Слышал, один плюнул в лицо своему следователю, увидев на улице. И все. Еще аукнется это российское добросердие.
Второе случившееся вскоре событие чуть не кончилось исключением из комсомола. Виной тому стал эстрадный номер на концерте самодеятельности в Пединституте, на вечере невест. Я придумал так: на табуретках были представлены предметы курсантского быта – мятые, видавшие виды, алюминиевые кружки; завязанные узлом, как мы любили, алюминиевые ложки; черные сухари – спутники вечного нашего голода. А между табуретками отплясывал сумасшедший рок наш красавец Гурген Наринян. Худое гибкое тело, обесцвеченный фартовый гюйс на плечах, форменка в обтяжку и брюки клеш на сорок сантиметров. Безумный успех, лучший номер вечера.
Но не так считали в училище. Автора готовились исключать из комсомола за «очернение курсантского быта». На заседании комитета комсомола меня спас Геннадий Охримович, добрый верзила с пятого электромеханического.
– Та шо вы к хлопцу пристали, он же хотел как лучше! – сказал он на комсомольском собрании. И все почему-то успокоились.
С Геннадием мы встретимся через много лет в Одессе, как добрые друзья. Мои дети будут играть с его внуками, а я – пить водку и слушать заслуженного работника флота, пенсионера, в каких экзотических портах мира побывал он на знаменитом лайнере «Одесса» за тридцать с лишком лет плавания. Дубленый известными мне ветрами, не согнутый годами, с неистребимым украинским акцентом, он выглядел счастливым и гордым своей жизнью.
Я буду сидеть в его с шиком обставленной трехкомнатной квартире в Новых Черемушках, такой же седой, как и он, не догадываясь, что еще через десять лет буду сочинять сценарий фильма о его капитане, моем товарище Вадиме Никитине, который сделал лайнер «Одесса» славой и гордостью советского пассажирского флота, и который за это умрет униженным и оскорбленным на капитанском мостике каботажного судёнышка на дальнем Севере…
Третье событие, это когда после персонального дела вызвали меня в Горком комсомола. Шел, думал: всё, с крантами. Но Бельтюков, крепко сбитый колобок с коротким носом, первый секретарь, окинул курсанта строгим взглядом и вдруг без всяких предисловий:
– Пойдёшь на работу в горком комсомола?
Что-то нарисовалось на моей удивленной физиономии, от чего дрогнули в улыбке его тонкие губы:
– Мы тут подумали и решили взять тебя в отдел культурно-массовой работы. Переведем на заочный, закончишь со своим курсом. Иди к Кондрашеву, он тебя посвятит в детали.
Вот это дааа… Наконец-то! Судьба сама выручала меня, избавляла от теории машин и механизмов и вела к людям. Про выбивание членских взносов и ежемесячной отчетности из первичных комсомольских организаций я, конечно, еще не знал.
Дома, однако, настоящая паника:
– Ну, что у тебя за шило в заднице? То МГУ, то комсомол! Чего тебе, плохо в мореходке? Потом локти кусать будешь, да поздно, останешься без профессии!
Мать в слезы. Отец только из рейса, он молчит. В общем, обманул я их. Тайком перевёлся на заочный и… По утрам забегал к Юрке, менял форменку на его цивильный прикид, и на работу в Горком. Начал с того, что договоривался с бригадами коммунистического труда завода Кинап о передаче им на воспитание трудных подростков. Их много было на учете в милиции, и сирот, и беспризорных. Завод увеличил лимит по несовершеннолетним, и вскоре уже мои подопечные влились в трудовую армию. Другая тема – дружинники, охрана общественного порядка на улицах силами комсомольцев, иногда в сотрудничестве с милицией. Иногда ночные рейды в районе порта.
На улицах Одессы в это время появилось много загорелых и темнокожих кубинских студентов, заполнивших наши одесские учебные заведения. Это было время кубинской революции Фиделя Кастро, сбросившей режим Батисты и установившей социализм под боком цитадели капитализма США в 1959 году. Мне было поручено развивать дружбу одесской молодежи с симпатичными кубинскими парнями. Хотя одесситок и уговаривать не приходилось. Перспектива оказаться на Кубе привлекала самых смекалистых.
Родители догадались, когда нам вдруг ни с того, ни с сего поставили домашний телефон, большую редкость в ту пору в Одессе. Но на этот раз они уже промолчали. Просто смотрели с испугом. То на меня, то на черный аппарат.
На этом адреналине и началась моя первая битва, битва за городской Дворец студентов. На Маразлиевской, возле парка Шевченко, пустовал старинный особняк под зловещей вывеской: Клуб КГБ. Что там внутри, никто не знал. Темно и тихо. Опустел клуб после ХХ съезда. А я все ходил вокруг да около: вот бы здесь и сделать студенческий центр, где бы бился пульс активности городского студенчества!
Вопрос решался на бюро горкома партии. Я держал речь, свою первую публичную речь, очень волновался и не контролировал свои эмоции. Ну, и пусть! Или меня выгонят из Горкома или майор Совик, директор клуба КГБ, сдаст партбилет за безделье. Я размахивал руками, как Ильич на броневике:
– ХХ съезд КПСС обращает внимание партии на нужды молодежи, призывает нас к гражданской активности…
Замолк и ждал приговора. И тут случилось необыкновенное. Я услышал аплодисменты. Аплодировали члены бюро. Майор не потерял свой партбилет, а трехэтажный особняк был передан студентам Одессы. 22 декабря 1960 года на 5-й студенческой конференции ВУЗов был принят «Наказ» и избрано правление Одесского Дворца студентов, а 1 января 1961 года состоялось его торжественное открытие. Этот Дворец стал нашей грандиозной победой, настоящим символом свободы и перемен, провозглашенных ХХ-м съездом.
В «Наказе» было сказано, что ОДС ставит своей целью выявление дарований студентов, создание университета общественных профессий, любительской киностудии, радиогазеты, школы танцев, изостудии, туристского клуба, организацию творческих вечеров, концертов, устных журналов, карнавалов, лекториев и диспутов на актуальные темы. Залы ОДС будут предоставляться одесским ВУЗам для проведения их массовых мероприятий. И, конечно, сюда из подвала на Малой Арнаутской переехал «Парнас-2», знаменитый уже студенческий театр миниатюр Жванецкого. Сразу начались репетиции спектакля «Главная улица». Теперь я возвращаюсь домой за полночь.

Культурно-массовая работа: комсомол на майской
демонстрации.
Сценка из эпохи немого кино стоит перед глазами и сейчас: толстяк Додик Макаревский на стуле на авансцене. Он зритель, смотрит в зал, как будто там экран. А за его спиной суетятся, фехтуют Витя Ильченко и Рома Кац, как в «Трех мушкетерах» с Дугласом Фэрбенксом. Додик то замирает от ужаса, то хохочет, то плачет, вытирая большое свое лицо клетчатым платком. За ним, в свою очередь, хохочет уже весь зал. Это был Театр и моё первое прикосновение к настоящему искусству.
Надо быть гением, чтобы выделиться на фоне одесской манеры прикалываться по любому поводу. Эту ехидную улыбочку с прищуром, которую лет через 10 – и уже навсегда – узнает вся страна, мы видели каждый день. Через несколько лет уже в Москве мы встретимся как добрые друзья и он подарит эту фотографию, которая теперь украшает мою коллекцию нечаянных автографов на солнечной стене квартиры в Лос-Анджелесе.
А Одесса уже смеялась во весь голос, сползая от смеха с кресел на пол. Жванецкий – это тонкая ирония там, где раньше был пафос и официоз. Одесситы это ловили на лету.

Михаил Жванецкий. Это он сказал: «А что смерть? Вон великие все умерли, а живут же!»
Мы беззаботно кувыркались в волнах полусвобод хрущевской оттепели. Меня тянуло к художникам не совсем идейной ориентации. Бывал в гостях у странного Олега Соколова, любовался тазом посреди комнаты, куда набиралась вода с потолка во время дождя. Догадывался, что это эстетический акт, и благоговейно молчал. На мой не заданный вопрос Олег многозначительно отвечал:
– Зато видно небо.
У меня на стене долго висели его замысловатые абстрактные миниатюры на темы «Алых парусов» Грина.
А еще мне было счастье. В Одессу залетел из Москвы на стареньких «Жигулях» автор недавно появившейся замечательной книжки «Товарищ время и товарищ искусство» Владимир Николаевич Турбин. Это книга перевернула мое легкомысленное отношение и к кино и к искусству вообще. И вдруг вот он, молодой и красивый обаятельный автор, рядом! Мы начали разговор на Дерибасовской, а закончили к вечеру уже на проспекте Ленина в Кишиневе.
«Хочешь поговорить? Тогда поехали со мной в Кишинев!»
Всю дорогу, не отрываясь от руля, он забрасывал меня замысловатыми мыслями о загадочной силе искусства, удовлетворенный эффектом, который они производили на его случайного слушателя. Это встреча окажется одной из немногих, учивших мыслить не стандартно.
Только выпускница ленинградской Академии живописи моя подруга Ира Макарова умела так же не стандартно поливать советский официоз изобретательным матом. С неподражаемым сарказмом издевалась она над моей общественной активностью.
– Что ты там делаешь в своем Горкоме? Это же абсолютно бесполезная банда бездельников! Один ты чего-то суетишься. Когда тебе уже надоест, Бенвенуто?
Это она меня так назвала – именем скульптора, ювелира и скандалиста эпохи Возрождения Бенвенуто Челлини. Я отшучивался, пропуская мимо ушей ее язвительные шуточки. Мне нравилось то, что я делал. Гомеровским гекзаметром Ира написала саркастическую оду восторженному комсомольцу. И подарила на день рождения на настоящем пергаменте, в свитке, перевязанном голубой ленточкой.
Она и ввела меня в круг одесских поэтов и художников. Олег Соколов, Юрий Егоров, Саша Ануфриев, Лёша Стрельников, поэты Юрий Михайлик, Леня Мак – где-то рядом существовал опасный мир инакомыслящих, к которым тянуло любопытного комсомольца.
Мак, культурист, увалень и философствующий поэт, был мне ближе всех. Но и он был другим. Писал непонятные стихи: «…и тихо-тихо куришь в отдушину чужой души…» Плевался при слове комсомол. В споры не вступал, просто читал свои печальные стихи. Тихим был. Но однажды на улице двое пристали к женщине. Он взял обоих за шиворот, легко приподнял и свел лбами. Аккуратно положил обмякшие тела на тротуар, и мы пошли, куда шли. Учился Лёня в политехе, где папа его заведовал кафедрой. Да не доучился. Стихи оказались важней.
В конце концов, бросил Политех, поссорился с родителями и укатил в Ленинград, где подружился с Бродским. Читал на прощанье, закрыв глаза, его стихи, от которых сладко вдруг заныло сердце. Как будто это про меня:
Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы,
идут по земле пилигримы…
В Питере нанялся Лёня в экспедицию, тюки таскать за академиком на Памире. Потому что был он штангистом, бугристым, как валуны послеледникового периода. Тогда, в горах, попала экспедиция в снежный завал. Двое суток отогревал собой тщедушного академика, снег руками раскапывал. Вытащил-таки! Академик его в благодарность перевел к себе на океанографический. Брал и в кругостветку, в морскую экспедицию. Тут его тормознули органы, ясное дело, по пятому пункту. Кому ясно, а ему нет. Друг мой выбросил свой студенческий и уехал в Воркуту изучать жизнь зэков. Там и закончил, наконец, свое образование, но уже в Горном институте. На него там смотреть ходили: он со штангой в 100 кг приседал как раз 100 раз.
Потом Одесса, грузчиком в порту, грузчиком на кондитерской фабрике. И все стихи писал. Жену взял русскую, миниатюрную статуэтку – Ирку нашу, Макарову. Не сиделось ему в Одессе. Укатил в Москву на Высшие сценарные курсы. Тарковский его сразу возьмёт в свою группу.
В Одессе пристраивал в кино Бродского, со Станиславом Говорухиным работал над сценарием «Вертикаль» с Высоцким, и писал, писал стихи. Пока его в КГБ не вызвали с подачи одного одесского поэта. Лёня на очной ставке в лицо этому поэту и плюнул смачно. Тогда его не били. Может, боялись, кабинет разнесет в щепки? Но требовали отречься от своей антисоветчины. Он там им тоже нахамил. Ну, его и выслали из страны. Развели с Иркой и выставили. Осталась Ира с двумя детьми терпеть позор и унижение от соседей.
В Нью-Йорке работал Леня таксистом, потом инженером в нефтяной компании. Зачем-то женился, пока ждал Ирку. От второго брака еще двое детей. Нужно было их кормить – стал риелтером, толкал дома в Лос-Анджелесе. Риелтер, если не дурак, это деньги. Вот и дом купил себе двухэтажный. Пришло время – развелся. Дом с прудом под балконом отдал жене и детям. Вернулся к стихам. Одинокий. Гордый. Одержим глобальными идеями и проектами. В России вышел том его стихотворений. Утверждает, что счастлив. Уже в следующем веке мы с ним будем рядом в Лос-Анджелесе доживать наши беспокойные и такие крутые жизни…
А Ирка, что ж Ирка… Дети уже выросли, переженились. Она будет жить там же, на Фаунтейн, близ русской церкви, которая и приютила ее много лет назад. Ничего американского к ней так и не прилипло. Пройдут годы, и она еще станет крестной матерью моего второго сына, Ивана, которому суждено будет родиться в Америке по время нашего полугодичного путешествия за рулем от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и обратно…

Вот он, одесский поэт и культурист Лёня Мак в Лос-Анджелесе.
Тогда, в обманные 60—е, я робел и помалкивал в их компании, стремясь вникнуть в смысл отрицания, сквозившего даже в абстрактных полотнах Олега Соколова, за дружбу с которым чуть не схлопотал выговор в личное дело. Донес бдительный коллега, инструктор Горкома Снигирев. Но влекли эти люди, тревожил их глухой, как мычание, протест. Чего-то, наверное, знали они, как и Юрка Бровкин, что не доходило до меня.
Про ОВИМУ я быстро и с удовольствием забыл. Диплом по судовым холодильным установкам мне чертила бригада добровольцев из трех студенток Водного института, и защищаться я буду вместе со своим курсом, и липовый госэкзамен по военному делу на звание младшего лейтенанта буду сдавать с ним же. Липовый, потому что посвятили товарищи в хитрую систему, которая позволяла на глазах важной государственной комиссии из Генштаба вытянуть свой билет, единственный, который надо было выучить наизусть. Ну, и выучил. Стыдно было обманывать родной Генштаб, но ведь были уверены, что эти знания никогда не пригодятся.
Потом, в завершении нашего военного «образования» была стажировка в Балаклаве под Севастополем уже на настоящих подводных лодках. Болтались по городку, встроенному в скалы, ели вкусные местные чебуреки, смотрели кино в кубрике прямо с коек. И вдруг… Боевая тревога!
Настоящим оказался поход, затянувшийся почти на месяц, в течение которого моя лодка 614-го проекта куда-то шла под водой, по ночам заряжала батареи, высунув гусиный нос из-под волн, потом замирала на заданной глубине, выполняя какие-то таинственные приказы. В это время требовалось соблюдать абсолютную тишину, казалось, было слышно, как борт царапают какие-то стальные щупальца. Было ужасно холодно, так как в целях экономии энергии отопление и освещение были отключены кроме нескольких аварийных лампочек. Команде запрещалось передвижение за пределы своих отсеков. Оставаться на боевых постах, разговаривать шёпотом, в туалет ходить по разрешению, еду получать на месте сухим пайком и в свободное от вахты время просто лежать на койках, завернувшись в суконное тонкое одеяло. От одних этих приказов было не по себе.
Домой возвращались тоже скрытно, лодка всплыла только на траверзе Балаклавы, и команда, высыпав на палубу, облегченно отливала уже в родное Черное море. На берегу мы узнали, что там, на поверхности над нами, мир в эти дни стоял на грани ядерной войны, а мы выполняли боевое задание в районе Карибского моря. Впрочем, о чем я? Это же была военная тайна. На дворе стоял октябрь 1962-го…
Так и не осознав масштабов исторической драмы, безвестным участником которой нам, курсантам – выпускникам ОВИМУ, суждено было стать, вернулся младшим лейтенантом запаса к мирным делам в комсомоле. Впрочем, не только мирным. Кто знает, что такое БСМ, бригада содействия милиции? Ну, или «легкая кавалерия». Это не отчеты и справки о членских взносах писать. Нам выдавалось оружие на ночное патрулирование на Приморском бульваре и внизу, в районе порта и Пересыпи. Наши клиенты – фарца и проститутки. Одесса город портовый, он дышит уголовщиной.
В моих советниках – бывший уголовник Володя М., асс оперативной работы. Брали с ним карманников, даже щипачей, только тяжкий труд домушников уже не нашего ума дело. Володя как-то спас меня. Передали ему, будто вечером будут меня ждать заказанные люди в подъезде с железной трубой. Ночевал у Юрки, а трубу потом видел, валялась неподалеку.
Алла, Аленушка, проститутка четырнадцати лет от роду, глуха к моим искренним, желающим ей добра нравоучениям. Алые пухлые губы, синие глаза под светлой непослушной чёлкой:
– Что ты меня уговариваешь? Где твоё счастье – в будущем? А моё – здесь, сейчас. Я только выйду на шоссе под Ялтой, как первая же машина распахнёт дверцу, и начнётся такая жизнь, которой ты и не видывал, комсомолец: ноги целуют, магазины, рестораны, отели, курорт круглый год. Дай же хоть чуть-чуть пожить, не терзай душу!
И умолкну я после этих взрослых слов, сникнет пафос строителя коммунизма перед голой, бесхитростной правдой ее жизни. В камере предварительного заключения, где она будет ждать отправки в детдом, мы встретимся еще раз. Я приеду, и она уткнется носом мне в грудь и тихо заплачет. И все. Больше я ее не увижу. Никогда.
И все же главное – Дворец студентов. Как тяжелые волны, бились страждущие толпы в тяжёлые дубовые двери на концерты и танцы. Популярной стала библиотека, где собиралась литературная молодежь, потом возникла даже студия, состоявшая из разных поэтов от Леонида Заславского, Бориса Вайна, до Лёни Мака и Юрия Михайлика, которых уже после моего отъезда рассорит навсегда какая-то неприятная история.
Официальная поэзия, представленная в городе-герое поэтом старшего поколения Виктором Бершадским, здесь отсутствовала. Зато появился новый жанр – дискуссионный клуб, и о дискуссиях тут же отозвался Жванецкий хлесткой миниатюрой. Здесь ставились студенческие капустники, выступал симфоджаз Евгения Болотинского, зарождалась команда одесского КВН.
В уютном полумраке нашего фойе с диванами я впервые услышал грустный «Последний троллейбус», открывший что-то человечное, дремавшее где-то глубоко в душе под гимнами и маршами. Весенним ветром из Москвы занесет к нам и самого Булата Окуджаву. Тогда, организуя его концерты, я смотрел на притихший зал, и, может быть, впервые чувствовал что-то более глубокое и важное, чем светлое будущее, за которое отчаянно билась с невидимым врагом наша великая держава.
А еще была у нас изостудия, которую как-то по особому вела Зоя Ивницкая, жена главного художника Русского драмтеатра Михаила Ивницкого. Про эту студию отдельный рассказ. Валерий Цымбал, студент политеха влюбился в очаровательную, тихую и застенчивую Зою. Она была не только женой известного в Одессе художника, но и старше Валерки чуть ли не на двадцать лет. В ужасе метались его партийные родители:
– Игорь, вы должны с этим что-то сделать! Это же аморально!
А Валера пер на меня и стучал кулаками в грудь:
– Стари-и-к, я теряю сознания от счастья, как они не понимают? Что где? В постели, конечно! Скажи им, чтобы они от нее отстали, а то я сделаю с собой что-то ужасное.
Зоя мне доверяла:
– Никто ничего не понимает, это моя последняя любовь. Я нужна ему, как никто. Это наше счастье.
Валера виртуозно шил себе брюки. И они действительно влито сидели на его тонкой фигурке. Мама с папой – обкомовские работники, а он себе шил брюки. Зоя что-то в нем поняла и подготовила его к поступлению в знаменитое ленинградское Мухинское училище, на факультет театрального художника. Да еще на курс к Акимову. Со второго курса его забрили в армию, так как в Мухинском не было военной кафедры.
Через полгода он приехал на побывку в Одессу и уговорил Лёню, поэта и культуриста, сделать ему сотрясение мозга. Эта гора мышц взяла его за голову, нагнула и двинула об трамвайные рельсы лбом. Не знаю, сильно ли, но две недели в больнице художник пролежал. И добился своего. Его комиссовали. Он вернулся в Питер доучиваться. Доучился. Халтурил в Худфонде, оформляя доски почёта в колхозах и совхозах Ленинградской области.
Иркутский драмтеатр пригласил его художником. Руки у него оказались золотыми: он изумительно делал театральные макеты, мельчайшие детали. Успел жениться на однокурснице, она родила ему чудную девочку. Уже в перестройку они оба улетят в Нью-Йорк. В Лос-Анджелесе после смерти мужа окажется и его Зоя. Зоя напишет прекрасную добрую книгу про театрально-художественную Одессу, посвятит ее своему покойному мужу Михаилу Ивницкому и умрет в 92 года в своей маленькой квартирке в Вест Голливуде среди друзей и учеников…
А Валера будет шить на заказ костюмы для олимпийских чемпионов, бывших советских танцоров на льду в подслеповатой комнате, окно которой выходит на знаменитую брайтонскую деревянную набережную, виднеющуюся в узкую щель между грязными стенами каменных громад. Полгода шьет, полгода пьет. Язык так и не выучит, компьютер возненавидит. Верная жена Мила будет подрабатывать социальным работником, ухаживать за пожилыми американцами. Как государственная служащий, она получит на себя и мужа медицинскую страховку. Это многое значит в Америке. О чем мечтаешь теперь, Валера?

Я забреду к ним на Брайтон Бич спустя каких-то 50 лет…
– Стари – и—к! Как только получим паспорта – сразу домой, в Питер. Не хрен здесь делать без языка и работы.
– А зачем же паспорта ждать?
– Ты чо? А вдруг операция? Я что, ее в России буду делать?
Но этот разговор случится уже в другом веке. И в другой стране. Между пожилыми людьми. А потом Валера вернется в Питер и там скончается, так и не увидев перед смертью свою первую безумную любовь…
Кто бывал на Дерибасовской, знает кафе «Алые паруса». Мы дали обычному учреждению общепита это гриновское имя и убедили Горком партии освободить первое в стране молодежное кафе от пресловутого финплана. Освободили! И так теперь получилось, что по одной стороне Дерибасовской утюжили тротуары бичи, портовая Одесса, а на другой стороне, на углу Екатерининской в «Алых парусах» собиралась творческая молодежь вроде неуёмного Даниила Шаца, драматурга и заводилы. Он, никогда не видавший заграницы, так описывал Париж, его бульвары и улицы, кафе и музеи, что становилось как-то неловко за советскую власть. Вот с кем всегда было о чем поговорить…
Одессу в те годы любили навещать московские журналисты, писавшие об одесской вольнице. Одним из них был Александр Асаркан, легендарный корреспондент «Литературной газеты». Тогда я еще не знал о его гулаговском прошлом, но чувствовал какую-то драму в его отношении к людям и к жизни. Элегантно циничный, равнодушный к еде и одежде, без возраста и столичного лоска, он открыл нам «Современник» и «Таганку», а о кино говорил, как о высоком искусстве, чем-то напоминая Владимира Николаевича Турбина, совсем недавно прочищавшим мои мозги по дороге из Одессы в Кишинев.
Он будет писать мне из Москвы на разрисованных вручную открытках. А во время Первого Всемирного Форума молодежи вытащит в Москву, приютит в своей каморке темной коммунальной квартиры в Замоскворечье, а кофе пить приведет в Артистическое кафе, что в проезде Художественного театра. С ним всюду пускали, и мы сидели рядом с Олегом Табаковым, Игорем Квашой, Татьяной Дорониной, Олегом Ефремовым. Он о чем-то их расспрашивал, а они, в свою очередь, бесцеремонно рассматривали его спутника в морской форме.
Был среди них и шутник, студент института восточных языков Игорь Ицков, который зарабатывал тем, что на коленке сочинял какую то халтуру на антиколониальные темы, и продавал её как переводы стихов своих сокурсников из Азии и Африки. Поразил тогда меня его веселый цинизм, да и вся эта атмосфера насмешливого отношения к вещам для меня все еще серьезным.

Явление свободы в таком преобразовании казенных открыток
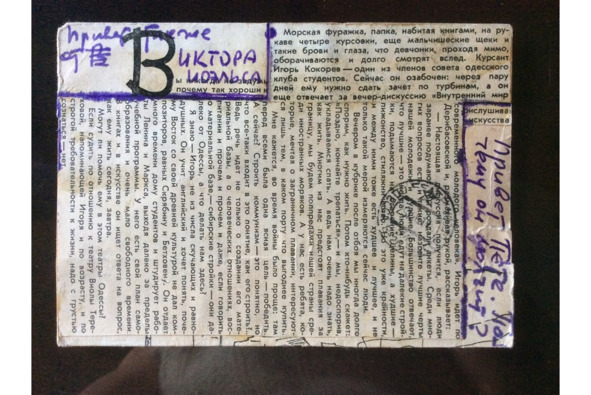
Вот она, та статья Володи Белова… Фрагмент. Но самый лестный.
Володя Белов, московский обозреватель журнала «Театр», ловивший в одесском театральном сезоне пульс свободы, пытал меня с журналистским пристрастием пока мы бродили с ним по весенней Дерибасовской, Пушкинской, по Приморскому бульвару.
Кусок той статьи Володи об Одессе в журнале «Театр» пришлет мне не сам автор, а Асаркан, причем тем же оригинальным способом – наклеенную на почтовой открытке. Из нее я узнал, «что девчонки, проходя мимо, оборачиваются и долго смотрят вслед», а также, что я «не из числа скучающих и равнодушных». Что правда, то правда. Журнал «Театр» мне в руки не попался, а открытка сохранилась на всю жизнь.
А Володя отправит в Одессу Аду, свою воспитанницу. Попросит показать ей мою Одессу. Написал: «Она о тебе уже знает».
Красивая, успел отметить я, а она усмехнулась, заметив оценивающий взгляд, и сказала:
– Володя утверждал, что ты заблудившийся романтик революции.
Ада оказалась внучкой Сергея Лазо, и я теперь смотрел на нее, живого потомка героя гражданской войны с восторгом и боялся прикоснуться. А что она думала тогда обо мне, когда мы катились с ней кубарем по крутому склону Отрады к пляжам? Может быть, мелькнул где-то образ комиссара в сером шлеме? Я тогда еще бредил революцией.
Не знаю, знала ли она о том, что через 8 месяцев после ХХ съезда советские танки вошли в Будапешт? Я не знал. Осенью 1956 года Хрущев жестоко подавил венгерскую революцию против сталинского режима установленного там после победы над фашистской Германией. Не знал я, как и все в Одессе, и о жестоком расстреле рабочих по приказу Хрущева в Новочеркасске в ответ на повышение цен в 1962 году. Потому и оставался наследником комиссаров из песни Окуджавы.
Спустя годы мы снова встретимся, уже в Москве, во ВГИКе. Ада станет сценаристкой и женой режиссера. Мы будем общаться по профессии и так просто. И почему-то никогда не вспоминать о том лете в Одессе.
Оно, кстати, было и последним в моей одесской комсомольской карьере, которая оказалась короткой. Хорошо, выговора не схлопотал за свои инициативы, но в партию меня тогда так и не приняли. Не той крови…
Единственный из аппаратчиков, кто сочувственно, с пониманием относился ко мне, был зав. отделом идеологии Петр Кондрашов, человек внимательный, умный, осторожный. Я всегда приходил сначала к нему с очередной идеей за одобрением. Он задумчиво спрашивал:
– Когда ты угомонишься, Кокарев?
Годы спустя мелькнет Петр в Москве, в высшей партийной школе. И исчезнет. Я думаю, по спецзаданию партии где-нибудь в Латинской Америке. Или в Африке.
– Слушай, ты знаешь, что Снигирев телегу на тебя накатал Бельтюкову? – спросила как-то меня Люба, пышнотелая наша смешливая секретарша. Она недавно родила, и ее соски сочились мокрыми пятнами через платье.
Я отвел глаза:
– За что, спрашивается?
– А за то, что ты ни разу не был в первичных организациях, ни на одном заводе.
– Так они у меня все здесь, в Горкоме почти каждый вечер! Что мне делать на заводе?
– Ну, смотри. Как знаешь. – И она все-таки прижалась ко мне своей плотной, выпирающей грудью. А кляузу липкого, как Урия Гип, Снигирева, она куда-то затеряла, не дошла телега до Бельтюкова.
Я чувствовал, что меня как-то прикрывал и пенсионер-чекист из комиссии старых большевиков в горкоме партии. После того бюро, когда мы отбивали здание для Дворца студентов, он иногда тормозил меня в обкомовской столовой и, внимательно глядя из-под нависших седых бровей, спрашивал:
– Как, моряк, борьба с мировым злом продолжается?
Михаил Карлович Волховышский. Кто его знает, что скрывал он в своем прошлом, но ко мне Волховышский присматривался, видимо, чтобы убедиться, что они делали все правильно, и мы продолжим их дело. Ага.
Бурлила Одесса 60—х молодым задором Дерибасовской, Ланжерона и Аркадии, веселилась в подвальчике у «Бабы Ути», шумно встречала возвращавшуюся с путины китобойную флотилию «Слава», звучала мелодиями Дунаевского из «Белой акации» в исполнении любимца публики Водяного, радовалась победам футболистов «Черноморца», атаковала иностранных туристов прилипалами-фарцовщиками. Позже назовут нас поколением хрущевской оттепели, шестидесятниками, детьми ХХ съезда, хотя настоящие шестидесятники были все же там, в Москве, они понимали свое значение. Или в Питере в среде рокеров и завсегдатаев знаменитого «Сайгона». У нас все было скромней и естественней.
Так же бесцеремонно, как выслали из страны строптивого поэта Лёню Мака, так секретарь обкома КПСС Синица, проходя мимо «Алых парусов» и услышав рок-н-ролл, запретил это безобразие лично. Осталось от парусов одно название.
В одесском горкоме приоткрылись мне тайные пружины советской партийной власти. Банкеты на весь рабочий день в рыбацких совхозах Отрады и Люсдорфа в так называемых инспекционных поездках с милицейским начальством неприятно поражали. Столы, накрытые на свежем воздухе, полны деликатесов. Коньяк, водка – вина не жаловали, дамский напиток. Нас льстиво поит и кормит местное начальство. Знак уважения или дань? Жду разговоров о деле, о цели приезда. Что-то не слышно. Так в чем суть «инспекции»? Впервые тогда где-то внутри шевельнулось подозрение, что тут что-то не так. И уже не мог избавиться от неловкости за избыточность привилегий и благ, недоступных тем, кому мы обязаны служить.
У меня на столе тоненькая книжечка – телефонный справочник для служебного пользования с именами и отчествами должностных лиц в Горисполкоме, Горкоме партии, Горздравотделе, ГОРОНО, Жилищно-коммунальном хозяйстве, милиции. Волшебная книжка для тех, кто принимает решения в городе. Эти имена известны только нам и только мы можем решать важные вопросы телефонным звонком. Это и есть так называемое телефонное право, применяемое вместо закона. И все бумаги на моем столе секретны, для служебного пользования. И осторожность, как бы чего не ляпнуть, неписаные правила. Какие? Почему? Есть, что скрывать?
Тайна власти упорно ускользает от меня. Не понять, какими путями эти посредственности с дурным характером становятся властью над нами. Они и крутят ее шестеренки, выполняя команды, спущенные откуда-то свыше, не то из Киева, не то из самой Москвы.
А заседания бюро горкома партии, больше похожие на инквизицию? Сидят по обе стороны длинного стола члены бюро, только что не в мантиях, судят чем-то провинившихся. И теряли сознание здоровенные мужики, лишенные партбилетов. Знали дальнейшее…
Проходная сила спецпропусков в страну номенклатурного всемогущества и изобилия спецбуфетов, гробовая тишина коридоров Обкома в красных дорожках, служебные машины и тринадцатая зарплата с путевкой в санаторий Четвертого управления, и услужливость, подобострастие всей чиновничьей рати. Как, когда, почему это все выстроилось в систему, прочную, как небесный свод?
Чем больше задумывался, тем чаще мерещилось, будто власть это встроенная в общество тайная сила, убедившая нас в своем праве распоряжаться нашей жизнью, даже жертвовать ею по ее, власти, усмотрению. О, эта сладкая, полная скрытых привилегий жизнь египетских жрецов, надувающих щёки… И я здесь был, мед-пиво пил. полагая, что участвую в приближении светлого будущего.
Но сколько веревочке не виться… Это случилось в Горкоме партии. В огромный кабинет первого секретаря по фамилии Лисица я ввалился прямо с поезда, с фибровым спортивным чемоданчиком в трикотажных рейтузах-трениках с пузырями на коленках. Спешил поделиться со старшим товарищем важными мыслями о необычном Днепропетровском Дворце культуры, откуда можно много взять и нам и заодно добиться увеличения бюджета Одесского Дворца студентов для новых молодежных программ по типу днепропетровских.
И вдруг из глубины своего необъятного стола с телефонами, оглядел Лисица меня гнойным взглядом, как обыскал с ног до головы, и цыкнул, подавшись вперед, как на шавку:
– Куда пришел в таком виде, сопляк? Это Горком партии, а не Привоз. А ну, вон отсюда!
Несколько секунд я стоял, не шелохнувшись, пока доходило, горячая краска заливала лицо и шею. Не нашелся, что ответить и ушёл, пятясь, тихо притворив за собой тяжёлую дверь, не смея взглянуть на секретаршу. Думала ли эта лисица, что убивает сейчас человека, которого хотела вырастить и таки вырастила его партия? Я верил картине Серова «Ходоки у Ленина». До этого дня.
Цинизм кучки посредственностей, создавших свой остров изобилия в море всеобщей нужды и унылой покорности, не хотелось переносить на всю партию. Наверное, мне попались не те коммунисты. Пройдет целая вечность, пока жизнь своими жерновами перемелет зерна веры-идеологии в муку сомнений, и горький вывод большого русского писателя Виктора Астафьева: «Власть всегда бессердечна, всегда предательски постыдна, всегда безнравственна…» станет горбушкой хлеба, что испечется из той муки… И жевать мне ту горбушку и жевать, пока мы не сделаем того, что давно получилось у людей во всем Западном мире: поставим эту власть под контроль.
Через полвека, когда уже независимая Украина захочет вступить в Европейский Союз, этот бывший Обком КПСС станет известной на весь мир западней, куда спрячутся после неудачного нападения с битами на толпу одесских футбольных болельщиков засланцы, какие-то сепаратисты. Они не разбегутся в разные стороны, а направляемые кем-то добегут и закроются в пятиэтажном огромном здании, как в крепости. И будут бросать с крыши заготовленные коктейли Молотова, в преследовавшую их толпу. Пока в здании не вспыхнет как бы сам собой пожар. Погибнут десятки людей, потому что ни милиции, ни пожарников рядом не оказалось.
А официальная Москва использует эту провокацию как доказательство зверств украинских фашистов и бандеровцев… Но я-то видел, как это все начиналось на Соборной площади и чем кончилось аж у вокзала. Видел в режиме реального времени на многочисленных видео очевидцев с места событий.
Прошла молодость, а с ней и краткие шестидесятые. Нет уже кафе на Дерибасовской угол Екатерининской с чудным названием «Алые паруса». Нет и Горкома в той каменной громаде у железнодорожного вокзала. И двор, где родился, кажется маленьким, едва вмещающим воспоминания… Но тянет туда занозистая память, живет в далеком уголке души свободный дух оттепельных скоротечных лет.
Брожу по Одессе, ласкаюсь к камням…
Да здесь я, да здесь я! – шепчу я ветвям.
Бреду, спотыкаясь о мягкий асфальт…
Мой голос не тенор, не бас и не альт,
Мой голос… Пусть стены услышат мольбу! —
Я жить без тебя не могу, не могу!
Глава 2. Прости, батя
…Итак, моя политическая карьера завершилась вопреки страхам родителей быстро и мирно. В одной руке диплом инженера-механика судовых силовых установок, в другой – заявление об уходе:
«Прошу направить на работу по специальности.» Какая смелость. Надеюсь, мотористом я особой опасности для безопасности судна не представляю.
Бельтюков подписал заявление, кажется, тоже с облегчением. На его круглом лице ничего не отразилось. Так расстаются с ненужными вещами. Потом я сдал их волшебную красную корочку – удостоверение инструктора Горкома комсомола, вспомнив напоследок, как оно работало.
Дело было в Москве, на Зубовской, где сестра приютила меня на несколько дней командировки. Из этого ветхого деревянного строения забрала меня милиция за избиение ее ревнивого мужа. Не бил я его, конечно. Просто когда увидел замахнувшуюся на сестру руку, поднял его за воротник и выбросил в закрытую дверь. Дверь выпала вместе с ним на улицу. Тщедушный орал, рвал на себе одежду и звал милицию.
У меня забрали паспорт, уволокли в отделение, сунули в клетку, как бродягу без прописки. Очнувшись, я на всякий случай показал дежурному через решетку мое удостоверение Одесского Горкома. Дежурный уставился на красные корочки, заморгал всеми глазами:
– Так что ж вы сразу не сказали, Игорь Евгеньевич?
И все сразу изменилось. Меня с извинениями доставили обратно к сестре, а в камеру затолкали его, психа трусливого. Так ему и надо, думал я, но сестра задала мне еще ту трепку. Тут волшебный мой документ не помог…
Ладно, обойдусь как-нибудь. Главное, я кое-что узнал в этой жизни, чего не ведают другие. Пригодится.
На пассажирском лайнере «Литва» буду ишачить мотористом, зарабатывать стаж для рабочего диплома механика. В пропахшем горячим маслом машинном отделении время меряется не днями и ночами, а вахтами по четыре через восемь. А недосягаемая соотечественникам и всегда почему-то солнечная и теплая заграница открывается урывками и издалека, когда мы носимся в пятерке таких же охотников за шмотками по дешевым магазинам специально для советских моряков. На остальное ни времени, ни разрешения. Известны и места на борту, где прятать от таможни контрабанду – модные плавки, отрезы, шариковые ручки, блузки на продажу. Если свой не заложит, за короткий двухнедельный рейс можно годовую зарплату перекрыть. Моряки загранплавания вообще были обеспеченными людьми в Одессе.
«Литва» ходила короткими рейсами по портам Средиземного моря: ночью – переход, днем – стоянка. Стамбул с запахами жареной рыбы на причалах, Латакия с солнечными длинными пляжами, Хайфа с ее висячими садами, шумная Александрия с египетской экзотикой, золотой Бейрут с уличными базарами, Фамагуста с легендарным замком Отелло, древние Афины, зеленоводый Дубровник с крепостной стеной и прозрачными бухтами – что успевает увидеть человек, носящийся с высунутым языком по давно известным адресам?
«Литва» германской постройки, кстати, тоже заграница: немецкая мебель салонов, полумрак баров с иностранными бутылками, голубой бассейн, сауна, импортная музыка, не говорящие по-русски блондинки в шезлонгах. Пожилых глаз как-то не замечал, болезнь юности. Вокруг все новенькое блестит чистотой и медью, пока не свинтит дверные ручки, краны, унесет туалетную бумагу, посуду, бокалы советский турист на внутренних рейсах. Тогда ободранное судно поплетется в Болгарию на ремонт, зализывать раны… По весне – все сначала.
В Средиземном море жарко, в малюсеньких четырехместных каютах без кондиционера делать нечего, только спать. Спим на двухъярусных койках, завернувшись в смоченные под краном простыни. Успеть заснуть, пока они не высохли. Проснулся, и сразу вон из душегубки в рай на палубы к бассейну. Туристы в городе, можно загорать.
Моя вахта «собачья», с 4-х ночи до 8-ми утра. Отстоишь, примешь душ, поспишь до 12, и гуляй до 4-х дня. После обеда снова в машину до 8-ми вечера. Потом душ, ужин с командой, и вечер твой. Не очень засвечиваясь, проникаешь в бары, и жадные до приключений одинокие пассажирки отдаются прямо в танце.
Года хватило, чтобы одуреть от этого разврата. В отделе кадров удивились, но просьбу удовлетворили и отправили на танкера. В Хиросиме, на верфи Мицубиси вскоре уже ползал под пайолами только что выстроенного для СССР танкера серии «Л» – «Луганск». Всюду автоматика и лабораторная чистота. Гигант в 64 тысячи тонн дедвейт, это водоизмещение. Два главных двигателя в 20 тысяч лошадей и два огромных винта дают до 32-х узлов, это 60 км в час. Акулы не угонятся. Длина корпуса – 217 метров, по палубе можно на мотоцикле гонять. Лифт – на восемь палуб. У каждого члена экипажа каюта с иллюминатором, с душем и кондиционером. На верхней палубе бассейн, волейбольная площадка, настольный теннис, гири, штанга.
На пишущей машинке, выделенной приятелем старпомом, запоминаю впечатления от Страны Восходящего солнца, о девушках из Нагасаки, про которых сочинила нам песню Вера Инбер. Готовился увидеть искалеченную страну, выжившую после американской атомной бомбардировки. Но следов ее не нашел. Хотя прошло меньше двадцати лет. Американская музыка в барах, английская речь на улицах. Быстро заживают раны в стране Восходящего солнца.
Жизнь японской улицы казалась какой-то скороговоркой. Несутся мелкие люди дружно толпами из метро на работу, не шумят. В полдень в сотнях окон поднятые вверх руки – это обязательная физзарядка. И опять за работу тишина. Работа для них – святое дело. Это не про нас с нашими перекурами. После 6 вечера выбегают в рассыпную из всех дверей. Как насосом, их всасывают дыры метро. Четкий ритм этого огромного организма поражает. Вот нам бы такой народ, жили б уже в коммунизме. Только жить в таком не захочется.
Лучи осеннего японского солнца ласкают чистую кожу. Бассейн маленький, но глубокий. А слабо ласточкой с вентиляционной трубы? Высота метра три, глубина бассейна – два. Вхожу в воду почти плашмя, руками успеваю оттолкнуться от дна. Никто повторить не решался. И хорошо. Кому нужны сломанные шеи?
Второй помощник капитана, однокашник Валера Борисов хвастается покупками:
– Смотри, чем комсостав подтирается!
Впервые вижу рулоны нежнейшей туалетной бумаги. Интересно, а куда они газеты девают? Играем на спор партию в настольный теннис. Я ставлю комплект пластинок Поля Анка. Он – рулоны. Проигрываю.
– Заходи, дам подтереться.
Дружно жили, весело.
Наконец, прошли ходовые испытания. Прилетела из Москвы остальная команда, всего нас теперь 57 человек. Капитан подписал документ о приемке, и «Луганск» взял курс на Сингапур. Прощай, Япония! Каждый везет сбереженную валюту до Сингапура. Там, говорят бывалые, есть знаменитый «малай базар». Сингапур, город без тени, солнце в зените, жара за сорок – уже на траверзе. Бросили якорь. Стали на рейде.
И вдруг… Радист принял экстренное сообщение: сегодня, 22 ноября 1963 года в Америке убит президент! Убит Джон Кеннеди. Задержан убийца – Ли Харви Освальд, говорят, американец, подготовленный в СССР. Нас не выпускают с рейда, капитан со старпомом таможенным катером доставлены в полицию. А мы тут при чем? Бред какой-то. Ну, сбросить атомную бомбу, это мы можем, это понятно. Но убить президента? Мы же не дикари какие-то!
Тем временем наше судно атакует тот самый «малай-базар». Как пиявки, присасываются к бортам десятки джонок, летят вверх из них стальные крюки, цепляются на фальшборт. И по шкотам быстро карабкаются и лезут на палубу, не обращая никакого внимания на нас, темнокожие проворные малайцы. Быстро-быстро теми же крюками втаскивают тюки с товарами. Так же молча и шустро огораживают свои делянки, разбрасывают прямо на палубе плавки, майки, рубашки, джинсы, пестрые женские кофточки, обувь. И уже идет бойкая торговля. Я стою, раскрыв рот.
Наглый малаец сует мне колоду карт:
– Гоу, – говорит, – туалет!
Кому туалет? Зачем в туалет? Мельком вижу – это порно картинки, они жгут руки, стыдно глаза поднять. Бросаю их прямо на тряпки. А по трапу уже поднимаются живьем они, юность планеты. Идут, играя бедрами, навстречу нашим жадным взглядам. Ой, что делать?
– Каюта? туалет? Мне очень нужно, сэр! – передо мной длинноногое, открытое любви загорелое тело. Оливковые ее глаза насмешливо смотрят прямо в душу.
Опять? Дался им этот туалет! К себе? В каюту? Как вести себя в подобных случаях, ччерт!! Ну, впущу, а дальше? Что с ней делать? Даже угостить нечем…
Сигнал громкой связи выводит из ступора:
– Внимание экипажа! Всем свободным от вахты выдворить шлюх с судна!
И вот они уже дисциплинировано спускаются по трапу, всем своим видом показывая, чего мы лишились.
– Russian оnanist! – я уже слышал эти обидные выкрики от европейских красоток вдоль узкого Кильского канала в Балтийское море. Мы единственные во всем мире, кому не разрешены их соблазнительные услуги. Но онанизмом мы не занимались, как ни странно. Кто-то говорил, судовой врач бром в компот подливал…
Командование вскоре вернулось на борт. Войны, кажется, не будет. Шипшандер уже доставил на борт запасы продуктов, палубная команда подняла якоря, и «Луганск» взял курс на Южную Америку. Плывет стальная громадина, не тонут ее шестьдесят четыре тысячи тонн, как ни странно. А вокруг океан до горизонта и такое же, без границ, синее небо. В Атлантике погода штилевая, идем ходко, 23 узла. Это под сорок км в час, как авто. Только белый буран за кормой. В машинном отделении прохладно, кондиционер работает бесшумно. На приборах трепещет стрелками напряженная жизнь судового сердца. Делать на вахте нечего.
Стакан рислинга после обеда (положено на экваторе!) и загорай до вахты, думай о смысле жизни, готовься в аспирантуру… Только учебники, захваченные с собой в рейс, валяются не открытыми. Здесь мы другие. Аргонавты мы. С виду нормальные граждане, а на деле аргонавты, сшивающие своими кругосветками, как пенистыми нитками города и страны. Туда-сюда, стежки такие белые за кормой. Но след исчез, и нитка порвалась. Не всякий годен для такого. Постепенно истлеют и порвутся связи с прошлой береговой жизнью, забудутся увлечения, вычеркнут тебя из телефонного списка твои знакомые, перестанут ждать близкие, а когда вдруг вернешься, и разговаривать будет не о чем.
Большой мир где-то там, а ты, загорелый и просоленный, появишься мельком на берегу, набросишься на эту ускользающую от тебя жизнь, припадешь к ней, как умирающий от жажды к источнику, напьешься, промотаешь зарплату и… отвалишься снова в море! А если задержишься, будешь томиться на берегу, даже заболеешь, выбитый из привычной колеи судового расписания, не зная, как жить иначе, чем по четыре через восемь…
Бразилия началась с того, что ночью на рейде у порта Сантос нас ограбили. Пока перекачивали нефть бортом к борту в маленький местный танкерок, поднимая осадку для входа в мелководье, шустрые бразильцы забрались в наши спасательные мотоботы и обобрали их под чистую. Капитан махнул рукой: ладно, чего мелочиться? Братская помощь третьему миру.
Солнце встало, и сквозь золотистый туман показалась мечта Остапа Бендера. Пришли в порт узким проливом, по обе стороны зеленые болота, наверное, с крокодилами? Открылся грязный порт, пакгаузы, краны. Пришвартовались среди таких же танкеров. Первая партия счастливчиков сразу рванула в увольнительную, вон они уже на трапе, нарядные, хрустят долларами в карманах.
А мы пока на вахте. Открыли стальные двери в боках гигантских цилиндров, полезли в еще не остывшую их утробу с железным шкребком – сдирать жирный чёрный нагар на раскаленном металле. В телогрейке, с ушанкой нахлобученной по самые брови, с фонарём на поясе и со шкотом, привязанном к щиколотке, ныряю в пекло. Веревка, это чтобы вытащили, когда сознание потеряешь. Выдержать можно минуты три, не больше. Вытянут, окунёшь голову в ведро с холодной водой, ушанку на уши, и обратно.
Но пришла, наконец, и наша очередь в увольнительную. Отмылись под душем. Мыло копоть не берет, только едкий антинакипин, от которого вылезают волосы. Но зато отмывает, оставляя только черные ободки вокруг глаз.
Вдохни этот маслянистый воздух, пропахший кофейными зернами, загадай желание. Чего ты хочешь, молодой, здоровый, полный сил? Чего хочешь, парень? Вот ты и в Бразилии, на краю Ойкумены, трясешься в открытом трамвайчике без стен из порта Сантос куда-то в центр иной цивилизации. Может быть здесь откроется, наконец, тебе тайный смысл твоего человеческого бытия?
Он, правда, скорее закроется, когда два веселых смуглых парня на центральной площади в Сан-Пауло, по-братски похлопывая меня по плечу, вытащат из заднего кармана кошелек с тремя тысячами долларов, всю зарплату за почти год заграничного плавания.
В другой раз в моей пятерке (по одному не пускали) оказался Вася, кок судовой, бывалый моряк. Он и повел нас сразу, куда надо. А именно в аптеку, спирт покупать.
– Чудак, а где же ещё по такой цене, дешевле семечек?
Хозяин аптеки долго не врубался, чего хотят эти иностранцы. Потом принес запылённую бутылку. Вася узнал, обрадовался, как ребенок. Давай, говорит, пусть стакан принесет.
Хозяин удивился:
– Зачем стакан? Вот тряпочка.
– Зачем тряпочка? Пусть стакан.
– Но у нас спиртом лошадей протирают.
– А у нас желудок полируют. Скажи ему.
Я не знал, как это перевести, но хозяин уже догадался сам. Шмыгнул в заднюю дверь, прибежали мать и дочь, стоят втроем, таращатся. А Вася свинтил крышку, налил в стакан и просто слил 200 грамм в горло. Обтерся рукавом и сказал хозяину:
– Давай ящик, 12 бутылок!
– И мне, и мне! – загалдела наша пятерка.
Аптекарь допытывался, кто мы, откуда. На слово «русские» никак не реагировал. Такая глушь, эта Бразилия! Только имя Терешковой пробудило что-то в его сознании:
– А-а-а, коммунисты!..
Пока мы по очереди прикладывались к «лошадиной жидкости», обалдевший хозяин помчался на машине за товаром. Смотрим, возвращается, а за ним толпа. Любопытные. Как дикари, честное слово. Ну, мы им показали. Затем грузили ящики в его машину и медленно поплыли в порт. Куда спешить? За нами процессия, поют, танцуют. Карнавал какой-то устроили из серьёзного дела. У проходной довольный аптекарь вручил нам каждому по мешочку бразильского кофе.
Но тут случился конфуз. Оказывается, вывозить из Бразилии кофе мешками нельзя.
– Маленькими же!
– Not allowed, sir. Все равно нельзя!
Темнят бразильцы чего-то. Но Вася опять всех выручил. Достал припасенные мерзавчики «Столичной» и вручил с краткой, но выразительной речью таможенникам. Те сразу как будто поняли, и ворота открылись. Но на трапе уже нас ждал помполит:
– Ящики ставим вот сюда. Вахтенный, отнести это добро в баталерку. Ключ мне. Дома получите!
Что ж, целей будут. Этим спиртом я буду спаивать Ленинградский комсомол, который полюбит ходить в гости к вернувшейся на родину из дальнего рейса команде… Тогда и возникнет человек из ЦК ВЛКСМ Вадим Чурбанов, которому суждено будет развернуть мою жизнь на 180 градусов. Но это еще впереди, в будущем, которое надвигалось как бы само собой, никого не спрашивая и не перед кем не отчитываясь.
Пока берем в Сантосе сырую нефть и идем на Кубу. Снова океан и огромный гриф, тяжело опустившийся на теплую палубу. Сидел, нахохлившись, спрятав стальной клюв свой, пока кок не вынес ему кусище сырого мяса на лопате. Мясо сглотнула птица мгновенно, а следующим ударом клюва перебила черенок лопаты и, лениво расправив гигантские черные крылья, улетела куда-то в сторону невидимого берега.
Под Кубой, у американской военной базы Гуантанамо настиг нас ураган «Флора». Вдруг при полном штиле и ярком солнце перед самым носом «Луганска» стеной встал океан. И ушел наш танкер в гигантскую волну, закрывшую небо, как подводная лодка. Надрывались дизеля, оттягивая киль огромного танкера от рифов.
Течь обнаружилась в кормовом отсеке, где гребной вал. Я как раз на вахте. Значит, мне в рыло водолазный костюм, ключи, набивку для пробитого водой сальника, и пошел! Бьет струя в маску, вырывает из рук пропитанный солидолом фитиль, но конопачу, закрываю течь миллиметр за миллиметром. Сделано. И снова в машинное отделение – мотаться вслед за качкой от одной бортовой переборки к другой, следить за приборами. Вахта кончилась, но сменщика нет, он блюет, принайтованный тремя ремнями к койке. А танкер медленно, но неумолимо несет на рифы Острова Свободы.
Завис над нами американский военный вертолет. Пилоты уже сбросили веревочный трап:
– Давай, русские, спасайся!
Но команды спасаться не было. Ураган ушел сам, как и пришел – внезапно, покрыв Сантъяго де Куба толстым слоем желтого ила, из которого торчали лишь верхушки деревьев и трубы. Нефть быстро откачали, тут же начали мыть танки, отмывали, драили, сушили огромные ёмкости. После этого «Луганск» загрузили кубинским сахаром, и почапали мы домой.
И тут навалилась непрошеная, незаметно копившаяся тоска: мелькают экзотические миры с их недоступными языками, где-то ворочаются маховики истории, приближая светлое будущее, а я ни при чем, в бескрайнем океане ишачу, сырую нефть туда-сюда. И так всю жизнь? Лежу после вахты на теплой соленой палубе, хоть лижи ее, остывающую после тропического солнца, подрагивающую – это урчат в утробе гигантской стальной сигары дизеля. Запрокинув голову, смотрю на Южный Крест на синем бархате ночного неба и ищу среди мерцающих звезд свою. Где она, моя путеводная?..
Ворочалась на прокрустовом ложе обстоятельств душа, тоскующая по по вселенскому братству людей, по чему-то важному, великому. И впадал ум в тоску, ни есть, ни спать. Лежал в судовом лазарете и смотрел в белый потолок, будто искал там послание. Судовой врач записал: «Нервное истощение, глубокая депрессия…» Такие долго не плавают.
А Одесса хоронила своих сынов. Гробы стояли в фойе Дворца моряков на Приморском бульваре. Люди запрудили Дерибасовскую, от нее и Пушкинскую, медленно двигаясь к гробам. Безмолвно расступалась толпа и пропускала сквозь себя моряков, опустив глаза, отдавая вековую дань скорби по не вернувшимся. И уважения тем, кто снова уходил в море. Утонула в Бискайском заливе «Умань» с грузом железной руды. Перевернул шторм шестнадцать тысяч тонн железа, и ушли на дно наши товарищи с капитаном Бабицким на мостике. Спасшиеся молчали. С них взяли подписку не рассказывать, как грузили в Туапсе мерзлую руду, и как растаяла она в Средиземном море и сползла ее шапка на правый борт, и как в левый борт била волна и кренила и кренила судно, и как закачали баласт почему-то в верхние, а не нижние баластные танки, и как почему-то не стали кормой к волне и не взяли курс на ближайший порт Кадис, всего-то в тридцати милях.
Много лет спустя в далеком Лос-Анджелесе узнаю трагические подробности той ночи от 87-летнего Рудольфа Банта, стармеха «Умани», отправленного в отпуск как раз перед этим злосчастным рейсом. Старый моряк, он не только помнил моего отца, механика – наставника Черноморского пароходства. Он рассказал мне надтреснутым старческим голосом, как протестовал против неряшливой погрузки мерзлой руды второй механик, отказавшийся идти в рейс и тихо уволенный из пароходства после кораблекрушения. Как сцепились на мостике два авторитета, капитан и капитан – наставник, отвечавший за доставку груза, как из – за гордости не давали они SOS, как забыли закупорить гусаки вытяжной вентиляции баластных танков, и именно через них захлебнулась «Умань», способная сохранять плавучесть даже на боку… Пароходство списало все на шторм, уголовного дела даже не открыли. А оно надо, отчетность портить?
А что я? Я уже трясусь на верхней полке в купе международного вагона, еду в ГДР, на приемку судна на верфи в Варнемюнде. Опять белый пароход, пассажирский лайнер «Башкирия». В судовой роли видел знакомую фамилию – старпом Вадим Никитин. Вон он, машет мне рукой с капитанского мостика, а рядом моя девчонка. Бывшая моя. Теперь его. Он красив, силен, да и постарше меня на два курса. Значит, имеет право.
Почти полгода я буду ползать под пайолами – рифлеными листами палубы машинного отделения, проверяя на герметичность километры трубопроводов, прокручивать клапана, заглядывая в чертежи, а наверху будет светить солнце и жить своей жизнью страна, переварившая и выплюнувшая фашизм и позорную ту войну…
Картошка и сосиски у хозяйки по утрам, пиво в соседнем баре под немецкие песни по вечерам – вот наша заграница. Здесь встают в пять утра, ложатся в девять вечера, после пяти закрывают магазины, после семи – ставни окон, городок вымирает до утра. На работе немец – без четверти шесть уже в рабочем комбинезоне. Ровно в три – он в душе. Чистая рубашка, костюм, велосипед и – домой.
Спросил как-то Ганса, пожилого рабочего:
– Как же вы, такие культурные, демократические, допустили Гитлера?
Он будто споткнулся в разговоре. Потом сказал хмуро, подбирая слова:
– Мы за это поплатились. У нас никогда больше не будет фашизма. А вот у вас, не знаю.
И замолчал, отвернулся. Я еще долго буду гадать, что он имел в виду.
Новенькая «Башкирия» третий месяц стоит на приколе то в Вентспилсе, потом в Калининграде. Делать нечего, но я открываю для себя чудо желтого камня. В поселке Янтарный под Светлогорском огромное голубое блюдце карьера пустынно. Воскресенье. Только под одним земснарядом спят двое рабочих. Демонстрирую две бутылки бразильского спирта. Один из них понимающе кивает и исчезает ненадолго. И приносит два огромных полукилограммовых куска янтаря. Очарованный тайной дымкой в прозрачной глубине, торчу теперь часами в машинном отделении в токарке, пытаясь не разрушить тайну, не раскрошить теплую ее плоть, режу из прозрачной желтой смолы то кольцо с каплей дегтя, то амулет с прожилками, всегда теплый и отзывчивый.
В Ленинграде, конечно, объявился и Валера Цымбал, все еще студент оформительского факультета у самого Акимова на курсе. Валера водит меня в Малиготу, это Малый оперный театр, где он проходит практику, в знаменитый «Сайгон», пристанище рок-музыкантов и неформалов андерграунда.
Между тем на судне кто-то ломает надстройку, пристраивает каюты люкс, расширяет радиорубку. Зачастили разные комиссии, среди которых были и из Горкома комсомола. Спирт опять к месту. Выпиваем, беседуем. Мне понравился Вадим Чурбанов, он из Москвы, завсектором культуры ЦК ВЛКСМ. Глубокий человек, сразу видно, умел вывести на откровенность. Я ему и наговорил всякого… про то, как хорошо было бы, если бы все люди… Тогда он сказал:
– Люди, моряк, бывают разные. И во власти тоже. Тебе просто не повезло.
А потом и вовсе утащил меня в командировку в город Калач в творческой бригаде ЦК ВЛКСМ. Просто пришла телеграмма на имя капитана: отправить комсорга теплохода «Башкирия» И.Е.Кокарева в командировку в Москву, ЦК ВЛКСМ.
Мастер удивился, но махнул рукой:
– Езжай, все равно мы еще долго будем здесь кантоваться. Не опоздай только, рейс правительственный, будет потом о чем детям рассказывать.
Это была незабываемая поездка в компании с писателем Леонидом Жуховицким, корреспондентом «Комсомольской правды» Игорем Клямкиным, с архитектором Андреем Боковым, с парой питерских социологов и самим Вадимом во главе. Только что вышел на экраны фильм «Застава Ильича» о поколении шестидесятых, и мы как бы продолжали разговор в заводских общежитиях без штампов и лозунгов о вещах простых и понятных, как совесть, любовь, и смысл жизни. Я слушал с открытым ртом, кожей чувствуя, что вот-вот и найду.
Тогда, видимо, и пришла эта мысль: менять надо не суда, а свою жизнь. Примерно так говорил и Чурбанов. И когда спустя месяц после той поездки он прислал «Комсомолку» с передовицей: «Комсомольск 60-х годов начинается» об ударной стройке где-то в Казахстане, я не колебался. Строится город будущего Каратау, жемчужина сельского хозяйства. Хрущев звал молодежь на комсомольскую стройку. Вадим звонил из Москвы:
– Ну, моряк, ты как? Поедешь коммунизм строить? Или шмотки из-за границы возить интересней? – как будто дразнил.
Вот и настал момент выбора. Теперь уже все знали, что судно готовят к рейсу с самим Хрущевым. Команде выдали новое обмундирование, и премиальные. Ни за что, просто так. Народ приосанился, заважничал. Еще бы! А я кидал скудные свои шмотки в старый спортивный фибровый чемоданчик… Прощай, море. Извини, батя, моряк из меня не вышел.
Спускаюсь по трапу на глазах свободных от вахты товарищей. Задираю голову: стоит на мостике Никитин, что это он показывает? Понял. Он крутит пальцем у лба… Я засмеялся, счастливый и свободный.
Свободу захочет и он, когда станет мастером Никитиным, капитаном уже на другом белоснежном красавце, теплоходе «Одесса». И та свобода дорого ему обойдется.
Никто не знает своей судьбы…
– Не разбрасывайся, хлопчик. Потеряешься, – говорила еще в 9-м классе любимая учительница литературы Ольга Андреевна Савицкая. Высокая, рыжеволосая, властная, она открыла нам настоящую литературу, раздвинула горизонты. Она серьёзно относилась к нам, позволяя вольности в школьных сочинениях. Собирала дома литературный кружок, поила чаем с печеньем и учила думать. Опасное занятие. Мы с ней оба обожали Маяковского. А я еще и верил: «здесь будет город – сад». Она, на глазах которой фашисты раскроили головку ее ребенку – уже нет. Но не мешала верить мне.
А что значит, потеряешься? Потеряешься, если не искать, не пробовать. Так жизнь и потеряешь, отвернувшись от нее. Сказал же как-то Чурбанов: власть надо очеловечивать! В тот день, сходя по трапу «Башкирии» на берег, я с ужасом и восторгом осознавал, что ломаю свою жизнь, покидая море, профессию и мою Одессу навсегда. Окно возможностей открывалось здесь и сейчас, и я не мог не воспользоваться может быть этим единственным шансом. Пусть и в степях Казахстана… А где еще можно построить город будущего, как не пустом месте?
От рейсов тех дальних, от бескрайней сини океанов на всю жизнь останется в памяти этот томительный дух вечного бродяжничества от порта к порту, от страны к стране, когда мир кажется уже маленьким и круглым, а друзья, дом, семья, дети вырастающие без отца, вспоминаются все реже и туманней. Они ведь тоже уже привыкли встречать Новый год и праздновать дни рождения без тебя. Надо иметь особый характер, чтобы принять эту судьбу, отнимающую жизнь. Отец унес характер с собой…
О чем думал, летя в далекую Алма-Ату, ощупывая в кармане командировочное удостоверение ЦК ВЛКСМ и готовясь ко встрече с еще незнакомыми людьми, жизнь которых мне предстояло изменить к лучшему? Как пятно от вина на белой скатерти расползалось по радостному ожиданию чувство вины перед своими товарищами, оставшимися делать свою морскую работу. Я, выходит, предал их, выбрав себе легкий путь? Лёгкий? Еще неизвестно, кому будет легче.
Но что сказать Сане Палыге, лучшему нападающему футбольной команды училища, которому в первый же день работы отрезал ноги и правую руку прямо в порту заблудившийся в утренней темноте маневровый паровоз? Саня героически перенес десятки тяжелейших операций в Москве, вернулся в Одессу и продолжил работать уже только на берегу инженером-конструктором в НИИ. Он отказался калекой даже увидеть свою любовь, ночи проводившую под окнами его палаты. Теперь он воспитывает дочь от встреченной в больнице подруги и браво танцует на протезах на наших редких встречах.
Прости меня, Виталий Лабунский, сделанный тобой красочный выпускной альбом нашего курса стоял у меня в каюте на видном месте. В шторм под Ждановом перевернется баржа с агломератом температурой в 900 градусов, и сварится в том кипящем соленом котле Виталий на глазах плачущего от беспомощности сокурсника, тянувшего эту проклятую старую баржу на буксире.
Прости, батя, моряк тоже из меня не вышел. Простите меня, мореходы, меня не будет с вами все эти годы. Но пусть услышит Саня Палыга, бросивший мне когда-то в кубрике:
– Что ты все других цитируешь? Ты свое придумай, тогда и выступай!
Я придумаю, Санёк. Я обязательно придумаю! Теперь уже точно…
Глава 3. Моя любовь, Каратау
От прощального взгляда Вадима Никитина на капитанском мостике до этих грустных мыслей в самолете рейсом Москва – Алма-Ата, прошли два месяца подготовки культурной революции для комсомольской стройки. Мы задушим этот город в объятиях культуры!
Москва! Живу в гостинице «Юность», бегаю по морозным улицам в бушлате с отмороженными ушами под фасонистой мичманкой, сижу в офисе между двумя Чурбановыми (оказывается, здесь есть еще один, Юрий, будущий муж Галины Брежневой). Собираем библиотеку для ударной комсомольской стройки, закупаем технику для фото и киносъемок, спортивный инвентарь. Договариваемся о лектории по истории искусства, о командировке студенческих бригад творческих вузов Москвы в Каратау.
Жизнь кажется бегущей строкой в телетайпе. Телефон в ухе, все всё понимают, все двери открываются, все готовы помочь. Но ведь и то правда: какой город будущего без библиотек, без кинотеатров, без музыкальных школ, без спортзалов, без плавательных бассейнов, без молодежных клубов, без театров и театральных студий?
Звоню по телефонному справочнику для ЦК КПСС во ВГИК, в консерваторию, в библиотечный институт, в ГИТИС, объясняю про город будущего. Разговариваю, стараясь не спотыкаться на особо умных оборотах речи, с ректорами и профессорами. Сюда, в наш кабинет на четвертом этаже здания ЦК на углу Маросейки, приходит знаменитый актер Кирилл Столяров, и мы обсуждаем съемки фильма о Каратау. За ним появляются лауреат международных конкурсов скрипач Андрей Корсаков с неземной красоты альтисткой Галей, и мы составляем программу концерта для шахтеров.
А солидный профессор ВГИКа киновед Ростислав Юренев так уважительно советуется со мной по поводу кинонедели советских фильмов для комсомольской стройки, что становится неловко. Так и хочется сказать: да я ж пока еще матрос, типа Железняк, со мной можно попроще! Но молчу, делаю изо всех сил умный вид.
Вадим поглядывает со стороны, не вмешиваясь. Все бы хорошо, только уж больно холодно. И вдруг в самый морозный день в гостиницу «Юность», где кантовался я второй месяц, раздается звонок Валеры Цымбала, прикатившего из Питера на каникулы:
– Привет! Пойдем с Алкой к ее подруге? Посидим, выпьем. Выпьем, поболтаем. Давно ведь не виделись!
С бойкой насмешливой однокурсницей Аллой Каженковой он познакомил меня еще тогда, когда «Луганск» после Кубы стоял в питерском порту. В тот вечер я и не заметил, как отрез на костюм, с которым я шел к портному, пошел ей на платье. А я долго носил ее свитер. Теперь Алла в Москве, почему не вспомнить наши короткие встречи?
Шли по улице Горького от метро, что у Белорусского вокзала. Ветер морозный прошивал бушлатик до костей. Дом с мемориальной доской, это я запомнил. Подружка – ладная, стройная, загорелая, взглянула мельком:
– Наташа. Проходите.
И повела темным коридором в дальнюю комнату. Пришли, как полагается, с бутылкой. Откупорили. Подружки щебечут, потягивают сухое, на нас не глядя. Нам с Валерой и слова некуда вставить. Хозяйку, не то актрису, не то художницу, Каратау, естественно, не мог заинтересовать. А о чем другом?
Вдруг хозяйка эта, продолжая щебетать, легко и непринужденно присела мне на колени с бокалом в руках. Как на стул или на диван, не знаю. А я что? Молчу красный, как рак, руки куда деть, не знаю. Коленки круглые, вот они, но мы ж в приличном доме.
Смолкла, однако. Повернулась, потрогала золотистый шеврон на рукаве:
– А правда, вы моряк? И что, везде поплавали уже?
– Да, поплавал.
– Так расскажи, моряк! Или стесняетесь?
Шутит барышня или как? И тут Остапа понесло. И про Сингапур, где солнце не отбрасывает тени, и про зиму в Бразилии, где босоногие пацаны в меховых куртках на голое тело, про веселых ребят в Сан-Пауло, которые дружески похлопывая по спине, вытащили бумажник, и про летающих рыб, падающих с неба на горячую палубу, и про страшную силу цунами, когда океан вдруг вертикально встает перед тобой, закрывая небо и накрывая, как бы заглатывая огромное судно – сам не заметил, как увлекся.
Хозяйка уже на диване напротив, смотрит как-то по-особому, глаза в глаза, а они у нее они большие, серые, насмешливые. И я вдруг понял, что влюбился. И так меня это ощущение огрело, что улетал я в свой Каратау, а думал только о ней. Да что теперь… Приснилось, видимо…
Просыпаюсь уже в рабочем поселке Чулактау, недавно переименованном в город Каратау. Горстка домов, жмущихся друг к другу, а вокруг безлюдные казахские степи. Здесь с 1946 года согласно Генплану СССР строился и не достроился комбинат химических удобрений. Брошен был долгострой за недоглядом. Теперь он стал «жемчужиной сельского хозяйства».
Так назвал недавно Хрущев этот фосфоритоносный бассейн в Джамбульской области. Партия сказала «Надо!», комсомол ответил «Есть!». И возобновилось строительство шахт для горнообогатительного комбината. Стройка торжественно была объявлена всесоюзной комсомольской, и потекли сюда ручейки молодой силы со всех концов необъятной державы.
Каратау с воздуха открывался красной от мака безграничной степью Южного Казахстана, в которой было видно небольшое озерцо и неподалеку одинаковые пятиэтажки, сгрудившиеся вокруг площади, как иголки вокруг магнита. И ни одного деревца или куста зелени. От чего и возникло вдруг это совершенное неуместное ощущение безжизненности пространства. Его и предстояло очеловечить.
Очеловечивание, правда, началось с того, что мощный слепок с Венеры, комсомольский секретарь Вера, встретила у трапа и без лишних разговоров повела к себе на пельмени. Горячие, в сметане, они были поставлены на грубый стол без скатерти в большом тазу, подобном тому, в котором в Одессе стирали белье.
– Разве можно это все съесть? – спросил я растерянно. Но Вера щедрой белой рукой налила водку в стакан, точь-в-точь как в одесской закусочной, перед танцами. Я понял и принял. Инициатива была за ней. Она рассказала за этот первый вечер почти все, что знала про этот поселок и про его людей.
– Ты, главное, не торопись, здесь надо сначала пожить, понимаешь? У нас здесь в поселке все тихо, мирно. Только курды иногда безобразничают.
– Какие курды? А сама откуда?
– Я из Сибири, уже четыре года здесь. А курды… Сам узнаешь. Ты ешь, пельмени-то наши, сибирские.
Так что первый день в Каратау прошел хорошо. Не очень, правда, помню, как провожала меня Вера в общежитие, как уложила спать и ушла. А наутро первое ощущение – растерянность. Как, с чего начать? Вроде долго готовился, а прилетел и что?
Встал, пошел бродить по городу, вглядываясь в лица, вслушиваясь в русскую речь, ища глазами казахов, уже понимая, что Каратау вполне русский, вернее, советский город, поскольку ни церкви, ни мечети тут не было. В центре площади оказался клуб «Горняк», культурный центр всего поселка. Кроме него жители развлекались в чахлом скверике на окраине у речушки, скорее ручья, по имени Тандинка. Местом притяжения был и вещевой рынок, популярное место, где собираются все, хотя не понятно, чем здесь вообще можно торговать. Сам комбинат строился в другом месте, в поселке Джанытас возле шахт.
Сквер с речушкой мог бы быть культурным оазисом, сразу отметил я про себя. Если бы не был так запущен. Как выяснилось, территория была на балансе рудкома, и, видимо, потому волейбольная площадка была без сетки, футбольные ворота перекосились, качели заперты, летний кинотеатр заколочен досками, трава между одинокими деревьями вытоптана, но есть одинокий сторож без определённых занятий.
На озере было веселей. Нашлась даже байдарка, в которую сел, несмотря на сильный степной ветер. Оттолкнувшись от берега, потерял равновесие и тут же перевернулся. Дна не достал, но понял, что тут можно проводить соревнования.

У Горкома партии. Первые дни.
В общем, жить можно. Но именно так – нельзя. Ни переселившимся сюда русским и украинцам, ни родившимся здесь казахам. Человек должен расти, развиваться везде, не только в Москве, и здесь тоже. Сбросив вещи в скрипучий шкаф, сел за стол писать в Одессу. Позову-ка боевую подругу Ирку, поэта Лёню, художника Сашу… Вот где раздолье для творчества, ребята! Никто не будет мешать, и мы засеем этот городок семенами доброго и вечного! Без доброго и вечного, зачем нам эти фосфориты?
Первым откликнулся Лёня Мак. Но, увидев пыльную улицу пятиэтажек, просвистел мимо. Нашел где-то в степях конезавод. Решил объезжать скакунов вместо того, чтобы возвышать нас своей поэзией. Ирка ответила, но с таким сарказмом, что было ясно: не верит. Потом проявился Саша Ануфриев с товарищем, тоже художником, из тех самых авангардистов, за которых я когда-то схлопотал выговор.
С ними тоже, правда, не получилось. Вадим Чурбанов позвонил прямо в Горком:
– Игорь, твои художники получили командировочные удостоверения ЦК ВЛКСМ, билеты на самолет до Алма-Аты и слиняли в неизвестном направлении. Я объявляю их во всесоюзный розыск.
Еле отговорил его:
– Вадим, да что с них взять? Свободные художники…
Зато на призыв сеять прекрасное в казахских степях откликнулись два самых необыкновенных человека – учительница и одноклассница. Узнав про мой выбор, Ольга Андреевна купила билет и приехала поездом дальнего следования. Это ж надо так верить тем, кого она воспитала! Но, увы, не оказалось для нее работы, не было еще десятилетки в Каратау. Приехала, благословила, в Одессу уже не вернулась. Одинокая и сильная, она будет уже до конца жить и работать в Алма-Ате.
Потрясла меня и Бэлла. Она просто прислала короткую телеграмму:
– Я твой солдат. Вылетаю. Встречай.
Бэлла, по-грузински красивая, загадочная, умная, появилась в Одессе и в нашей школе вместе с приехавшим к нам цирком. Она была дочерью циркового артиста, человека без рук, но при этом настоящего грузинского князя. Пацаны из соседнего класса рассказывали про нее грязные истории, и я, не сводивший с нее глаз, однажды не выдержал и спросил ее прямо:
– Это правда? Скажи мне, это правда?
Ожидал чего угодно. А она вздрогнула, посмотрела в глаза жестко:
– Раз ты такой, идем, я расскажу тебе.
И вдруг по ее щеке поползла слеза:
– Только не бросай меня!…
Сидя на скамейке Приморского бульвара, долго мучительно рассказывала про тайную жизнь цирка, про его жестокие нравы, про то, как на ее животе играли пьяные артисты в карты… Потрясенный, я сказал ей:
– Я тебя вытащу! Ты уедешь к своей бабушке в Рязань, только захоти!
И пошел в свой райком комсомола. Меня успокоили, сказали защитят, купили ей билет до Рязани. В тот день после школы мы пошли на вокзал, она снова плакала и целовала меня куда-то в шею. Потом она прислала свой почтовый адрес. Прошло семь лет…
Я встретил ее у самолета и сразу повел прямо с вещами на субботник. И вот теперь она в моей комнате на кровати с продавленной железной сеткой. Глаза ее сияют, мы, наконец, обнимаемся. Ее губы горячие и жадные. Боже, оказывается, она ждала этого столько лет!
Но как обьяснить, что у меня нет сейчас другой страсти кроме вот этой безумной, к mon amour Каратау? Я просто не имею права на другое счастье. Мы лежали, разделенные одеялом, которое я держал чуть ли не зубами, она что-то шептала, она не понимала, что случилось, зачем она здесь, и как же теперь… Снова знакомая слеза на её щеке. Прости меня, Бэлла.
Вскоре она уедет в Алма-Ату, поближе к Ольге Андреевне, которая ее обожала. В итоге я остался виноватым, как будто обманул того, кого когда-то спас. Или считал, что спас…
На знаменитую в 60-х годах комсомольскую стройку под песни Пахмутовой, под грусть гитарной струны съезжалась тем временем молодежь со всех концов страны. Не было бы этих песен, думал я, не полетели бы сюда из домашних гнезд тысячи русских девчонок и мальчишек. Великая духоподъемная сила, эти песни. Целина, БАМ, Каратау – вот адреса, по которым устремлялись романтики 60-х и заселяли эти просторы второй волной после той, военной, эвакуационной. Чего искали, о чем мечтали, на что надеялись? Не за деньгами же в самом деле…
Жили в этих краях еще и насильно переселенные народы: немцы с Поволжья и чеченцы с Кавказа. И почему-то даже греческие колонисты с паспортами греческого своего королевства. Наезжали и трудолюбивые китайцы, собирающие неплохие урожаи на местных плодородных землях. Русские пахали на шахте и на стройке комбината по переработке фосфатного сырья в минеральные удобрения. Но заметней всех здесь все же были красавцы курды. Удивительно, я не чувствовал себя в Казахстане. Вокруг были русские, и даже попадавшиеся среди них казахи говорили и между собой исключительно по-русски. Религиозные различия совершенно не ощущались. Как и местные греки, и курды, и китайцы. Советский, словом, народ.
Вот теперь и я среди них, хожу, местную власть пугаю. Кто такой, зачем приехал? Горком комсомола кооптировал уполномоченного ЦК нештатным секретарем по идеологии, хотя все понимали, какой я секретарь. Отчитываюсь только перед ЦК. А на работу оформили меня горным инженером в рудник. Тоже формальность, для трудовой книжки. Я-то думал, мне ЦК комсомола ставку даст, а оказалось инженер я на шахте, на бумаге опять же. Лучше б уж и вправду в шахту. В бригаду какую-нибудь.
Ладно, не важно это все. Сижу с первым секретарем, разговариваем. Выпытываю его про местную жизнь, пытаюсь пульс нащупать. Вижу у горкома одна работа – проводить комсомольские собрания и знакомить с постановлениями ЦК комсомола и партии. Ну, и взносы, а как же. До боли знакомо.
Секретарь, однако, не глупый, дело свое знает. Про людей, русских по преимуществу, сказал, что не только романтики собрались в этих местах. Приехал народ и за длинным рублем. Здесь же зарплаты с коэффициентами, довольно большие. Молодые приезжают парами, чтобы заработать на семью и домой вернуться. Мало кто остается. Разбегаются отсюда люди.
Я забрасываю ему мысль на пробу:
– А если создать нормальные условия жизни, культурный досуг там, разные детсады, музыкальные, спортивные школы для детей? Может быть, Каратау и станет их домом. Не Заполярье все же…
Секретарь, мой сверстник, но уже с сыном, усмехается:
– Я вот здесь с войны, с эвакуации, да что-то больших изменений не видел. Как были эти бараки, так они, родимые, и стоят, пока не развалятся.
– А люди? Люди неужели не изменились за эти годы?
– Люди здесь разные, казахов, кстати, мало. Они больше в колхозах, в степи. Здесь все из России, из Китая, притерпелись, приспособились. Живут как-то, не жалуются.
С еще одной категорией приезжих пришлось столкнуться лицом к лицу самому, когда в Каратау пришел поезд с 240 добровольцами из Ленинграда. Горком встречал их цветами и оркестром. И в самый торжественный момент, заглянув в сопровождающие документы, я понял, что прислали нам не добровольцев, а так называемых «тунеядцев», высланных из города на Неве решением суда.
Питер, ты что, охренел? Это же комсомольская стройка, а не концентрационный лагерь! Хотел послать им туда пару теплых слов, но посмотрел в испуганные глаза прибывших проституток и передумал. Потом поговорим, когда освоятся.
А речь тогда я держал такую:
– Перво-наперво вы должны понять, что здесь все же не Магадан, здесь, во-первых, тепло, а во-вторых, никаких бараков с колючей проволокой и вертухаев с овчарками. Общежития в пятиэтажках с горячей водой, свет, туалет, пусть и в конце коридора. Кухня, правда, общая, тоже в коридоре, ну так мы все из коммуналок, чем тут удивлять… А дальнейшее все в наших руках, как захотим жить, так и будет.
Привирал, конечно. Знал же, что главное городское развлечение – фильм по субботам в клубе «Горняк». И танцы до упаду по воскресеньям в городском сквере. И водка в субботу, воскресенье и все остальные дни. Один книжный киоск, один детский сад, одна школа и ни одной библиотеки. В одном был честен: захотим – сделаем. Придется, правда, воевать с Горкомом партии, с дирекцией комбината, которых, похоже вся эта убогость устраивала. Ну, так я тут на что? Авторитет ЦК комсомола должен же что-то значить…
Позже, воюя с местным начальством за помещение для библиотеки, за байдарки и очистку берега озера для пляжа, за ставку руководителя художественной самодеятельности в клубе, я действительно убедился, что им не только глубоко наплевать на нас, но что им совершенно искренне непонятно, зачем это все нам.
В своем раже выполнять и перевыполнять они воспринимали нас именно так – как дурачков, готовых добровольно заменить собой заключенных, строивших и Комсомольск на Амуре, и Беломорканал, и многое чего еще тогда строили на Севере для войны, для победы. Во всяком случае ни в какой энтузиазм эти взрослые дяди, прошедшие войну, не верили и человеческие условия для жизни для рабочей силы создавать не собирались. Да и не умели, как я понял. Они служили партии.
Скоро я понял, что и местный, казахский колорит будет мало способствовать очеловечиванию жизни на краю советской Ойкумены. Возьмём например, комсомольского второго секретаря горкома, это всегда казах. И вот батыр едет на служебном газике в степь, берет барана у колхозного пастуха, как свою собственность, отдает забить его и, сварив дома мясо в прокопченной, мятой алюминиевой кастрюле, гостеприимно сует мне большие куски в рот руками. Уважение оказывает сын степей. Он в юрте жил сотни лет, ему там хорошо, уютно. И будет еще столько же, если не мешать.
Да и собеседник мой, чубатый русский первый секретарь (здесь первый – всегда русский) от него недалеко ушел. Я вижу, как он подливает водку своему семилетнему сыну, приговаривая:
– Учись, сынок, коммунизм строить. Пригодится!
Так нужен им всем здесь город будущего? Какие-то неведомые силы сплетали истории разных народов в одну серую, тягучую жизнь вдали от цивилизации. Такая вот получалась жемчужина сельского хозяйства огромной державы.
Когда-то меня поражала пропасть между сверкающими витринами Италии и улицами и магазинами Москвы. Сейчас потрясает еще больший культурный разрыв между Москвой и Каратау, между центром и провинцией огромной страны. Я бы понял, если бы видел просто две разные культуры – извечную казахскую и по соседству русскую. Но в том-то и дело, что ни той, ни другой…
Мы встретились с ней через год, как и обещал. Прилетел в Москву в ЦК с отчетом и позвонил:
– Здравствуй, это я!
Наташа рассмеялась своим смехом с ироническими интонациями, сразу узнала. И вот мы уже сидим в кафе на улице Горького, в дальнем углу на втором этаже. Она рассказывала мне, как снималась в кино, как после художественного училища работает художником в Московском театре оперетты под руководством знаменитого театрального художника Григория Львовича Кигеля, о котором говорила с искренней любовью.
Потом зачем-то описывала своих бывших женихов, в числе которых оказались и будущий знаменитый генетик Костя Скрябин, и Борис Маклярский, кандидат наук, сын известного сценариста, автора знаменитого фильма «Подвиг разведчика», и брат Майи Плисецкой Азарий Плисецкой, и модный поэт Игорь Волгин. Будто извинялась.
А я звал ее с собой. Будешь, мол, степь писать, казахов учить живописи. Она смеялась:
– Откуда ты такой взялся?
Хорошо, однако, что не уговорил. А то как стыдно было бы в конце концов.
В ЦК комсомола, наконец, выбил книги, целую библиотечку по своему вкусу. С ними и улетел, отчитавшись за проделанную работу. Прилетел, расставил их на полках, сняв дверь в платяном шкафу, потом сочинил объявление. И потихоньку потянулся народ за Солженицыным и Дудинцевым, Хэмингуэем и Ремарком, Евтушенко и Вознесенским, Аксеновым и Кузнецовым. Эти книги воспитали меня, и я хотел теперь, чтобы они поработали в Каратау.
Пришли и журналы «Новый мир», «Юность», «Иностранная литература». Тщась стереть грань между столицей и провинцией, таскаю их с собой на комсомольские собрания, раздаю желающим, чего-то рассказываю. Дай, говорят, почитать. Раздаю, потом собираю и спрашиваю:
– Ну, как?
– Да, ничего. Интересно.
– А подробней?
И тут начинается хирургическая операция по высвобождению из зашитого сознания каких-то эмоций и мыслей. Тут главное не перестараться, кого-то удается разговорить, а кого-то нет. Но и две-три фразы уже – клуб книголюбов. Название пышное, на самом деле привычка просто обмениваться впечатлениями от прочитанного между собой или как придется.
А еще пришло заказанное заранее оборудование для кино-фото лаборатории: фотоаппараты, фотоувеличители, даже одна 16-ти миллиметровая кинокамера с запасом кинопленки. У меня до нее руки так и не дошли, но нашелся энтузиаст, инженер Виталий, с которым мы иногда играем в шахматы у него в квартире.
– Давай мне. Разберусь, только скажи, что снимать.
– Знаешь, было бы классно снять заседание бюро горкома.
– Да кто ж меня туда пустит? Всех чертей перепугаем.
И, наконец, главный мой сюрприз: приезд студентов! О студенческих бригадах было договорено еще в Москве. И вот первой прилетели девчонки и сам Андрей Корсаков из Московской консерватории. Альтистка Галка, нежная душа, русая красавица с обложки журнала «Огонек», сдержала слово. Привезла с собой будущих знаменитостей в нашу глухую степь.
– Вот и мы! А ты не верил! – торжествовала она. И плавилось солнце в дрожащем от жары воздухе. Мы трясемся в автобусе по пыльной дороге в Джаны Тас, где шахты. Надев каски, спускаются консерваторки в клети, пригнувшись, осторожно оглядываются в темном и душном шурфе. Экскурсия перед концертом для душевной настройки. В обеденный перерыв в столовой собираются сто или больше шахтеров. Галка, на которую, не отрываясь, смотрят заскорузлые шахтеры, говорит по моей просьбе всего несколько слов:
– Сейчас будет чудо. Вы просто слушайте и молчите. Обязательно молчите. Не отвлекайтесь.
И божественные мелодии Сарасате из скрипки юного дарования Андрюши Корсакова полились прямо в сердца, открытые ожиданием. Вот, клянусь, ТАК эти здоровые мужики слушали музыку первый раз.
А за музыкантами месяц спустя прилетели и вгиковцы, привезли с собой кино. Мой любимый «Девять дней одного года» о нравственной, духовной красоте человеческих отношений, смотрели в клубе «Шахтер» при полном зале. Честный такой фильм в духе модных дискуссий о физиках и лириках со Смоктуновским и Баталовым, интеллектуальный коктейль для любителей. Поймут, не поймут? Примут, не примут?
Дискуссию вел самоуверенный киновед Юрий Гусев, комсорг ВГИКа с той же фамилией, что у героя фильма. Он начал было длинно подводить к научно-технической революции и ее последствиях для человечества, как его перебил голос из зала:
– Ты парень нам лапшу на уши не вешай. Мне завтра не к синхрофазотрону твоему, а к лопате с утра вставать! У вас своя жизнь, у нас своя. И не надо ля-ля про высокие материи.
– Но вы же хотите видеть свой завтрашний день, правда? Вы же строите город будущего! – нашелся Гусев. И смотрит на меня.
А ему снова из зала другой голос:
– Мы бы может быть и построили… Да только с одной лопатой без раствора и инструментов ни хрена не выходит. Да и город этот никому тут не нужен. Лишь бы комбинат сдать к сроку.
Теперь уже я смотрю на Юру. Вступить или промолчать? Вместо обсуждения высокого искусства зал тянул к низким истинам жизни. А что, в этом может быть и есть в конце концов миссия искусства? Не знаю. Но вмешиваться не стал. Меня и так здесь уже слышали. Решил, пусть Москва выкручивается, а мы поучимся. Но желающих высказываться больше не было, и Гусев закончил краткой рецензией.
После других просмотров – фильмов «Я шагаю по Москве», «Коллеги», «Все остается людям» и «Когда деревья были большими», обсуждения продолжались. Мной же овладевало странное ощущение какой-то неловкости перед сидящими в зале работягами. Уж очень разительным оказался разрыв между этими прекрасными фильмами и нашей жизнью. Потому когда Гусев предложил мне вести обсуждение, я отказался.

Юра Гусев, после дискуссии.
Но социологическим исследованием, которое он проводил, раздавая анкеты прямо в зале, я заинтересовался. Что мы читаем, смотрим, слушаем? Какие духовные запросы в нашем Каратау? Заполненные анкеты разбирали вместе. Почему я раньше не догадался такую анкетку распространить хотя бы в общаге?
Народ здесь молодой, запасы впечатлений школьные, любят выпить, выпьют – спеть. Кино смотрят, что дают, как и едят. Кстати, отвечали охотно. Даже о том, о чем не спрашивали. И вот что поразительно: прорвались секреты власти! Кто-то об отсутствии воды для промышленных нужд написал, кто-то про то, что комбинат вообще не по тем чертежам строится. Ответы анонимные, люди и решились. Или накипело?
Про комбинат я как раз тогда и узнал, что строят его по чертежам действующего завода за Полярным кругом. Только тот перерабатывает хибинские аппатиты. А у нас фосфориты. Может, оно и так сойдет, кто его знает. Говорят, что аппатиты, что фосфориты, один черт. Зато сдадим раньше срока, премии там, награды. Здорово придумано.
Уехали студенты, увезли анкеты. А к нам своим ходом пригнали из Москвы новенький голубой агит-автобус «Красная гвоздика». Что-то не помню, чтобы я его заказывал. Но, видно, Чурбанов решил поддержать своего засланца. Что с этим автобусом было делать? У меня и прав нет. А водителя где взять? Пока бились с Горкомом партии, куда его на баланс поставили, чтобы переименовать с гвоздики на «Алые паруса». Сколько энергии было потрачено, мы шли на принцип. И добились!
Из тех питерских «тунеядцев» нашелся один с правами, говорит, папину машину водил. Прав его я не видел, но водить он, и правда, умел. Ничего, в степи светофоров и гаишников нет. Теперь можно и агитбригаду создавать. На автобусе по шахтам, на стройку, к пастухам.
И начались репетиции. Состав подобрался легко, многие откликнулись. И, главное, все оказались такими умными, не хуже, чем в Одессе. Одна девчонка запела так, что воздух степной в ответ зазвенел. Высоко уходил звук, к звездам. Костер, ночь теплая, бесконечность.
Да что там столичные… Казах пришел однажды. С домрой. Мы сели в кружок, уставились на него. И зазвучали странные, простые трезвучия. Степь их услышала сразу, а мы, русские, уже вслед. Здорово, когда душа поет, хоть в степи, хоть в море, хоть в городе. В море, правда, не очень пелось…
Парень один, неуклюжий, большой, стихи стал читать, тихо так, незаметно:
Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы,
идут по земле пилигримы.
Ну, я вздрогнул. Он глянул на меня, остановился:
– Что, нельзя?
Я просто продолжил:
– Увечны они, горбаты,
голодны, полуодеты,
глаза их полны заката,
сердца их полны рассвета.
За ними поют пустыни,
вспыхивают зарницы,
звезды горят над ними,
и хрипло кричат им птицы:
что мир останется прежним,
да, останется прежним,
ослепительно снежным,
и сомнительно нежным,
мир останется лживым,
мир останется вечным,
может быть, постижимым,
но все-таки бесконечным.
И, значит, не будет толка
от веры в себя да в Бога.
Он закончил тихим, глубоким, как будто уходившим в сухую землю под ногами голосом:
– …И, значит, остались только
иллюзия и дорога.
И быть над землей закатам,
и быть над землей рассветам.
Удобрить ее солдатам.
Одобрить ее поэтам.
От него я и узнал, что как раз в это время двадцатидвухлетнего Иосифа Бродского осудили тоже, как и их, не за инакомыслие, а за тунеядство. Сослали. Жаль, не к нам, а в Архангельскую область. На пять лет.
Мы с этим «инакомыслящим» как-то ушли в степь и проговорили всю ночь, находя много общего в размышлениях о жизни, о счастье, о родине и о судьбе. Водка из горла бутылки и горький «Беломор» без фильтра. Были такие папиросы. Прикуривали одну от другой, смотрели на звезды, будто общались с ними. Они мигали в ответ.
– Ты знаешь смысл жизни? Вот зачем ты здесь? Нашел своё счастье?
Он пытал меня, как на допросе, залезал в душу, как иголки под ногти загонял.
– Ты говоришь, здесь воздух чище? Да, здесь голая степь. Там мы хоть в «Сайгоне» оттягивались, забивали на всю эту советскую действительность. Андерграунд, рок и…
– Наркотики?
– Да, и это бывало. Потому что мы хотели свободы, искали себя…
Ну, про кафе «Подмосковье» по прозвищу «Сайгон» на Невском я знал. Меня еще Валера Цымбал водил туда пить лучший в Питере кофе. Я рассказал ему про американскую пару – Джима и Дайану на круизном лайнере, на котором мы шли вдоль крымского побережья.
– Они были свободны, но радости им это не принесло.
– Почему?
– Наверное, потому что человек абсолютно свободный теряет смысл жизни.
– А в чем был смысл загнать меня сюда, в голую степь с казахами и овцами?
– Чтобы построить новый прекрасный город, где все будут счастливы!
– А я хотел этого? Меня спросили?
Вот тут мне сказать было нечего, но в душе еще оставался след от той печали, с которой говорила Диана о том, что они никому не нужны. Да, я помнил, что у них с Джимом не было детей, они были не готовы обременять себя ими. Они не были ни художниками, ни учеными, просто хорошо зарабатывали на жизнь. Зачем?
– Может быть потому, чтобы помочь тебе найти смысл жизни? Не в Питере, так здесь. Найти себя, вырази себя в чем-то, придумай здесь «Сайгон», создай что-нибудь своё. Своё, понимаешь?
– Для кого? Для казахов?
– Для себя, черт возьми! Для себя! Кофе что ли тут нет? А андерграунд я тебе обещаю. Через Москву достанем. Только давай, шевелись. Сделай что-нибудь!
Конечно, смысл жизни лежал где-то еще глубже, и мы понимали, что «Сайгон» был лишь тропкой к себе, к тому потенциалу, заложенному нас от природы, что ищет выхода в творчестве. Потому что так и только так творится и продолжается жизнь. Только вот в каждом ли?
О чем еще бы говорили? Да мало ли о чем можно говорить выпивши, ночью, в тысячах километров от всякой цивилизации?
Это был тот редкий момент истины, когда ты действительно поднимаешься к звездам и видишь оттуда нашу планету и себя на ней пылинкой, несомой космическим ветром времени. Печаль и грусть пылинки – моя грусть. После той ночи, обкурившись до тошноты, я и бросил курить…
А утром снова на бюро – выбивать у комбината и у Горсовета именем комсомола помещения под библиотеку, под изостудию, доказывать необходимость в еще одном детсаде, в музыкальной школе, в филиала какого-нибудь ВУЗа для молодежи комбината. Но общаясь с руководством города, мы постепенно понимали, осознавали, что старшие товарищи в общем не плохие люди, просто их руками партия продолжает воевать. Не жить, а именно воевать за выполнение и перевыполнение планов, требуя беспрекословного подчинения – все, как на войне. А мы хотели мира, любви и смысла в труде и жизни. Не многого же хотели…

Хорошие люди есть везде. Надо их только найти. Каратау, 1965.
Было мне тогда двадцать четыре года. Еще или уже? Мы сидели у костра, я травил морские байки про Бразилию, Японию, Сингапур, про штормы и штили, про гигантского грифа, залетевшего на нашу палубу с близкого берега Западной Африки, про летающих рыб и жадных акул… Потом кто-то тронет гитарную струну и запоет голосом Булата «Последний троллейбус»… Какие яркие звезды здесь над головой…
Может это и есть счастье? Здесь, с вами, ребята. И такими понятными казались нам слова Назыма Хикмета:
…Если я гореть не буду,
Если ты гореть не будешь,
Если мы гореть не будем,
Кто ж тогда развеет тьму?
Тихой лунной ночью шли мы с репетиции. Ночная степь пахла сухими цветами. Вдруг сзади сгустилась опасность. За спиной нарастал глухой топот. За нами гнались?
– Бежим! – выдохнул я, и мы понеслись. Злая, тупая темная сила догоняла. Дышала в спину. Кто? За что? Я сбросил вьетнамки. Сзади чем-то больно полоснуло по шее. Челюсть хрустнула. Зубы? Не оглядываясь, впрыгнул в дверь общежития и успел захлопнуть ее перед разъяренной темнотой.
В госпиталь, куда меня положили с выбитыми солдатской бляхой зубами и рассеченным затылком, пришли стройбатовцы извиняться. Оказывается, они искали курда, который изнасиловал невесту одного из них. Про местных курдов я еще не то слышал. Здесь их целое поселение. В армию их не берут, они не граждане СССР. Они охотятся за русскими девушками, ибо по их законам ребенок, рожденный от курда, считается курдом. Так они пополняли убыль своего народонаселения. Красавцы входили в женское общежитие, запирали дверь и начинали по очереди оплодотворять всех. Одна вскочила на подоконник:
– Не подходи, выброшусь!
Он подошел. Я видел кровавое пятно под этим окном. Их даже не судили. Откупились, говорили знающие люди. Тут свои законы.
А по каким законам обострялись мои отношения с Горкомом партии и дирекцией комбината? Я начинал понимать, что никаким культурным десантом, никакими клубами по интересам и спортивными праздниками город будущего не построить. Города-то в общем действительно никакого нет. Одни бараки. Тут нужны реальные градостроительные проекты, инфраструктура культурных объектов именно города, а не рабочего поселка.
Пока по моему требованию комсомол на бюро Горкома партии вынес вопрос о ремонте клуба «Горняк». Мы предлагаем своими силами, всем народом починить крышу, передвинуть стены, выкроить комнаты для кружков и библиотеки. А нам в ответ:
– Не Горком решает эти вопросы! Если очень хотите, пишите письмо в ЦК КПСС… Копию – в Совмин Казахстана. Только серьезно, как полагается, пишите записку: «О постановке культурно-массовой работы и культурного строительства в Каратау». Выделят средства, мы тогда и архитектурный проект закажем, и все построим. У города же нет своих средств на строительство, как вы не понимаете?
И правда, не понимаем. Но готовим письмо, хорошее такое письмо, с подробностями. Предлагаем не только отремонтировать старый клуб «Горняк», прибавив сцену для народного театра, но и выстроить отдельно спортзал, водную станцию на озере, городскую библиотеку, открыть музыкальную школу.
Подпись первого секретаря Горкома комсомола я выбивал из перепуганного парня целую неделю. Вторая подпись была моя как уполномоченного ЦК ВЛКСМ.
И грянул гром. Сам секретарь ЦК комсомола Казахстана Ибрагим Амангалиев вдруг прикатил на машине из Алма-Аты:
– Я за тобой. Выступишь на Пленуме ЦК комсомола с вашим предложением. За такое письмо надо отвечать, брат.

После выступления в школе
Обратно гнали ночью по извилистой горной дороге. Ибрагим читал мне стихи Олжаса Сулейменова, знакомого еще по Москве казахского поэта, влюбленного в свою бескрайную степь:
Страданием? Старанием велик
мой странный мир, родившийся старателем!
О Азия, ты стольких нас истратила!
Опять костры для дыма расцвели.
Я просил еще из Олжаса, и он продолжал:
Я поеду в адайские прерии,
Там колючки, жара, морозы,
Пыль и кони такие! Прелесть!
Я поеду к себе на родину…
Мы долго неторопливо разговаривали обо всем. Я больше слушал.
– Мы, казахи, древний, степной народ. Москва нас вечно куда-то торопит: целина, Семипалатинск, теперь Каратау. Мы кочевники, люди степей, пойми это. «Люди летом уходят к морю, а нас тянет в сухие степи». Это он сказал.
Тут машина резко тормознула, нас развернуло поперек дороги, и задние колеса зависли над пропастью. Над звенящей темнотой на горизонте улыбалась луна.
– Бывает. Батыр за рулем вздремнул, – невозмутимо сказал секретарь ЦК ЛКСМ, наблюдая, как передние ведущие вытаскивают нас на дорогу.
Дальше я предавался размышлениям над его словами. Ведь это их степи, их дом, куда мы пришли со своими пятилетними планами. И теперь я стараюсь, строю под себя этот город, ничего про них не зная, кроме Чингиз хана и Золотой орды. Что я скажу им завтра на этом Пленуме? Уж теперь точно не то, что хотел. Надо искать другие слова.
Говорил о голубых городах будущего, о развитии личности и праве на счастье. Но и о бараках, об убогости быта молодежи, о душевной пустоте, о пьянстве, о фальшивых трудовых победах. Зал молчал. А я требовал от руководства республики средств на городскую социальную и культурную инфраструктуру и в конце сказал:
– Запустение – везде запустение. Невнимание к нуждам людей – везде невнимание, а значит, неуважение к человеку. И неважно, казах он или русский, украинец или татарин. Я с детства помню слова Горького: «Человек – это звучит гордо». И потому прошу Пленум поддержать наше право на достойную жизнь здесь и сейчас, а не только для наших детей и внуков через сто лет.
Зал продолжал молчать. Мне больше сказать было нечего, и я просто ушел со сцены за кулисы. Слегка трясло от собственной храбрости. Амангалиев, что скажет он? А он сказал не то одобрительно, не то осуждая:
– Ты свою задачу выполнил? Совесть чиста? Молодец. Теперь езжай обратно, никаких интервью. Обсуждения не будет. Получи в бухгалтерии билет на поезд. Будь здоров.
Через неделю я узнал, что на меня в КГБ пришла анонимка. Майор особист вызвал к себе и показал бумагу.
Сообщаю вам, что никакой этот Кокарев не моряк. Ни в какой одесской мореходке он не учился. Заграницу не плавал. Диплом поддельный. Это проходимец, который морочит нам всем голову. Считаю, что им надо заняться органам».
– Что это такое? – спрашиваю, а у самого мороз по коже.
– Как что? Обыкновенная анонимка. Как раньше писали, так и сейчас пишут. А ты не знал? Так что разоблачили тебя, вожак комсомольский.
Думаю, шутит особист? Он-то знает, что перед решением ЦК о назначении на стройку мое прошлое не раз рентгеном просветили. Но из головы не выходит: вот так, значит, выглядят доносы. Пустяк? А такой бумажки, нацарапанной неизвестно кем, может быть и соседом, достаточно, чтобы попасть под раздачу. Расстрел или десятка в лагерях, через этот кошмар прошли миллионы…
Раз уж анонимки пошли, отступать некуда, надо дальше действовать. Сажусь и пишу в «Джамбульскую правду» статью названием «Кладовая фосфоритов все еще на запоре». Что-то вроде того, о чем говорил на Пленуме, но резче. И снова подписываюсь: Уполномоченный ЦК ВЛКСМ по идеологической работе.
То, что я нажил себе теперь врагов, понял сразу, как только вышел номер со статьей.
– Доносы строчишь, сучёнок? – это главный инженер шахты, мимоходом. Может, послышалось? Но нет, злобный взгляд не оставлял сомнений.
– А то, что вы молодежь за зэков держите, это как, нормально? – Успел крикнуть ему вслед..
Значит, я должен был молчать, как молчат все? Тогда зачем я здесь? Доносчик? Я писал под своим именем. И выступал открыто на Пленуме. Но все равно на душе не облегчение, а будто виноват в чем-то. Я же еще и виноват… Не выдержал, написал длинное письмо в Москву Вадиму. Был в том письме такой пассаж:
«Поднять народ на хорошее дело, Вадим, мы умеем. Здесь такие ребята, вот с кем бы коммунизм строить. А выходит, их обманули. Зачем „Комсомолка“ тем сентябрьским номером всколыхнула всю страну, дала надежду на голубые города, где все будет по чесноку? Приехали тысячи по призыву партии, а здесь… ни работы, ни жизни».
А Вадим возьми и передай письмо в «Комсомольскую правду». И ведь напечатали! Правда, без дискуссии, на третьей странице. Опять донос? Но тут же прилетела корреспондентка «Комсомольской правды» разбираться. В ситцевой коротенькой юбчонке показывала она днем свои загорелые золотистые ноги, а вечером, сев за стол напротив меня и разговаривая с Володей о местной казахской кухне, мягкой босой горячей ступней нащупала под столом у меня то место, которое сразу затвердело и заныло от желания.
Володя, инженер, к которому я заходил поиграть в шахматы и поговорить за жизнь, все углядел, постелил нам матрас на полу и ушел.
– Ты всегда такой серьезный? – спросила корреспондентка, деловито раздеваясь. – Мне говорили в редакции. Я не верила.
– А ты вообще, вы вообще там, в Москве во что-то еще верите?
Больше мы с ней не разговаривали. И разбираться корреспондентка ни в чем не стала. Очерки тогда делали под копирку. Так и улетела…
Разобрался Петр Качесов, секретарь Горкома партии. Он нашел меня и сказал:
– Ты приходи вечером. Разговор есть, – и дал адрес.
Я пришел к нему домой. Сели. Поллитра на двоих – это немного. Выпили. Помолчали. Достал вторую. Закусили. Поговорили. Мне нравился этот секретарь. Не знаю, участвовал ли он в махинациях с наградами, но со мной говорил он откровенно:
– Не построишь ты тут, парень, никакого города светлого будущего. Мы можем только то, что можем. То, чему и как учили нас. Чтобы создать что-то другое, сначала надо убрать нас, целое поколение. А то и два. Сможешь? Нет!
Я молчал, подавленный его правдой.
– Ну, замутил ты воду, а чего добьешься? Закроют стройку из-за твоих статей. Накажут всех по их рангам. Кому от этого лучше? Обещаю тебе, как старый солдат: чего-нибудь, да построим. Не в первый раз. А ты уезжай учиться куда-нибудь. Дадим тебе хорошую характеристику. Прости фронтовика.
И голос его дрогнул. Или мне показалось?
Хорошо, что эту историю комсомольцев-добровольцев мои давние собеседники – американцы Диана и Джим на белокрылой «Литве» никогда не прочитают…
Уже в Москве я спросил Вадима:
– На что ты рассчитывал, посылая меня в Каратау?
И Вадим ответил:
– Но ты все же попытался. Значит, я в тебе тогда не ошибся. И помни, жизнь обретает смысл, только когда берешь ношу. Другого смысла в этой жизни не ищи, его нет…
Через годы сведет меня случай с жителем тех мест и тот расскажет, во что превратится комсомольская стройка 60-х. Покинут дома оставшиеся без работы люди, и будет он стоять вымершим, с разбитыми ветрами окнами. Не сдержал слова грустный фронтовик…
Только в новом тысячелетии в независимом уже Казахстане оживет горнорудный комбинат, косо-криво созданный в 60-х советских годах на базе Каратауского бассейна фосфоритной руды.
Но об этом я уже узнаю только из справочной литературы…