Часть первая Белый тигр

Глава I
Буря у экватора. – Перекличка каторжников. – Излишнее рвение. – К оружию! – Побег. – Голод – не тетка. – Охотники на людей. – Не все каторжники одинаковы. – Собаки каторги и свободные псы. – Ночь в девственном лесу. – Добыча и тень. – Тигр пятнистый и тигр белый. – Неудачный выстрел, но превосходный сабельный удар. – Месть благородного сердца. – Прощение. – Свободен!..

Исполинские деревья экваториального леса гнулись под порывами ураганного ветра. Яростно громыхал гром. Его раскаты, то приглушенные, то резкие, краткие и длительные, сухие и трескучие, порой причудливые, но всегда жуткие, сливались в единую и бесконечную грохочущую симфонию.
С севера на юг и с востока на запад, на сколько хватало глаз, над верхушками деревьев протянулась громадная черная туча, окаймленная зловещей красноватой полосой. Словно из кратера перевернутого вулкана, из нее сыпались ослепительные молнии всех цветов и форм, сплетаясь в колоссальный фейерверк.
Тяжелые испарения, поднятые беспощадным солнцем со дна бесконечных болот и из глубин непролазных чащоб, превращались в настоящие смерчи. То, что в Европе называют струями дождя, здесь напоминало сплошные потоки расплавленного металла, с мелькающими сквозь них проблесками молний.
Листья летели наземь, словно сносимые лавиной градин или, еще точнее, под натиском струй из миллионов брандспойтов.
Время от времени огромное акажу, гордость девственного леса, валилось на землю как подкошенное; зеленый эбен высотой больше сорока метров и прочный, как рельс, раскачивался из стороны в сторону подобно тростинке; столетний гвианский кедр толщиной в четыре обхвата разлетался в щепки, будто сосновое полено. Другие деревья – симаруба, боко, анжелик, – чьи верхушки касались туч, пали первыми.
Эти гиганты, намертво связанные друг с другом сетью лиан и густо оплетенные цветущими орхидеями, бромелиевыми и ароидными, сначала дрожали, а затем обрушивались все разом, словно от одного удара. Тысячи красных лепестков, похожие на брызги крови, пролитой поверженными лесными великанами, усеивали траву.
Смолкли обезумевшие от страха лесные животные и птицы. Был слышен лишь оглушительный рев урагана, достигавший временами невероятной мощи.
Эта грозная симфония природы, сочиненная демоном бурь и исполняемая хором титанов, бушевала над необъятной долиной Марони – большой реки во Французской Гвиане.
Ночь наступила мгновенно, с особенной стремительностью, обычной для экваториальных областей, где не бывает ни сумерек, ни утренней зари.
И тот, кто еще не привык к этим грозным буйствам тропической природы, был бы весьма удивлен при виде сотни мужчин всех возрастов и разных национальностей, которые выстроились в четыре шеренги под большим навесом, молчаливые, бесстрастные, со шляпами в руках.
Крыша навеса из листьев пальмы ваи грозила ежеминутно сорваться и улететь прочь. Столбы из дерева гриньон шатались от порывов ветра; четыре фонаря, висящие по углам, были готовы погаснуть в любую секунду.
Но лица людей – арабов, индейцев, негров, европейцев – несли на себе печать мрачного безразличия.
Все были босиком, одеты в штаны и блузы из грубой серой ткани. На спинах – большие черные буквы И. и К.[1], разделенные якорем.
Между рядами каторжников медленно прохаживался мужчина среднего роста с невероятно широкими плечами и грубым лицом, разделенным надвое пышными каштановыми усами с длинными нафабренными кончиками. Взгляд его серо-голубых глаз ни на чем не задерживался, но ничего не упускал из виду, придавая лицу незнакомца особое выражение хитрости и двоедушия, вызывающее смутную тревогу у всякого, кто с ним сталкивался.
Отложной ворот и обшлага его темно-синего форменного сюртука были обшиты серебряными галунами. На портупее висела короткая сабля, бившая его по икрам, за поясом – седельный пистолет. В руке мужчина сжимал крепкую дубинку, время от времени с довольным видом проделывая ею нечто вроде фехтовального мулине, и точность жестов выдавала в нем искушенного мастера боя на палках.
Щеголяя козырьком кепи из той же ткани, что и мундир, он пристально озирал с головы до пят каждого из тех, кто стоял в шеренгах и отзывался, услышав свое имя.
Перекличку проводил человек, стоявший перед первой шеренгой, одетый в такую же униформу, но совершенно непохожий на своего коллегу.
Он был высок и худ, но хорошо сложен, с приятным лицом. Важная деталь: у него не было дубинки. Вместо нее он держал в руках маленький блокнот, где были записаны имена.
Он выкрикивал их во весь голос, часто делая паузы, так оглушителен был вой урагана.
– Абдалла!
– Здесь!
– Минграссами!
– Здесь!.. – хрипло ответил индус, дрожавший всем телом, несмотря на удушающую жару.
– О, еще один затрясся как припадочный! – пробурчал мужчина с нафабренными усами. – Симулирует лихорадку. Погоди немного, красавчик… Моя дубинка заставит тебя сплясать тарантеллу!
– Симонен!
– Здесь! – отозвался слабым голосом европеец с бледным лицом и впалыми щеками, едва стоявший на ногах.
– Громче надо отвечать, скотина!
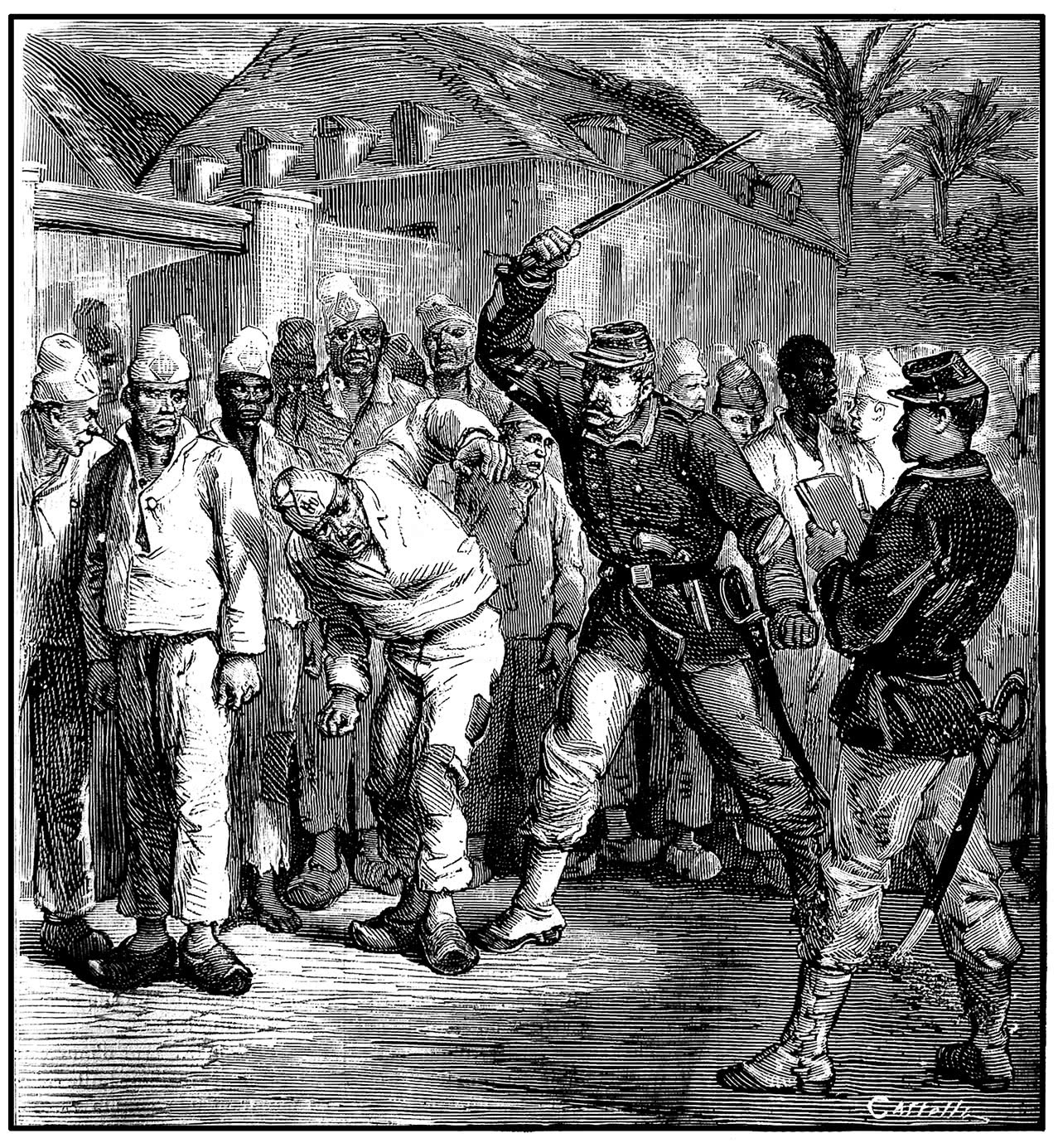
На плечо бедняги с глухим звуком обрушилась дубинка. Согнувшись, он испустил крик боли.
– Ну вот!.. Я знал, что верну ему голос. Ишь орет, как красная обезьяна.
– Ромулюс!
– Здесь! – гаркнул оглушительным голосом громадного роста негр, показав два ряда зубов, которым позавидовал бы даже крокодил.
– Робен!..
Нет ответа.
– Робен! – повторил тот, кто вел перекличку.
– Да отвечай же, мерзавец! – заорал обладатель дубинки.
Ни звука. Только чуть слышный шепот пробежал по рядам каторжников.
– Молчать!.. Собачье отродье… Первому, кто сдвинется с места или вякнет хоть слово, я всажу пулю в рожу, – закончил он, выхватив пистолет.
На несколько секунд наступила тишина, раскаты грома тоже затихли.
И вдруг раздались отдаленные крики:
– К оружию!.. К оружию!
Прогремел выстрел.
– Тысяча чертей и чертова бабушка! Вот это переплет! Робен, конечно, сбежал, а ведь он политический. Провалиться мне на этом месте, если я не получу за это три месяца гауптвахты.
«Сосланного» Робена пришлось отметить как отсутствующего, и перекличка закончилась без дальнейших проволочек.
Мы использовали термин «сосланный», а не «высланный»; первым обозначают людей, осужденных по политическим делам, второй предназначен для тех, кто совершил уголовные преступления. Вот, собственно, единственная и чисто номинальная разница между этими людьми, установленная теми, кто отправил их в этот ад, и принятая среди тех, кто их охраняет. Все остальное было совершенно одинаковым: каторжный труд, пища, одежда и условия содержания. И сосланные, и высланные, смешавшиеся в жуткой тесноте, всего получали поровну, вплоть до щедрых ударов дубинки надзирателя Бенуа, имя которого, как мы уже убедились, ни в коей мере не соответствовало его нраву.
Как уже было сказано, мы находимся во Французской Гвиане, на правом берегу реки Марони, отделяющей наши владения от Гвианы Голландской.
Исправительная колония, где прямо сейчас, в феврале 185… года, разворачивается пролог драмы, которая будет происходить у нас на глазах, называется Сен-Лоран. Это совсем новое учреждение, филиал кайеннской колонии. Каторжников здесь пока немного, человек пятьсот, не больше. Местность очень нездоровая, свирепствует болотная лихорадка, работа по расчистке леса невыносимо изнурительна.
Надзиратель Бенуа – так теперь называется должность прежних надсмотрщиков европейских каторг – сопровождал вверенный ему отряд в барак. Ретивый тюремщик сник – ни дать ни взять лис, угодивший в западню. Дубинка больше не выписывала вензеля в его мощной руке. Вымокшие под ливнем усы печально повисли, а козырек фуражки уже не торчал под молодцеватым наклоном в сорок пять градусов.
Дело в том, что беглец был «политический», а значит, человек очень умный, энергичный и способный на поступок. Побег такого заключенного мог стать катастрофой для стража, коему государство его доверило. Если бы это был обычный убийца или простой фальшивомонетчик, Бенуа думал бы о нем не больше, чем о глотке тростниковой водки.
Зато каторжники были почти счастливы из-за происшествия, что так обескуражило их охранника. Они едва могли скрыть свою радость, невольно отражавшуюся во взглядах, – единственную, впрочем, возможность хоть как-то протестовать против жестоких выпадов чересчур ревностного служаки.
Люди наконец вытянулись в своих гамаках, подвешенных на двух балках, и скоро заснули тем глубоким и крепким сном, которому, при отсутствии чистой совести, способствует изнурительный каторжный труд.
Бенуа же, еще более растерянный, не обращая ни малейшего внимания на проливной дождь и раскаты грома, отправился доложить о перекличке коменданту исправительной колонии.
Тот, разумеется, уже был оповещен о происшествии ружейным выстрелом и криками часового и спокойно предпринимал меры, которые считал необходимыми для начала розыска.
Не то чтобы он надеялся найти беглеца, но таковы были правила. Комендант скорее рассчитывал на голод, этого беспощадного врага каждого одинокого человека в бесконечном тропическом лесу. В самом деле, побеги случались довольно часто, но голод неизменно приводил назад всех, кого увлекла безумная надежда обрести свободу.
И можно сказать, здорово повезло тем, кто помучился лишь от корчей желудка, сумев избежать зубов рептилий, когтей хищников и смертельных укусов ядовитых насекомых.
Впрочем, когда начальник узнал имя беглеца, чья энергия и сила воли были ему хорошо известны, его уверенность значительно поколебалась.
– Он не вернется, – пробормотал комендант. – Это человек конченый.
– Господин комендант, – обратился к нему Бенуа, надеясь, что немного усердия сможет избавить его от справедливого наказания, – я доставлю его вам живым или мертвым… Доверьте это дело мне. От меня он не уйдет.
– Мертвым – это уже слишком… Вам ясно? – сухо оборвал его комендант, человек вполне справедливый, жесткий, но все же умеющий сочетать ужасные обязанности с некоторой гуманностью. – Я уже не раз был вынужден обуздывать ваши зверства. Самоуправство у нас категорически запрещено… вы знаете, что я имею в виду. Предупреждаю вас в последний раз. Итак, постарайтесь вернуть беглеца, если желаете избежать дисциплинарной комиссии, отделавшись неделей ареста, которая ждет вас по возвращении. Ступайте!
Надзиратель резко козырнул и вышел, изрыгая по дороге потоки ругательств, от которых и без того багровое небо, казалось, покраснело еще сильнее.
– О да, я приведу эту сволочь! Ну и дурак же я был: «живым или мертвым»!.. Живым, конечно же, он нужен мне живым! Пуля в бочину – это слишком легкая смерть для такого паскуды. Нет уж, я хочу еще не раз и не два пройтись дубинкой по его спине… И клянусь дьяволом, от нее-то он и издохнет! Но вперед, в путь!
Он вернулся в хижину, где вместе с ним жили еще несколько надзирателей, собрал в ранец кое-какую провизию, взял компас, вооружился мачете, перекинул через плечо охотничье ружье и приготовился выступить.
Только что пробило семь часов вечера. Бегство Робена было обнаружено три четверти часа назад.
Бенуа был старшим надзирателем, начальником смены. Он решил взять с собой еще троих подчиненных, которые беспрекословно собрались в дорогу.
– Послушай, Бенуа, – сказал один из тех, кто оставался, тот самый, что проводил вместе с ним перекличку, – ты же не собираешься выходить прямо сейчас и в такую погоду. Дождись хотя бы, пока закончится ураган. Робен не мог уйти далеко, а завтра…
– Я буду делать так, как считаю нужным! Я здесь командую и не спрашиваю твоего мнения, – грубо оборвал его тот. – Кроме того, этот мерзавец постарается переплыть Марони, чтобы укрыться у индейцев из племени араваков или галиби. Он пойдет вдоль берега. Я хочу схватить его до того, как он успеет построить плот. Черт подери! Я разгадал его план. Он так же глуп, как и все остальные. К тому же позавчера я видел нескольких грязных краснокожих, которые рыскали возле северной засеки… Так что, голубчики, вас ждет сюрприз! Что скажешь, Фаго, покажем им, почем фунт лиха?
Услышав свое имя, Фаго, пес породы барбет весьма злобного вида, со взъерошенной шерстью, короткими крепкими лапами и умным взглядом, вылез, потягиваясь, из-под грубо оструганного стола.
«Фаго» на тюремном жаргоне означает «каторжник». Бенуа решил, что будет остроумно дать такую кличку собаке, которая, ежедневно находясь среди ссыльных, вполне разделяла ненависть к ним своего хозяина.
Существует довольно оригинальный, но, впрочем, легко объяснимый феномен: псы, принадлежащие каторжанам, просто ненавидят своих собратьев, которыми владеют свободные люди, и всегда готовы встретить их особенно злобным лаем – так уж их воспитали хозяева. Сравните их с умнейшими индейскими собаками, с ушами торчком, тонкими длинными мордами, живым взглядом и безошибочным нюхом, способным отличить по запаху свободного белого или черного человека.
Подобным же образом собаки стражников способны обнаружить каторжника на невероятной дистанции и выдать его местоположение своим хозяевам оглушительно визгливым лаем.
Более того, когда эти животные, принадлежащие к одному роду, встречаются, им не требуется много времени, чтобы разобраться, кто есть кто. Без малейших прелюдий, обычных для представителей семейства псовых, они бросаются друг на друга, точнее, свободный пес яростно атакует противника, едва его завидев. Последний, с поджатым хвостом пробирающийся в зарослях и опасливо крадущийся между хижинами, подражая повадкам своего хозяина, оборачивается, начинается ужасная драка, и не всегда напавший выходит из нее победителем.
Бенуа прослужил в Гвиане довольно долго, неплохо знал здешние края и стал отличным следопытом. С помощью своего четвероногого спутника он мог бы соперничать с лучшими растреадорами Ла-Платы.
Надзиратель привел Фаго в барак, снял с крючьев гамак беглеца и дал собаке как следует обнюхать его, прищелкивая при этом языком, как это принято у охотников:
– Ищи, Фаго! Ищи… Давай, песик, ко мне!..
Пес обнюхал ткань, глубоко вдохнул воздух, завилял хвостом и тявкнул, будто говоря: «Я все понял, хозяин!», а затем бросился наружу.
– Мерзкая погода, как раз для побега, – пробурчал один из охранников, промокший до нитки под проливным дождем, не успев пройти и десяти метров, – черта с два мы сможем найти этого поганца.
– Точно, – добавил другой, – того и гляди наступишь на проклятого гража или завязнешь в зыбучей саванне.
– В такую бурю даже его пес ничего не учует, – сказал третий. – Дождь давно уже смыл все следы и запах вместе с ними. Удачно Робен выбрал время, лучше не придумаешь.
– Эй, вы там, а ну вперед! Слышите? Мы тут не в игрушки играем. Минут через двадцать ураган стихнет, покажется луна и все будет видно как днем. Пойдем вдоль берега Марони, авось нам повезет.
Четверо мужчин с собакой впереди, выстроившись вереницей как индейцы, бесшумно двинулись по едва заметной тропинке среди зарослей, ведущей к речному берегу.
Охота на человека началась.
Пока каторжники строились на перекличку, часовой на посту у лагерных построек явственно разглядел при вспышке молнии, что один из них покинул строй и бросился бежать со всех ног.
Ошибиться было невозможно. На беглеце была темная арестантская роба. Солдат не колебался ни секунды, тем более что требования инструкции были совершенно категоричны. Он мгновенно прицелился и выстрелил, даже не подав команду «Стой! Кто идет?».
Но, несмотря на беспрерывные сполохи молний, при которых хорошо было видно фигуру беглеца, часовой самым естественным образом промахнулся.
Каторжник услышал свист пули, наддал и скрылся в зарослях. Он исчез из виду в тот самый момент, когда охрану лагеря подняли по тревоге.
Не обращая ни малейшего внимания на дождь, ветер и молнии, он углубился в чащу с уверенностью человека, знакомого здесь с каждой кочкой. Благодаря вспышкам молний он отлично ориентировался и взял влево, оставив колонию за спиной, а реку, таким образом, справа.
Беглец следовал по едва заметной тропинке, обнаруженной им прежде в густых зарослях. После получаса быстрой ходьбы он очутился на обширной вырубке, усеянной стволами деревьев, сваленных человеком и уже частично распиленных.
Это была одна из лесоразработок, где трудились каторжники. В нескольких шагах от расчищенного пространства торчал громадный пень, примерно метр высотой, оставленный, по обыкновению, гвианскими первопроходцами.
Беглец остановился у пня и принялся что-то на ощупь искать у его подножия. Гроза заканчивалась, молнии вспыхивали все реже, и каторжник уже не мог разглядеть нужную ему примету.
– Это, должно быть, здесь, – тихо произнес он, подняв с земли обломанную ветку в виде рогатины, будто бы брошенную здесь ненароком, и принялся быстро ковырять землю у подножия пня. Земля была податливой, рыхлой, словно ее недавно копали. Концы рогатины, твердые как железо, вскоре наткнулись на какой-то предмет, издавший металлический звук.
Незнакомец без усилий вытащил из ямы жестяной короб, вроде тех, в каких хранят корабельные сухари, примерно сорока сантиметров в длину, ширину и высоту.
Короб несколько раз опоясывала длинная гибкая лиана, с одной стороны из нее же были устроены петли, похожие на лямки армейского ранца. Человек продел в них руки, взвалил короб на спину, вынул из тайника мачете с коротким, слегка изогнутым клинком и деревянной рукоятью, обмотанной латунной проволокой, взял в левую руку рогатину и, опустившись на землю, прислонился на несколько минут к огромному пню.
Но вот его высокая фигура гордо выпрямилась.
– Наконец я свободен, – сказал он. – Свободен, как дикие звери, среди которых мне предстоит отныне жить. Мне, как и им, принадлежит теперь этот бескрайний лес с его безлюдными чащобами! Пусть меня задушит удав, разорвет тигр, сожжет солнце, сгложет лихорадка или убьет голод. Лучше такая смерть, чем жизнь на каторге. Ад и здесь, и там, но тут, по крайней мере, я умру свободным человеком! И пусть только попробуют отнять у меня этот клочок свободы! – закончил он с неописуемой силой неукротимой энергии.
Старший надзиратель не ошибся в своих предсказаниях относительно грозы. Буйство экваториальной природы чудовищно, но кратковременно. Не прошло и получаса, как тучи рассеялись. Луна медленно выплыла из-за темной завесы прибрежных кустарников, засияв неизвестным в европейских широтах блеском, отразившимся в еще неспокойных водах реки и каплях дождя на листьях деревьев. То здесь, то там нежнейшие голубоватые лучи лунного света проникали сквозь густой свод листвы, скользя меж гигантских стволов, вздымающихся из непролазной мешанины цветов и листьев подобно бесконечной колоннаде собора.

Беглец не был глух к красоте умиротворенной природы, но время было не на его стороне. Чтобы завершить задуманное, ему следовало бежать как можно быстрее, оторвавшись от преследователей на безопасное расстояние.
Он резко вывел себя из состояния молчаливого созерцания, последовавшего за его страстным монологом, выбрал новое направление и пустился в путь.
С тех пор как Робен стал заключенным каторги на Марони, он видел немало побегов. И ни один из них не удался. Те, кто попытался сбежать, либо были пойманы стражниками, либо выданы голландскими властями, либо погибли от голода. Некоторые, предпочтя каторжный режим столь страшной развязке своей рискованной затеи, возвращались сами, изнемогая от непомерных лишений, и снова становились пленниками.
Они отлично знали, что военный трибунал добавит им за побег от двух до пяти лет в двойных кандалах, но что за печаль! Они все же возвращались, так велика у человека жажда жизни, сколь бы убогой эта жизнь ни была.
Не таков был наш герой. Несколько лет назад он уже поставил на кон свою жизнь, без колебаний посвятив ее торжеству идеи; смерть не страшила его. Он будет тщательно избегать встречи с голландцами. Это просто – ему всего лишь надо оставаться на правом берегу реки. Ему плевать на голод. Атлетическое сложение и неукротимая энергия позволят ему продержаться довольно долго. А если он все же не выдержит… Что ж, он будет не первым, чей скелет, обглоданный муравьями-листорезами до гладкости анатомического пособия, найдут в здешней глуши.
Но впрочем, он не собирался умирать. Нет, он был мужем и отцом, этот храбрец, не сломленный тяжелейшим каторжным трудом, не укрощенный невзгодами и не склонивший головы ни перед одним тюремщиком.
Он хотел жить ради своих близких. А когда человек подобной закалки говорит: «Я хочу!», это значит – он может.
Оставалась возможность тщательно организованной погони. В ней, несомненно, примут участие самые ловкие следопыты колонии, которые ни за что не упустят возможность продемонстрировать все свои способности.
Ну что же, пусть так! Раз теперь он стал дичью, ему придется сбить охотников со следа. Прежде всего следовало, если получится, направить их поиски в другую сторону.
– Они идут за мной по пятам, – сказал он сам себе. – Конечно же, они решили, что я собираюсь добраться до голландских владений. Не станем их в этом разубеждать, напротив, поддержим в них эту иллюзию. Для этого придется построить плот.
С этими словами он развернулся на девяносто градусов и без промедления направился к реке, шум которой доносился до него с правой стороны.
– Отлично, это грохот перекатов на Синих Камнях, в километре от них вверх по течению я найду все, что мне нужно.
Двигаясь бесшумно, как краснокожий на тропе войны или во время охоты, он пошел прямо к берегу, до которого было не больше трех четвертей часа ходьбы.
Осуществление подобного плана требовало невероятной ловкости и смелости. Робен знал, что его преследуют. Он также понимал, что погоня пойдет по Марони, либо вниз, либо вверх по течению от Сен-Лорана. Одно из двух: охотники либо уже миновали то место, где он собирался построить плот, либо еще не добрались до него. В первом случае беспокоиться было не о чем, во втором – он сумеет затаиться в прибрежных зарослях и ускользнуть от самого пристального взгляда врага. Что касается более или менее продолжительного пребывания в воде в компании пресноводных акул, пираний, электрических угрей и скатов-хвостоколов, он даже не думал о таких пустяках, дело привычное.
Беглец не мог знать заранее, какое из двух предположений окажется верным. Но поскольку он не видел и не слышал ничего подозрительного, то без промедления приступил к делу. Отыскать пару длинных тонких стволов трубного дерева, блестящих и гладких, словно серебряные брусья, и свалить их парой ударов мачете было для него делом одной минуты.
Затем он решительно зашел в воду по грудь и оказался в густых зарослях водяного растения из семейства ароидных, называемого здесь «мукумуку» и в изобилии произрастающего по берегам Марони. Эти стебли с красивыми зелеными соцветиями очень легки, срезаются как бузина, но при этом обладают достаточной прочностью. Робен выбрал три десятка подходящих побегов длиной более двух метров каждый, бесшумно их срезал, укоротил верхушки, стараясь не обжечься вытекающим из растений едким соком, и сделал из них настил поверх двух шестов из трубного дерева, напоминающий штакетник для садовой изгороди.
У него получилось что-то вроде платформы примерно двух метров в ширину и в длину, которая отлично держалась на воде, но в действительности не смогла бы нести вес взрослого мужчины. Хотя превосходно подходила к назначенной ей роли.
Покончив с этим, он снял свою каторжную робу и набил ее листьями, придав ей, насколько возможно, вид человека, сидящего на корточках, пристроил в руках чучела толстый стебель с листом, похожий на короткое весло, и вытолкнул импровизированный плот из водяных зарослей.
Начинался прилив, который ощущается даже в восьмидесяти с лишним километрах от устья мощного речного потока. Вода сразу же подхватила плот и медленно повлекла его, кружа, вверх по течению, мало-помалу приближая к голландскому берегу.
– Отлично, – воскликнул беглец. – Я не удивлюсь, если через какие-нибудь четверть часа мои голубчики упустят добычу и погонятся за тенью, то бишь за этим чучелом.
Полагая, что лучший способ спрятаться, что в лесной глуши, что в городе, – это не прятаться вовсе, а выйти на торный путь, Робен без колебаний ступил на тропинку, которой несомненно должны были воспользоваться его преследователи.
Он двигался с бесконечными предосторожностями, предпринимая невероятные усилия, чтобы не нарушить молчание ночи, останавливаясь время от времени в попытках уловить малейший шум, нехарактерный для океана зарослей.
Ничего!.. Только звук последних капель дождя, падающих на блестящие под лунным светом листья, только таинственное скольжение рептилий в высокой траве, только тихое движение насекомых по стеблям растений и еле слышное хлопанье крыльев промокшей птицы.
Все это время он пробирался под темными сводами лесных великанов, чуть голубоватыми в сиянии луны, сквозь тучи ночных светлячков, прочерчивавших ночную мглу безобидными молниями.
Вскоре он оказался у большой протоки шириной около пятидесяти метров, известной как речка Балете. Он знал, что этот приток Марони встретится на его пути и что ему придется преодолеть его как можно скорее, чтобы между ним и преследователями стало одной преградой больше.
Для такого могучего пловца, как Робен, переплыть эту речушку глубиной всего около пяти метров у устья, не составило бы особого труда.
Но прежде чем войти в воду, он остановился, перевел дух и еще раз внимательно осмотрел берег. И вовремя, поскольку благодаря особой акустике тропической ночи он тут же ясно различил шепот голосов, буквально пригвоздивший его к месту.
– Клянусь тебе, это плот.
– Я ничего не вижу.
– Да вон же он, смотри… Прямо напротив нас, в ста метрах от берега. Видишь, темное пятно. А на нем человек. Я отчетливо его вижу.
– Ты прав.
– Это плот, а на нем человек. Точно. Но он поднимается вверх по течению.
– Вот дьявол, сейчас же прилив. Его закружит и выбросит на голландский берег.
– Ну нет, давай без глупостей. Мы что, зря сюда притащились?
– А что, если я ему прикажу вернуться к нашему берегу?
– Ну ты и бестолочь! Если бы это был простой уголовник, я бы слова не сказал. Такой бы вернулся только из страха схлопотать пулю. Но политический… Никогда!
– Да, твоя правда. Особенно Робен.
– Да, он крепкий парень, нечего сказать.
– Так и есть, но нам надо схватить этого крепыша.

– Был бы здесь Бенуа!
– А, ну да. Бенуа теперь не догнать. Он переправился через протоку на каком-то корыте и теперь черт знает где, ушел далеко вперед.
– Тогда огонь по плоту!
– Какая жалость! Я никогда не имел ничего против Робена, он был лучшим из них, самым смирным.
– Ну да, так всегда и бывает. Бедняга. Ладно, пристрелим его, а аймары закончат работу.
– Огонь!
Три мгновенных ярких вспышки одновременно осветили ночную мглу. Раздались три громких выстрела, заставившие взлететь стаю перепуганных попугаев.
– Вот мы глупцы! Тратим патроны понапрасну, когда могли бы легко подцепить плот.
– Это как?
– Проще простого. Лодка, на которой Бенуа переправился через протоку, стоит у другого берега. Я войду в воду, схвачу лиану, которая служит для переправы, переберусь на тот берег, возьму лодку, вернусь за вами… и мы продолжим охоту.
– И вернемся с добычей!
Сказано – сделано, и вот трое мужчин, яростно орудуя веслами, спустились по протоке Балете и взяли курс на середину Марони.
Робен, застывший как изваяние, слышал все. Решительно, удача была на его стороне. Едва пирога скрылась из виду, он схватил ту же лиану, перерубил ее ударом мачете и бросился в воду, сжимая конец растения в руке.
Растительный канат, за который он держался, под воздействием течения описал четверть окружности, центр которой находился на противоположном берегу, там, где он был привязан. Все произошло бесшумно, без всякого труда и даже без малейшего всплеска воды.
Через десять минут Робен был на другом берегу. Не желая совершить ту же ошибку, что и преследователи, оставившие ему средство для переправы, он перерезал лиану, и она тотчас же затонула.
– Вот как! Значит, меня преследует Бенуа, – сказал он себе. – Он впереди меня. Отлично. Пока что я иду за охотниками, моя уловка сработала. Продолжим.
Беглец достал из короба сухарь, сгрыз его прямо на ходу и запил глотком тафии. Подкрепившись этим спартанским завтраком, он ускорил шаг.
Часы шли за часами, луна скрылась за горизонтом. Вскоре над верхушками сверкнут алые лучи дневного светила. Весь лес, казалось, постепенно пробуждался ото сна.
К жалобному воркованию древесных курочек токро, монотонным гнусавым крикам агами и резкому хохоту саванного пересмешника вдруг добавился нетерпеливый и отрывистый лай собаки, взявшей след.
«Это либо индеец на охоте, либо надзиратель, – подумал Робен. – И то и другое плохо. Индеец захочет получить за меня награду. Что до надзирателя… Впрочем, я готов. Уж с ним я разберусь».
В лесу стремительно светлело. Деревья здесь были более высокими, но росли не так часто и принадлежали к тем видам, что предпочитают более влажные места. Повсюду вздымались величественные нежно-зеленые плюмажи пальмы асаи, которую здесь также называют пино, ее присутствие означало близость пересохших болот, известных как пинотьер.
Как только Робен вышел на прогалину, мгновенно наступил день. Он едва успел спрятаться за гигантским кедром, опасаясь быть застигнутым врасплох при резком вторжении солнечного света.
Собачий лай приближался. Беглец сжал в руке рогатину и затаился.
Через минуту грациозное животное размером с молодую косулю, покрытое короткой светло-коричневой шерстью, пронеслось мимо него со скоростью молнии. Это был кариаку, гвианская разновидность оленя.
В тот же момент менее чем в двадцати метрах от места, где укрылся Робен, произошло, если так можно сказать, внезапное обрушение какой-то чудовищной массы. Это нечто отделилось от мощного ствола дерева боко и прыгнуло с опозданием на несколько секунд на то место, где был кариаку, которому удалось ускользнуть.
Это был огромный ягуар. Услышав лай собаки, он залег в засаду, надеясь напасть на дичь раньше охотника.
Человек не издал ни звука, не повел даже бровью и оставался неподвижен. Заметив его, зверь от неожиданности несколько подался назад. Но, настроившись на бросок, он уже не мог противостоять своему порыву, как пуля, выпущенная из ружья.
В то же время ягуар был удивлен появлением Робена и, возможно, обескуражен его решительным видом. Так что он снова прыгнул, пролетел в трех метрах над головой человека и, вонзив когти в ствол дерева, под которым тот стоял, растянулся на ветке с глухим рычанием. Глаза его горели, усы встопорщились, морда оскалилась.
Глядя прямо в глаза страшной кошке, с рогатиной в руке, человек напряженно ждал нападения. Но шум ломающихся веток позади заставил его обернуться.
В пяти шагах он увидел нацеленный на него ствол ружья… И тут же услышал требовательный грубый голос:
– Сдавайся… или умрешь на месте!
Губы Робена скривились в презрительной улыбке: он узнал голос старшего надзирателя Бенуа. Заносчивость каторжного держиморды, разыгрывающего средневековую мелодраму, выглядела фиглярством, особенно если учесть, что над их головами щелкала клыками огромная кошка, которая драла когтями твердую как железо древесную кору, словно это была бумага.
Робен снова посмотрел в глаза ягуара, медленно, как укротитель, тщательно выверяя каждое свое движение, избегая резких жестов, способных привести к катастрофе.
Животное прищурило глаза, зрачки сузились в вертикальные щелочки, оно было словно загипнотизировано.
Надзиратель, держа ружье обеими руками, стоял в позе Вильгельма Телля, каким его изображают на раскрашенных картинках для детей, то есть выглядел нелепо.
– Ну, мерзавец! Чего молчишь?
Над поляной раздалось чудовищное мяуканье зверя, которое, вырвавшись из его разгоряченной глотки, превратилось в яростный рык.
– Ага, – воскликнул Бенуа, скорее удивленно, чем испуганно, – двое на одного. Так разберемся с ними по очереди!
Надзиратель был, в общем, не робкого десятка; а впрочем, какой мужчина, хорошо вооруженный, да еще и умеющий управляться с оружием, стал бы колебаться, оказавшись в подобных обстоятельствах?
Он хладнокровно прицелился в ягуара и выстрелил. Заряд крупной дроби задел щеку животного, раздробил плечо, срезал шерсть и испещрил шкуру кровавыми следами.
Рана была опасной, возможно даже смертельной, но этого было недостаточно, чтобы остановить зверя на месте.
И надзиратель тут же в этом убедился. Не успел еще стихнуть звук выстрела, как животное, несмотря на ужасную рану, бросилось на незадачливого охотника и свалило его одним ударом.
Бенуа почувствовал когти, вонзившиеся в его тело, ему показалось, что зубчатая шестерня рвет его тело на куски. Огромная разверстая пасть с чудовищными клыками была лишь в нескольких сантиметрах от его лица.
Он машинально попытался остановить ее своим ружьем. Мощные челюсти сомкнулись на шейке приклада, перекусив ее в одно мгновение у зарядной части.
Надзиратель понял, что пропал, и даже не стал звать на помощь… Какой смысл? Он закрыл глаза в ожидании последнего удара. Но тут Робен, чье благородное сердце не ведало ненависти, бросился вперед, опережая мысль действием.

Он не колеблясь схватил ягуара за хвост и дернул так сильно и, очевидно, болезненно, что тот, разъярясь еще сильнее, выпустил свою жертву и кинулся на наглеца, посмевшего бросить ему столь дерзкий вызов.
Но перед ним стоял грозный противник. Каторжник отбросил рогатину и занес мачете в правой руке. Клинок, направленный железной рукой, обрушился на шею зверя, мощную и мускулистую, как у бычка.
Два стремительных фонтана крови брызнули в пульсирующем порыве, пролившись в разные стороны кроваво-пенистым дождем.
Надзиратель лежал на земле, его бедро было распорото до кости. Сломанное пополам ружье было столь же бесполезно, как черенок от метлы.
Между ним и беглецом распростерлось содрогающееся в последней агонии тело животного.
Робен спокойно обтирал травой окровавленный клинок. Казалось, он сделал самое обычное дело и даже не отдавал себе отчета, что совершил невероятный подвиг.
Никто не проронил ни слова, тишину нарушал лишь визгливый лай Фаго, который яростно выражал свои чувства на порядочном расстоянии.
– Ну что, давай!.. Настал мой черед, – сказал наконец надсмотрщик. – Закончи работу зверя.
Робен стоял неподвижно как статуя, скрестив руки на груди, и не отвечал. Он, казалось, даже не слышал Бенуа.
– Да брось, к чему церемонии. Прикончи меня, и делу конец. На твоем месте я бы не мешкал.
Ни слова в ответ.
– Ага, ты наслаждаешься триумфом… Да за тебя уже сделали половину работы. Пятнистый тигр помог тигру белому…[2] Проклятье, он здорово меня помял… Ничего не вижу… мне конец… подыхаю.
Кровь лилась ручьем из его зияющей раны. Бенуа потерял сознание, ему грозила неминуемая смерть от быстрой кровопотери.
Вступив в битву с ягуаром, Робен поддался мгновенному порыву, отчасти из чувства самосохранения, начисто забыв о былых оскорблениях и избиениях.
Он уже не помнил о каторжном аде, воплощенном в жестокости Бенуа. Не было больше ни дубинки, ни проклятий, ни держиморд, ни засад, ни погони. Он видел лишь человека… раненного, умирающего.
У Робена не было ничего подходящего для перевязки, но на помощь пришел опыт.
Пинотьер, или пересохшая саванна, начинался в нескольких метрах от места трагедии. Каторжник бросился туда, раздвинул высокую траву и принялся быстро рыть перегной, образованный стеблями и листвой растений.
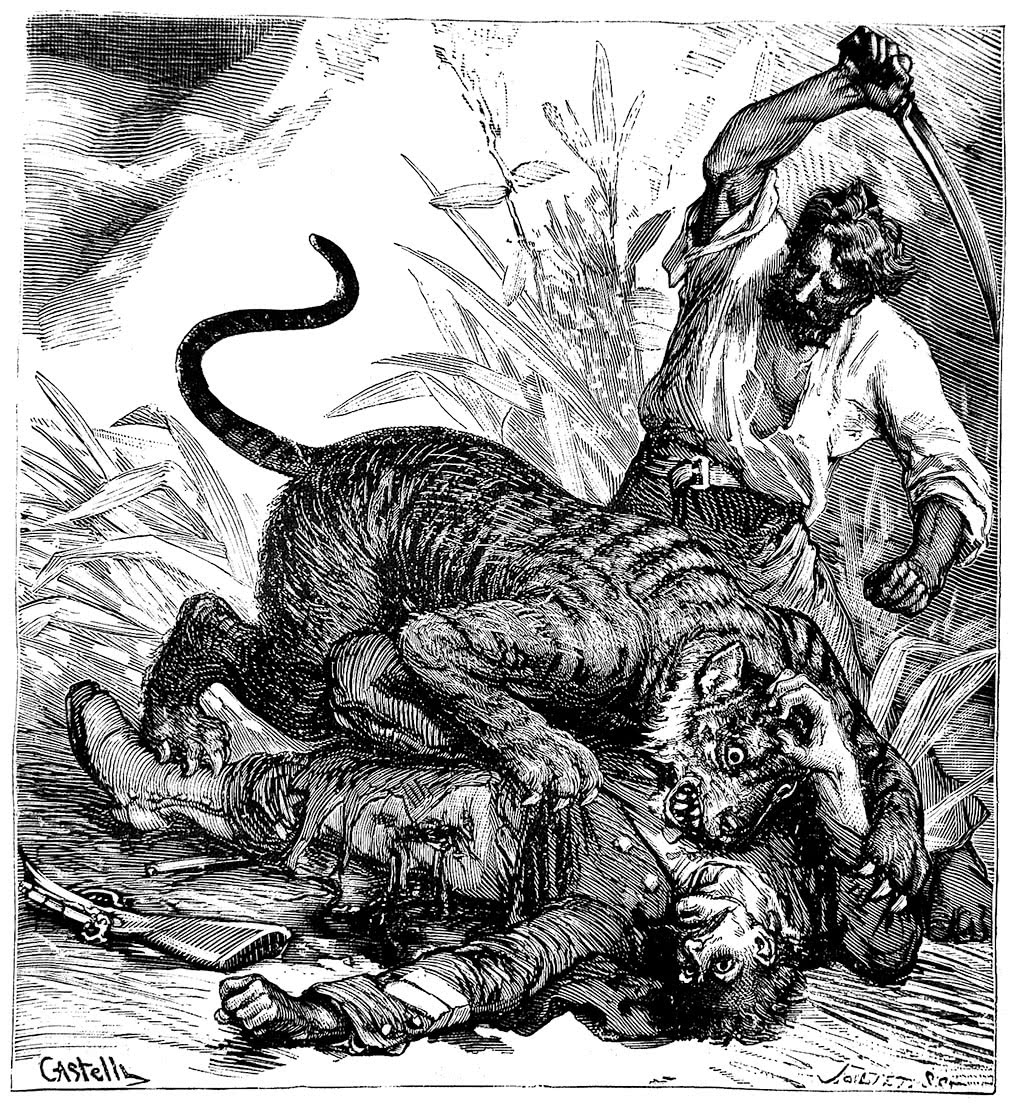
В несколько минут он добрался до слоя клейкой сероватой глины.
Набрав большой ком, размером с человеческую голову, он вернулся к раненому, который все еще был без сознания. Оторвав рукав рубашки надзирателя, Робен разодрал его на мелкие клочки наподобие корпии, смочил их тростниковой водкой и наложил на рану, предварительно сомкнув ее края. Затем он взял немного глины, размял ее и стал накладывать слой за слоем на раненую ногу в виде циркулярной гипсовой повязки. Кровь, уже пропитавшая ткань, не могла просочиться сквозь толстый слой глины.
Теперь Робен обернул все большими свежими листьями и крепко перевязал лианами.
Ужасная рана от бедра до колена теперь могла зажить первичным натяжением, и если не случится воспаления, то Бенуа скоро вернется в строй, как если бы ему на помощь пришел опытный хирург.
Вся операция, проделанная с необыкновенной ловкостью, заняла не более четверти часа. Бледные щеки раненого начали розоветь.
Он вздрогнул, глубоко вздохнул и еле слышно прошептал:
– Пить…
Робен сорвал длинный лист пальмы ваи, свернул из него рожок и побежал к яме, из которой он добыл глину. Та уже начала наполняться прозрачной водой.
Он приподнял голову раненого, тот жадно напился и открыл наконец глаза.
Выражение лица надзирателя, когда он осознал, что над ним склонился каторжник, было неописуемым. Однако затем в Бенуа проснулась его привычная жестокость, он попытался встать, чтобы защищаться, а может быть, даже перейти в нападение.
Но острая боль пригвоздила его к земле. Зрелище мертвого ягуара окончательно вернуло его к реальности. Ну надо же! Тот самый Робен, которого он преследовал в слепом гневе, спас его от смертоносных когтей ягуара, а теперь с полным самоотречением перевязал его рану и утолил жажду?
Любой другой на его месте склонился бы перед таким благородством, заговорил бы о велении долга, о приказе, но в конце концов протянул бы руку и сказал спасибо.
Бенуа же разразился проклятиями!
– Ну ты и тип! Я бы на твоем месте не сделал ни того ни другого… Хлоп – и до свидания, и нет больше Бенуа. Отплатил бы мне разом за все свои шишки.
– Нет, – холодно ответил ссыльный. – Человеческая жизнь священна. Кроме того, есть кое-что лучше мести.
– И что же это, интересно, такое?
– Прощение!..
– Серьезно? В любом случае можешь не надеяться, что я отплачу тебе тем же. Дай только выбраться из этой передряги, и однажды я тебя поймаю.
– Как вам будет угодно. Я просто выполнил свой долг, как любой человек. Но если нам доведется еще раз столкнуться лицом к лицу, я буду защищать свою свободу. Так что не советую. И еще. Мне не нужна благодарность. Просто помните, что среди тех, кого отправил сюда закон, есть не только преступники, но и невиновные. Никогда не злоупотребляйте своей силой в отношении тех и других. Закон, который вы представляете, лишь ограничивает свободу, но не ставит целью мучить людей. Прощайте! Я забуду обо всем зле, что вы мне сделали.
– До встречи! Зря ты оставил меня в живых, Робен!
Каторжник даже не обернулся, он уже исчез в лесной чаще.
Глава II
Великолепная, но бесплодная природа. – Голод. – Одиннадцать скелетов. – Каторжники-людоеды. – Что такое белый тигр. – Капуста весом в тридцать килограммов. – Первый краснокожий. – Еще один враг. – Неблагодарность и предательство. – Продан за стаканчик водки. – По-прежнему один. – Страшное падение. – Умирающий надсмотрщик наедине с обезглавленным ягуаром. – Лихорадка. – Почему концерт обезьян-ревунов можно назвать настоящим бенефисом. – Опять этот индеец. – Охота на человека продолжается. – Логово белого тигра.

Робен шагал и шагал, не в силах отделаться от мысли о том, что он все еще недостаточно далеко ушел от своих палачей. Удивительно, но все это время ему удавалось держаться как раз того направления, которое он наметил для себя прежде. Представьте себе одинокого человека посреди океана, в утлом суденышке, без припасов и компаса, но верно ориентирующегося в пространстве.
Девственный лес с его непроницаемым куполом листвы, бесконечным ковром из трав и кустарников мог предложить не больше ориентиров, чем однообразные морские волны.
С момента побега прошло уже три дня. Робену удалось преодолеть изрядное расстояние – никак не меньше пятидесяти километров «на выпуклый глаз», как говорят моряки. Двенадцать с половиной лье[3] экваториального леса – это бесконечность. Теперь беглецу можно было не бояться встречи с цивилизованными людьми.
И тем не менее ему все еще угрожало множество опасностей, одна из которых составляла беспрестанную смертельную угрозу.
Это был голод! Голод, неизбежный для путешественников, чиновников, присланных из метрополии, и колонистов, если только они не смогли заблаговременно запастись нужным количеством провизии. Голод был вечным бичом и для местных жителей, негров и индейцев, особенно когда им не удавалось собрать урожай, достаточный для того, чтобы пережить сезон дождей.
Не думайте, что эти великолепные деревья, на создание которых природа, как может показаться, израсходовала все свои творческие силы, исчерпала всю сокровищницу своего мастерства, способны дать человеку необходимое для него пропитание.
Нет. Вся эта пышная растительность не дает ни фруктов, ни ягод. Ни апельсиновых деревьев с золотыми плодами, ни кокосовых пальм со вкуснейшими орехами, ни сладких бананов, ни манго с освежающей мякотью и легким скипидарным запахом, ни даже хлебного дерева, последнего спасения путешественника, – нет, ничего этого не растет в диком виде в бесконечных здешних лесах.
Да, все эти плоды можно найти в Гвиане повсюду, но лишь там, где живут люди, там, куда их привезли и посадили.
Вдали от человеческого жилья, за пределами весьма ограниченной зоны, человеку столь же затруднительно утолить голод, как утолить жажду посреди соленых волн океана.
Но как же охота? Или рыбалка? Может ли безоружный человек добыть зверя или изловить рыбу без удочки?
Автор этих строк побывал в лесах Нового Света. Он голодал и томился жаждой в той же пустыне с буйной растительностью, где сейчас сражается наш герой. Затерянный посреди невообразимой мешанины стволов, ветвей и лиан, потеряв из виду носильщиков с припасами, автор случайно наткнулся на то, что даже спустя несколько месяцев жизни в цивилизованном мире вызывает у него неописуемый ужас и необъяснимую дрожь.
У небольшой протоки с пресной прозрачной водой под громадным анжеликом с широкими «аркабами» белели одиннадцать скелетов. Да, вы не ошиблись: одиннадцать скелетов!
Одни лежали на спине, скрестив на груди руки и раскинув ноги; другие – судорожно скорчившись; некоторые зарылись головой в землю, очевидно грызя ее в попытках утолить голод; несколько несчастных, несомненно арабы, встретили смерть стоически, присев на корточки.
За полгода до этой незабываемой встречи одиннадцать заключенных бежали из исправительной колонии Сен-Лорана. Больше их никто никогда не видел. Все они умерли от голода… А затем муравьи-листорезы очистили их тела до костей.
Капитан Фредерик Буйе, один из самых блестящих офицеров нашего военно-морского флота, к тому же одаренный писательским талантом, упомянул еще более чудовищный факт в своем прекрасном труде о Гвиане[4].
Беглые каторжники, обессилевшие от голода, были убиты собственными товарищами. Наше перо отказывается описывать последовавшие за этим преступлением отвратительные сцены антропофагии.
Вот какие испытания уготовила Робену его страстная любовь к свободе. Бежав из колонии с дюжиной сухарей, сэкономленных из скудного каторжного рациона, несколькими кукурузными початками да горстью зерен кофе и какао-бобов, этот неустрашимый человек рассчитывал предпринять невероятный поход к собственной свободе на столь скромном пайке.
Он уже не раз запускал руку в жестяной короб, этот неказистый ранец, сделанный из сухарного ящика, подобранного за складом в колонии. Во всяком случае, он прекрасно справлялся со своей задачей, предохраняя от влажности и насекомых скудный провиант беглеца.
Эти жалкие крохи были способны разве что заглушить рези в желудке. Путника начал терзать голод. Он сжевал несколько зерен кофе, запил их глотком воды из ручейка и уселся на поваленный ствол дерева.
Робен просидел так довольно долго, уставившись невидящим взглядом на течение воды, слыша лишь пульсацию собственной крови, находясь во власти головокружения.
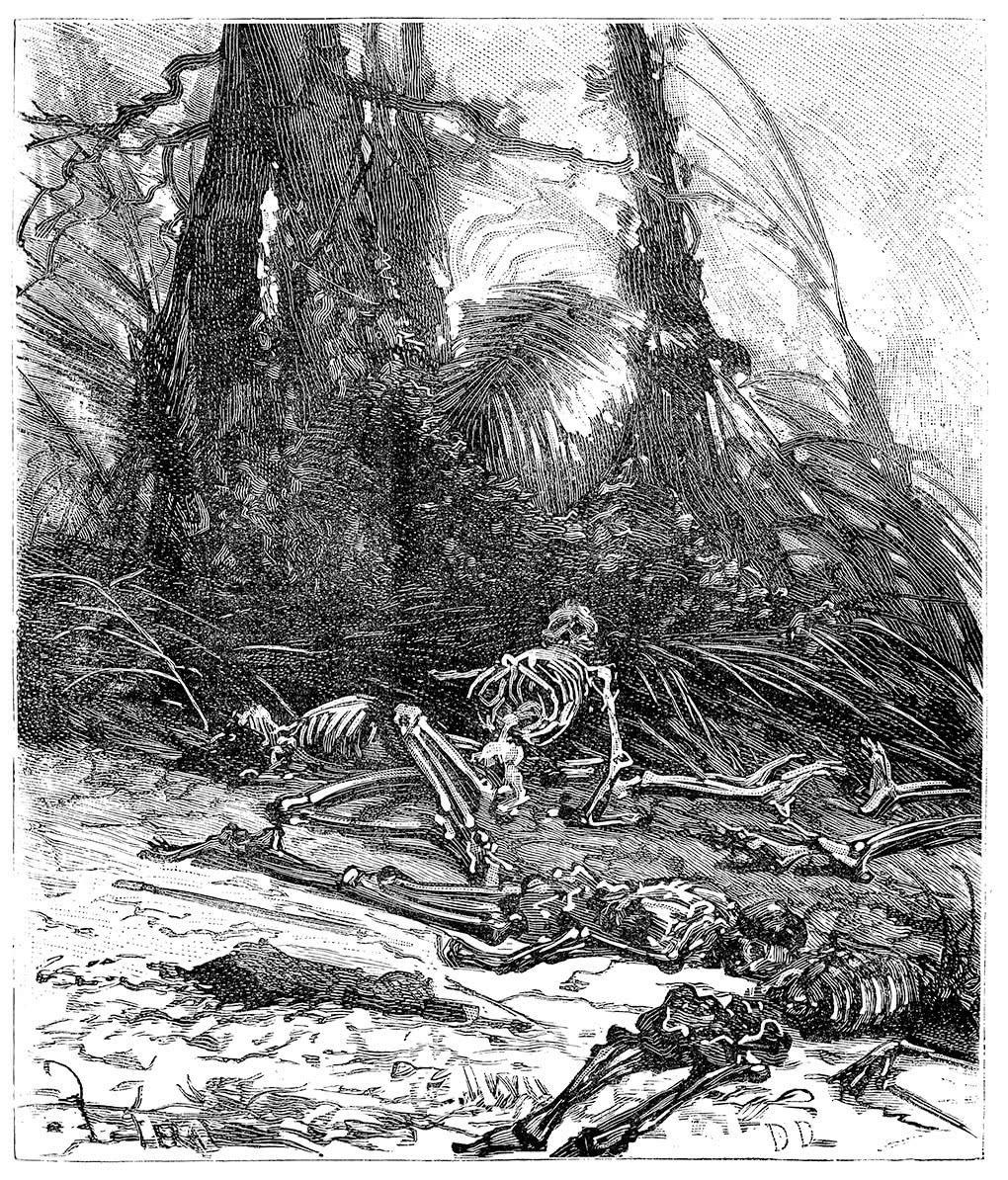
Он хотел было встать и продолжить путь, но не смог. Его ноги распухли, нещадно исколотые иглами авары, и отказывались повиноваться. Беглец едва смог стянуть башмаки – хотя каторжники обычно ходят босиком, администрация все же выдает им башмаки и сабо. Но длинные и прочные, как железо, иглы легко прокалывают толстые подметки.
– Сдается, – сказал он сам себе с горькой улыбкой, – что первые дорожные неприятности куда серьезнее, чем я себе представлял. Где моя энергия? Разве я не тот, что прежде? Неужто я смалодушничаю и сдамся в самом начале? Ну же, смелей! Даже уставший человек может продержаться без еды по крайней мере сорок восемь часов. Но хорошо бы изменить ситуацию, я так хочу.
И все же он решительно не мог идти дальше с израненными ногами. Понимая это, путник устроился на древесном корне и опустил босые ноги по щиколотку в ручей.
Робену едва ли было больше тридцати пяти лет. Он был высок, хорошо сложен, силен и крепок, с изящными запястьями, но мощными плечами. Его правильно очерченное лицо, обрамленное длинной каштановой бородой, с орлиным носом и черными пронзительными глазами обычно было серьезным и печальным, почти суровым. Его губы, увы, давно разучились улыбаться.
Но невероятная жизненная сила этого человека была такова, что его высокий лоб с легкими залысинами на висках, лоб истинного мыслителя и ученого, не пересекла еще ни одна морщина.
И все же лицо его, осунувшееся от изнурительных каторжных работ и бледное от анемии, не только излучало редкостную энергию, но и хранило на себе отпечаток нечеловеческих страданий.
Страданий моральных и физических. Робен, выдающийся инженер, был родом из Бургундии и управлял большой мануфактурой в Париже. Когда в декабре 1851 года во Франции произошел государственный переворот, он был в числе тех, кто исторг крик гнева и ярости при известии о покушении на республику, отозвавшись на зов бессмертного автора «Возмездия», поднявшего голос одним из первых.
Он отправился защищать свободу с оружием в руках и был ранен на баррикаде на улице Фобур-дю-Тампль. Друзья спасли и выходили Робена, он долго скрывался, но был арестован при попытке перейти границу. Его дело обтяпали в несколько дней: смешанная комиссия вписала еще одно имя в свой список, и инженер Робен отбыл в Гвиану.
Все произошло так быстро, что он даже не успел попрощаться с женой, доброй и храброй женщиной, которая всего два месяца назад стала матерью их четвертого ребенка и теперь осталась без средств к существованию!
Три года Робен тянул лямку среди самых гнусных мерзавцев. Вести от семьи доходили до него крайне редко, в виде обрывков писем, на три четверти вымаранных цензурой, причем из какой-то неслыханной жестокости неизвестный чинуша старательно зачеркивал самое важное.
За время заключения с ним случилась странная, но вполне объяснимая вещь: сам того не подозревая, он стал оказывать особенное влияние на своих товарищей по заключению. Суровое лицо Робена, которое никогда не озаряло даже подобие улыбки, внушало им не меньшее почтение, чем колоссальная сила его обладателя.
Кроме того, он был «политическим», и все здесь – вплоть до заправил уголовного мира, завоевавших свой авторитет клинком ножа, – испытывали некую неловкость, когда узнавали причину его приговора. Они чувствовали, что инженеру не место в их компании, где он выглядел поистине белой вороной.
Например, никто никогда не обращался к нему на «ты». Тем более что он был добр, как все сильные люди. Одного каторжника, пораженного солнечным ударом на дальней вырубке, он тащил на себе два километра до лагеря, другому несчастному он оказал первую помощь, перевязав раны. Однажды он спас солдата, тонувшего в Марони, в другой раз вытащил из реки осужденного. Был еще случай, когда он едва не убил ударом кулака одного из здешних тиранов, печально известного вора, который гнусно измывался над другим заключенным, страдавшим от лихорадки.
К Робену относились с уважением и в то же время с опаской. Эти люди понимали, что он не принадлежит к их миру. Вдобавок ко всему он вызывал особенную ненависть у надсмотрщиков, перенося их жестокость без единой жалобы.
Он всегда держался особняком и ни с кем не разговаривал.
Никто не удивился его побегу, и все желали ему успеха. Тем более что первой жертвой побега мог стать старший надзиратель Бенуа, вселявший ужас в здешних бандитов…
Долгая ножная ванна в холодной воде ручья принесла беглецу долгожданное облегчение. Он терпеливо вынул все занозы, приносившие ему мучительную боль, протер ноги тщательно сбереженными остатками тростниковой водки, выпил глоток воды и собрался было отправиться на поиски обеда, как вдруг из его груди вырвался радостный крик. Он увидел дерево симаруба.
– Сегодня я не умру с голоду! – воскликнул Робен при виде этого великолепного растения.
Quassia simarouba по классификации Линнея, amara simaruba у Обле, известна в медицине тонизирующими свойствами своей коры и корней, но не может похвастаться съедобными фруктами или побегами.
Что же в таком случае могло объяснить крик беглеца, каким образом он надеялся утолить голод? Со всей быстротой, какую позволяли израненные ноги, Робен бросился к стволу дерева и принялся с помощью мачете разгребать слой сухих листьев у его подножия, усеянный опавшими цветами и плодами, похожими на маслины.
Вскоре клинок наткнулся на что-то твердое.
– Ну вот, – пробормотал он. – Значит, мои товарищи по несчастью говорили правду. Я, конечно, наслушался на каторге разных странных и ужасных историй, но были и те, из которых можно извлечь пользу. Помню последний совет, который один заключенный дал своему соседу, тоже лелеявшему надежду на свободу: «Если ты встретишь в чаще симарубу с опадающими цветами, поищи у ее подножия. Ты непременно обнаружишь сухопутных черепах, которые собираются под деревом, чтобы полакомиться недозрелыми плодами».
Твердый объект, на который наткнулся клинок мачете, и был панцирем одной из этих больших и вкусных черепах, местами встречающихся в огромных количествах.
Робен схватил пресмыкающееся, положил его на спину и, продолжив поиски, нашел еще двух черепах. Перевернув их, он занялся подготовкой к разведению костра.
Это было легко. Валежника имелось в изобилии. Повсюду виднелись поваленные стволы гигантских деревьев, рассыпавшиеся в труху даже от легкого удара, настоящее прибежище пауков-крабов, змей и многоножек. По счастью, кроме них, не было недостатка в сухих листьях авары, сломанных ураганом больших ветках и иссохшей траве.
Беглец быстро собрал большую охапку хвороста и не без труда, но все же зажег ее, добыв огонь с помощью кремня, мачете и клочка сухой ткани. Огонь занялся, пламя быстро вспыхнуло, подняв с земли целый рой насекомых.
Готовка не потребовала ни много времени, ни усилий. Робен положил черепаху прямо в панцире на раскаленные угли и присыпал тлеющей золой. Так делают туземцы, легко обходясь без громоздкой кухонной утвари.
Пока обед готовился, повар не сидел без дела.
Ему показалось, что он мельком увидел несколько красивых деревьев из семейства пальмовых, но не таких высоких, какими они бывают на плантациях, не выше пяти-шести метров. Еще раз хорошенько оглядевшись, он понял, что не ошибся. Примерно в пятидесяти метрах от костра возвышалось одно такое растение, чьи темно-зеленые листья приятно нарушали монотонность частокола, составленного из стволов деревьев-гигантов.

На этом бесплодном с виду дереве не было ни цветов, ни плодов. Тем не менее Робен начал рубить его, и после получаса сверхчеловеческих усилий ему удалось его свалить. Хотя ствол и был не толще ноги взрослого мужчины, но волокнистая древесина оказалась такой прочной, что справиться с ней удалось лишь благодаря крепкой руке и клинку хорошей закалки.
Вы, несомненно, слышали о капустной пальме, дорогие читатели? Вам, конечно, описывали букет нежных листьев, сформированный молодыми побегами, собранными в пучок, центр которого деревенеет по мере роста растения.
Это описание по сути точное, но настолько недостаточное, что легко представить, будто бы эта «капуста» почти то же самое, что наша обычная brassica campestris, или огородная капуста, и что достаточно ее нарезать, как делает кухарка перед тем, как отправить ее в кастрюлю.
Не стоит заблуждаться. Да, это капуста, раз уж у нее есть кочан, но она вовсе таковой не является. Чтобы убедить вас в этом, опишем подробно все действия нашего героя.
Робен перерубил ствол дерева ближе к макушке, ему нужна была лишь его верхняя часть, чуть более толстая, чем основной комель. Затем он ловко очистил от коры основание плодоножки, из которой росли листья верхушки дерева.
Кольцеобразные слои коры светло-зеленого цвета падали один за другим, обнажая сердцевину цилиндрической формы длиной около восьмидесяти сантиметров и толщиной в руку, гладкую и матово-белую, как слоновая кость.
Желудок беглеца сводило от голода, так что отломил он кусок сердцевины и впился в него зубами, как в огромный миндальный орех, несколько напоминающий его по текстуре.
Эта еда не дает насыщения, но во всяком случае какое-то время не позволит умереть с голода. Такую сердцевину здесь и называют пальмовой капустой. «Кочерыжка», которую Робен, попробовав, отнес к костру, произрастает на пальме патава. Она еще менее вкусна, чем сердцевина капустной пальмы, которая и сама по себе малоприятна, а патава – это «капустная пальма для бедных», последний и крайне недостаточный жизненный ресурс лесных скитальцев.
Черепаха уже приготовилась. Из-под панциря, обуглившегося и растрескавшегося от жара, исходил аппетитный аромат жареного мяса. Наш герой вынул ее из углей, без труда сломал панцирь, уселся поудобнее и с помощью мачете приступил к своей скромной и странной импровизированной трапезе, закусывая вместо хлеба сердцевиной патавы.
Присев на корточки лицом к дереву, он жадно ел, всецело отдавшись процессу, позабыв о побеге и обо всех опасностях.
Внезапный резкий свист заставил его вскочить на ноги. Что-то длинное и прямое пролетело перед его глазами и, затрепетав, вонзилось в гладкий ствол симарубы.
Это была стрела длиной более двух метров, толщиной в палец, с красным оперением, дрожавшим на кончике.
Робен схватил рогатину и приготовился к обороне, не сводя глаз с того места, откуда прилетел этот страшный вестник смерти. Сначала он ничего не заметил, затем лианы мягко раздвинулись, словно шторы, и из них показался краснокожий. Натянув лук сильными руками, расставив ноги, он был готов пустить новую стрелу прямо в каторжника.
Беглец всецело оказался во власти вновь прибывшего. Кто мог бы бросить вызов этому дикарю, бесстрастному, словно статуя из красного порфира, который, казалось, с утонченной жестокостью прикидывал, куда удобнее будет выстрелить. В самом деле, наконечник его стрелы перемещался то выше, то ниже, то чуть правее, то левее, но оставался неуклонно нацелен в грудь белого.
Индеец был почти полностью обнажен, если не считать небольшого куска синего ситца, пропущенного между ног и заткнутого за пояс. Такая набедренная повязка называется калимбе.
Все его тело, выкрашенное красной краской из плодов руку, выглядело так, словно он окунулся в реку крови. На лице и на груди красовались причудливые фиолетовые линии, нарисованные соком генипы, придавая индейцу одновременно гротескный и устрашающий вид. Его иссиня-черные волосы были обрезаны на уровне бровей, доходя сзади до уровня плеч.
На шее висело ожерелье из клыков ягуара, запястья украшали браслеты из когтей гигантского муравьеда.
Его лук, сделанный из буквенного дерева (иначе называемого железным деревом), нижним концом упирался в землю и был выше своего владельца на треть метра. В левой руке, сжимавшей лук, краснокожий держал еще три длиннейших стрелы.
Робен не мог понять причины такой враждебности. Индейцы племени галиби, населяющие низовья Марони, совершенно безобидны; более того, у них установились вполне мирные отношения с европейцами, которые снабжают их спиртным в обмен на предметы первой необходимости.
Возможно, краснокожий просто хотел напугать белого, пустив стрелу над его головой? Скорее всего, так оно и было, поскольку индейцы так ловко управляются с луком, что способны снять с самого высокого дерева красную обезьяну или даже парракуа, похожего на европейского фазана. Большинство из них запросто попадет стрелой в апельсин с тридцати шагов. Так что вряд ли можно было представить, что такой стрелок мог промахнуться с относительно небольшого расстояния.
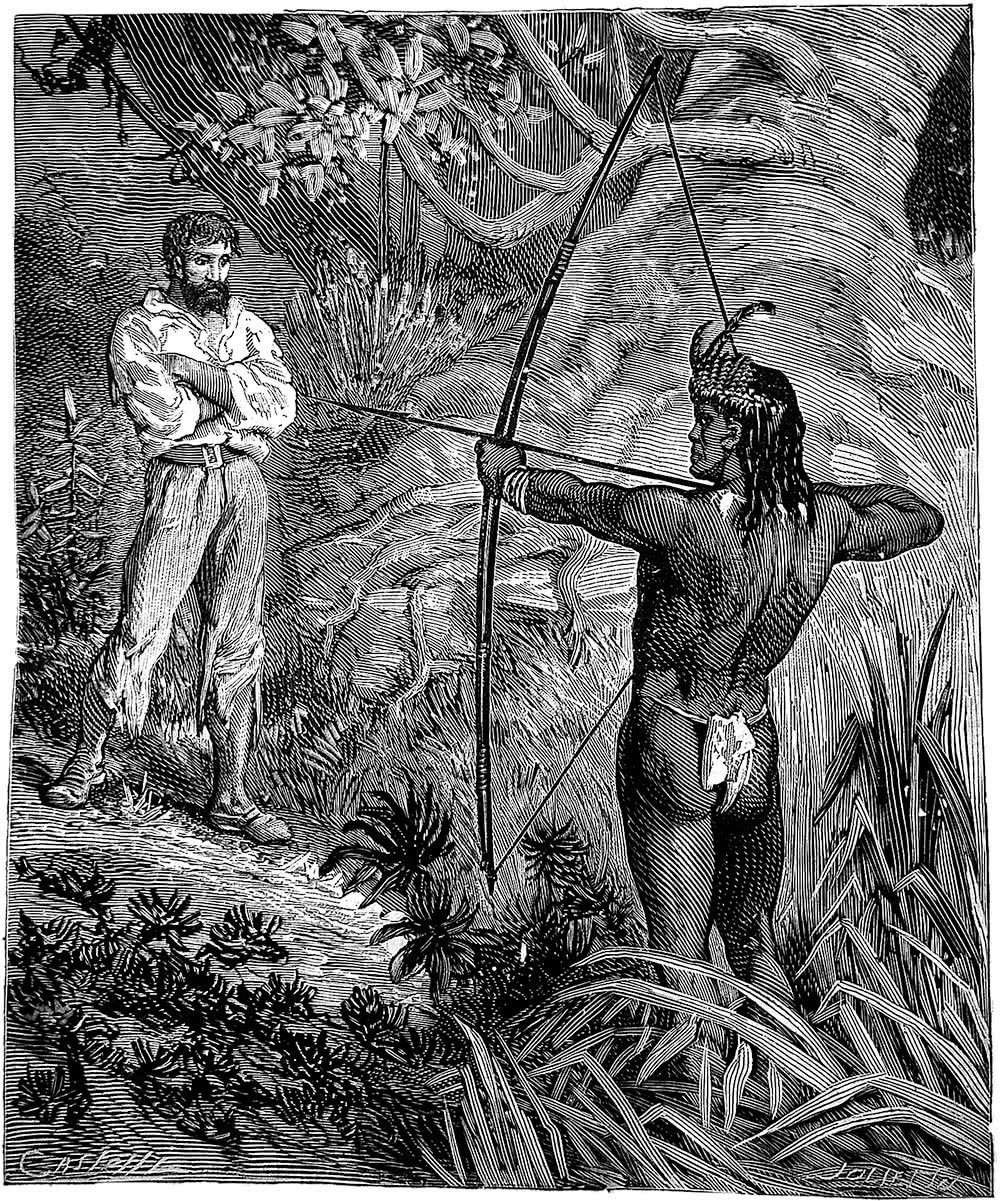
Робен решил показать, что ничуть не боится. Он отбросил рогатину, скрестил руки на груди и, глядя врагу прямо в глаза, стал не спеша к нему приближаться.
Чем ближе он подходил, тем больше ослабляла тетиву правая рука индейца, тем мягче становился злобный взгляд его глаз, раскосых, как у китайца. Грудь белого почти коснулась острия стрелы, и та медленно опустилась.
– Белый тигр… Он не пугаться… – сказал наконец с усилием галиби на креольском наречии, знакомом всем его соплеменникам, так же как и неграм, живущим в низовьях Марони.
– Да, я не боюсь тебя. Но я не белый тигр. – (Читатель помнит, что этим прозвищем индейцы Гвианы называют беглых каторжников.)
– Раз ты не белый тигр, что ты здесь делать, на земле бедных калинья?
– Я свободный человек, как и ты. Я никому не сделал зла. Я хочу здесь жить, расчистить поляну, посадить фрукты и овощи, построить хижину.
– О, ты врать!.. Раз ты не белый тигр, где твой ружье?
– Клянусь моей матерью, ты слышишь, калинья? – (Индейцы, известные белым как галиби, называют себя калинья.) – Клянусь тебе, я никогда никого не убивал и ничего не крал; я не преступник.
– Клясться матерью?.. Хорошо, моя тебе верить. Но где твой жена и твои детки, почему ты один? Зачем приходить к калинья? Забрать его земля и добыча? Атука не хотеть! Давай, уходить отсюда, идти к белым!
При воспоминании о далеких и любимых жене и детях, вызванном жестоким и нелепым вопросом краснокожего, Робен почувствовал, что его душат слезы.
Но он овладел своими чувствами, желая во что бы то ни стало скрыть их от индейца, выпрямился и ответил:
– Мои жена и дети очень бедны, я пришел сюда, чтобы найти для них еду и кров.
– Атука не хотеть! – гневно повторил индеец. – Он не идти к белым, чтобы ловить кумару, строить хижина или сажать маниок. Пусть белый быть у себя, а калинья у себя.
– Но послушай, Атука, мы же все люди, все живем на одной земле… Твоя земля является также и моей, а земля моей страны в равной степени принадлежит и тебе.
– О, клянусь брюхо Мать-анаконда, ты врать!.. – в бешенстве воскликнул индеец. – Копни землю твоя сабля, там кости от мой отец, кости от калинья, мои предки… Если ты найти там хоть одна кость от белый человек, я отдать тебе вся моя земля, быть твоя собака!
– Но, Атука, я никогда не говорил, что хочу поселиться на твоей земле. Я собираюсь отправиться к неграм бони. Я просто проходил мимо, у меня нет намерения оставаться надолго.
Услышав эти слова, индеец, несмотря на всю хитрость и самообладание, не смог скрыть свое огорчение. Эта страстная патриотическая тирада, торжественное выставление напоказ родственных чувств, даже попытка напугать белого нацеленной стрелой – все это имело лишь одну-единственную цель, причем совершенно ничтожную. Сейчас узнаем какую.
Его лицо вдруг просветлело, но не настолько быстро, поэтому Робен успел уловить его мимолетное разочарование.
– Раз ты не белый тигр, – воскликнул индеец, чей голос обрел прежний пафос, – ходи со мной в Бонапате. Там есть белые люди, они дать тебе хижина, мясо, тафия, рыба.
При имени Бонапарта, которое он никак не ожидал услышать в таком месте и из таких уст, Робен пожал плечами. Затем он вдруг вспомнил, что исправительная колония была названа Сен-Лоран лишь несколько лет назад, в честь адмирала Бодена, губернатора Гвианы.
Прежде же эта земля в течение тридцати лет принадлежала старому индейцу по прозвищу Бонапарт. Соответственно, выступ берега Марони, на котором теперь находится «коммуна» Сен-Лоран, называли мысом Бонапарта[5].
Совершенно ясно было, что индеец упомянул это имя без всякой задней мысли, но нельзя не признать в очередной раз: по воле случая часто «бывают странные сближенья».
– Там будет видно, – уклончиво ответил Робен.
Индеец вдруг расслабился. Он приставил к плечу лук и стрелы, как солдат ставит ружье у ноги, и с явной и, возможно, даже искренней сердечностью протянул руку беглецу:
– Атука – друг для белый тигр.
– Ты опять называешь меня белым тигром, ну ладно, пусть будет так. Это прозвище не хуже любого другого. Белый тигр – банаре (друг) Атуки. Пойдем, доедим вместе то, что осталось от моей черепахи.
Индеец не заставил себя упрашивать. Он без церемоний уселся на корточки, не обращая никакого внимания на своего «банаре», и так взялся за черепаху руками и зубами, что от угощения вскоре остался один панцирь, вычищенный, словно над ним поработали муравьи-листорезы.
Обед, приготовленный наспех в кое-как устроенном очаге, изрядно отдавал дымом, но обжора поначалу не обратил на это никакого внимания.
– Ох, банаре, ох! – сказал он вместо благодарности. – Твоя не уметь готовить еду.
– Ты, конечно, очень вовремя это заметил… Но у меня есть еще две черепахи, и вечером мы посмотрим, на что ты способен.
– А, банаре! Твоя иметь еще две черепахи?
– Да, вон, смотри.
– Хорошо!
Затем, увидев, что его банаре, утолив жажду водой из ручья, собирается вздремнуть, индеец спросил с наивным вожделением:
– Ты не дать Атука тафия?
– У меня ее больше нет…
– Как – нет? Моя хотеть видеть, что в твой коробе.
Увы, там было особенно не на что смотреть. Рубаха из грубого полотна, пустая бутылка из-под водки, которую дикарь обнюхал с обезьяньей жадностью, несколько кукурузных початков, обрывки белой бумаги, небольшой футляр с обугленными тряпками – трутом бедняка.
Атука едва мог скрыть свое недовольство.
Робен валился с ног от усталости и чувствовал, что засыпает. Краснокожий, по-прежнему сидя на корточках, затянул длинную и заунывную песню. Он восхвалял свои подвиги… хвастал, что его закрома ломятся от ямса, бататов, бананов и проса… что он живет в самой большой хижине, его жена – красотка, а пирога – самая быстрая.
Никто не может так метко подстрелить кумару в воде. Никто не умеет быстрее его выследить майпури (тапира) и свалить его одной точной стрелой… Никто, наконец, не способен сравняться с ним в погоне за пакой или агути… Он может обогнать даже быстроногого кариаку.
Беглец крепко заснул. Его душа долго бродила в царстве снов, где он увидел своих покинутых родных и несколько часов провел там, по другую сторону безбрежного океана, рядом с теми, с кем так давно его разделила неумолимая судьба.
Солнце прошло уже две трети своего дневного пути, когда он проснулся. Чувство реальности мгновенно вернулось к нему и резко вырвало из сладостных и одновременно мучительных сновидений.
По крайней мере, сон помог ему восстановить силы. Кроме того, он ведь был свободен! В прошлом остался однообразный гул голосов каторжников, поднимаемых рано утром на работу, и этот угрюмый барабанный бой, и проклятия из уст надзирателей…
Лес впервые показался ему прекрасным. Впервые он ощутил его несравненную, величественную красоту. Вся эта растительность, причудливая, непостоянная, бескрайняя, сплеталась, ниспадала, плыла в голубоватых сумерках. То тут, то там лучи, переливаясь всеми цветами радуги, пронзали изумрудный лиственный свод и осеняли кусты и травы яркими бликами, словно пройдя сквозь цветные стекла готических витражей.
И эти мачты гигантских деревьев, опутанные снастями лиан и украшенные ослепительными цветами, словно флагами расцвечивания, с многоцветным штандартом, навеки водруженным цветочной феей…
И эти колонны беспредельного храма, прямые и строгие, местами задрапированные зеленым, с восхитительными капителями из орхидей, соединенные арками, уходящими в бесконечность под куполом листвы и цветов…
Но радости изгнанников, увы, кратковременны. Вид этих красот, перед которыми хорошо экипированный путешественник застыл бы в экстазе надолго, навел беглеца на мрачные мысли о могиле.
Но где же индеец?.. Вспомнив о нем, Робен резко вскочил, огляделся вокруг, но никого не увидел. Он позвал его, но ответа не последовало. Атука исчез, прихватив с собой не только черепах, весь съестной запас бывшего каторжника, но и его башмаки и короб-ранец вместе с принадлежностями для разведения огня.
У Робена осталось только мачете. Он случайно уснул прямо на нем, и вор не смог его умыкнуть. Мотивы краснокожего предстали перед беглецом во всей их наивной простоте. Стрела, драматическое появление, возмущенные тирады – все это было лишь блефом. Он думал, что у белого есть выпивка, пусть всего бутылка, но она была ему нужна.
Обманутый в своих ожиданиях, он, более не чинясь, принял от беглеца скудное угощение. Это тоже можно было считать добычей, позволявшей посвятить еще один день блаженной лени, которая, наряду с пьянством, составляла у индейца объект неустанного поклонения.
Решив, что пожитки белого ему пригодятся, он прибрал их к рукам, поскольку если уж их взяли с собой, значит они чем-то ценны. К тому же, лишив Робена самых элементарных средств для продолжения его путешествия, «бедный калинья» преследовал еще одну цель.
Если бы даже белый тигр щедро угостил его тафией, результат был бы тем же. Индеец любит водку и безделье. Он берется за работу, идет на охоту или на рыбалку, лишь когда ему грозит голод. Он без всяких колебаний прожил бы несколько дней за счет своего «банаре», а потом точно так же исчез бы, чтобы донести на него властям.
И теперь можно было биться об заклад, что краснокожий направился прямиком в Сен-Лоран, или Бонапате, как он его называл. Индеец отлично знал, что администрация заплатит любому, кто приведет или поможет поймать беглого каторжника.
На вознаграждение, десять франков, можно было купить, кажется, десять литров тростниковой водки. Это означало десять дней безудержного пьянства во всей его грубой и отвратительной полноте. К делу приступают без лишних церемоний. Индеец просто берет бутылку, откупоривает ее, припадает к горлышку и глотает, не переводя дыхания, жгучую жидкость.
Прикончив бутылку, он пошатывается, озирается вокруг отупевшим взглядом, ищет подходящее место, валится, как насытившийся боров, и засыпает.
Он приходит в себя на следующий день. И, едва продрав глаза, продолжает. Так происходит, с некоторыми вариациями, до полного истребления продукта.
Если рядом оказывается его жена, дети или друзья, процесс остается неизменным, разве что пирушка становится чуть короче. Все без исключения, мужчины и женщины, взрослые и дети, даже те, кто едва выучился ходить, всласть хлещут прямо из горлышка. И каждый, достигнув самого крайнего опьянения за несколько минут, отходит пошатываясь, спотыкаясь и падая, чтобы повалиться по-семейному, вперемешку, под густой листвой.
Вот о чем думал Атука, рассчитывая в самое ближайшее время нанести «благодарственный визит» своему гостеприимному «банаре». Поняв, что ему не удастся, по известным причинам, самостоятельно привести беглеца в Сен-Лоран, индеец отправился за подмогой.
Робен не смог бы уйти далеко. Краснокожий призовет на помощь все свое искусство следопыта и безошибочно приведет к нему представителей власти. Белого схватят, а он получит награду.
Беглец не сомневался в этом ни минуты. Ему надо как можно скорее продолжить свое беспорядочное странствие, бежать куда глаза глядят, подобно дикому зверю, нагромождать препятствия для преследователей, оторваться от них насколько возможно, шагать до полного изнеможения.
Он отправился в путь, жуя незрелые плоды авары, довольно кислые и нестерпимо вяжущие.
Вперед! Забыв о ногах, до крови иссеченных режущими травами, он устремляется в лес, огибая заросли, перелезая через поваленные стволы, раздвигая занавеси лиан, пробираясь через буреломы.
Вперед! Ему нет дела до притаившихся в засаде хищных зверей, до гражей и страшных гремучников, свернувшихся в высокой траве, до мириад насекомых с ядовитыми жалами, до бурных потоков с водопадами и острыми скалами, до саванны с ее бездонными топями… Что ему смерть, наконец, какая разница, в какой форме она придет!
Да, свирепые обитатели безлюдных экваториальных просторов крайне опасны, но куда опаснее люди с мыса Бонапарта, которые завтра пустятся за ним в погоню, не зная ни отдыха, ни пощады.
Хищники не обязательно нападают, свирепый зверь не всегда кровожаден, потому что он не всегда голоден. Только людская ненависть смертоносна в своем постоянстве.
Вперед! Что ему миазмы, поднимающиеся с болот густым туманом, прозванным «саваном для европейцев»! Нужно идти, прокладывать курс, как говорят моряки. Охотники на людей будут здесь уже завтра.
Беглец уже начинал бредить, но лихорадочное возбуждение словно снабдило его парой крыльев. Он бежал, как взбесившаяся лошадь, смутно чувствуя и неосознанно понимая, что рано или поздно рухнет без сил и, возможно, уже не сможет встать…
Наступила ночь. Взошла луна, лес наполнился мягким светом и разными шорохами и звуками.
Робен, казалось, ничего не слышал. Он шел не разбирая дороги, не видя препятствий, не замечая колючек, рвущих его тело. Вся жизнь его теперь свелась к единственной цели: двигаться вперед.
Где он оказался? Куда он шел? Он не знал этого, он не отдавал себе в этом отчета…
Он просто бежал.
Эта беспорядочная гонка продлилась всю ночь. Утреннее солнце уже разогнало лесные тени, но беглец продолжал бежать, мокрый от пота, задыхающийся, с глазами, вылезающими из орбит, и губами, покрытыми кровавой пеной.
И наконец его могучая натура не выдержала этих невероятных усилий. Робену почудилось, что на голову давит весь зеленый свод. Все вокруг него закружилось, он споткнулся, зашатался, потерял равновесие и тяжело рухнул на землю.

Надзиратель Бенуа испытывал невероятные мучения. Его бедро, распоротое когтями ягуара, быстро распухло под импровизированным гипсом, наложенным руками каторжника.
Кровотечение прекратилось, но надзиратель был обречен без скорой и грамотной медицинской помощи.
Его трясла лихорадка, страшная гвианская лихорадка, настоящий бич здешних мест, который приобретает самые разные формы, возникая порой от совершенно незначительных причин, и часто приводит к скорой гибели.
Укус паука-краба или ядовитого фламандского муравья, он же муравей-пуля, несколько лишних минут на солнце или слишком холодное купание, длинный переход, несоблюдение режима питания, мозоли от тесной обуви, нарыв – словом, все, что угодно, могло вызвать лихорадку.
Голова начинает раскалываться от адской боли. Суставы страшно болят, затем лишаются подвижности. У больного начинается бред, ему мерещатся призраки. Потом наступает кома, а за ней в скором времени приходит смерть.
Бенуа это знал, и ему было страшно. Оказаться в одиночестве посреди леса с серьезной раной и псом в качестве единственного спутника, в двух шагах от обезглавленного ягуара – это внушило бы ужас человеку даже самой крутой закалки.
Его мучила жестокая жажда, и хотя совсем рядом слышалось журчание ручейка, у Бенуа совсем не было сил до него добраться.
Но что было нелепо и одновременно ужасно – между ругательствами и криками боли надзиратель умудрялся находить в себе силы проклинать Робена, которому он был обязан жизнью и которого тем не менее обвинял в своем несчастье.
– Ах ты, сволочь!.. Гадина… Это же все из-за тебя… Еще корчил тут из себя джентльмена… Гляди-ка, прощает он меня!.. Каналья!.. Только попадись мне, я тебе устрою прощение!.. Фаго, чертово отродье, да замолчишь ты или нет! – прикрикнул он на собаку, которая отважно заливалась лаем в пяти шагах от мертвого ягуара. – О, как я хочу пить! Воды!.. Ради бога, пить!.. Где эти три недоумка, которые остались позади меня, как беспомощные котята… Стадо ослов! Может, у них хватит ума пойти по моему следу…
Жажда все сильнее мучила надзирателя, и, видимо, вспышка гнева придала ему сил, достаточных, чтобы совершить несколько телодвижений: цепляясь за траву и корни, извиваясь при помощи локтей и здоровой ноги, он смог преодолеть расстояние в несколько метров.
– Ну наконец-то, – пробормотал он после того, как жадно напился. – Боже, вода – это счастье… У меня внутри был просто пожар. Я будто заново родился… Теперь-то я пойду на поправку… Я не хочу умирать, я должен жить… жить, чтобы отомстить. А пока я тут как калечная скотина… К счастью, у меня есть еда, и это не дохлый тигр[6], оставленный беглым мерзавцем. Оружие тоже есть, моя сабля… Конечно, то, что нужно инвалиду… Да, вот мой пистолет… Он в порядке, все хорошо. Я не могу развести огонь… Черт возьми, как больно!.. Как будто полдюжины собак грызут мою ляжку! Лишь бы только все лесные паразиты не решили разом накинуться на меня… Да, Бенуа, мой мальчик, тебе предстоит веселенькая ночка. Если только эти болваны не найдут меня раньше… Эй, а где Фаго? Вот чертово отродье. Он меня бросил. Эти собаки такие же неблагодарные твари, как и люди. Ладно, ему тоже от меня достанется. Ну что, солнце садится, сейчас будет темно, как у дьявола под мышкой. А, нет, вот и луна. Все же как странно оказаться одному в таком месте, чувствую себя какой-то вещью…
Если здешние ночи тянутся бесконечно для того, кто путешествует не спеша, то для того, кто страдает и ждет, они поистине ужасны. Представьте себе больного, не сводящего глаз с циферблата часов, вынужденного следить за движением стрелок двенадцать часов кряду. Смотрите, как он пытается ускорить неспешную и кропотливую перемену минут, мучительно наблюдает за вращением большой стрелки, в то время как маленькая движется словно из сожаления, причем такими микроскопическими интервалами, что глаз не способен за ними уследить.
А теперь перенесите эту пытку сюда, под сень экваториальных лесных гигантов, в самое сердце беспредельного безлюдья, и вы весьма приблизительно сможете получить представление о муках, выпавших на долю надзирателя.
Луна едва прошла половину своего пути. Раненый продолжал невыносимо страдать, как вдруг прямо над его головой раздался ужасающий шум. Нет, скорее чудовищный рев, не похожий ни на какой другой звук в мире. Вообразите себе грохот поезда, на полном ходу въезжающего в тоннель, и соедините с ним истошный визг дюжины свиней под ножом мясника.
Эти оглушительные вопли начинаются совершенно внезапно, одновременно на низких и высоких, пронзительных нотах, будто бы извергнутых дуэтом неведомых чудовищ. Звук раскатывается, меняет тональность, нарастает, затихает, потом вдруг прекращается и начинается снова.
– Ну вот, отлично, только музыки мне не хватало, – пробурчал Бенуа в момент затишья, ничуть не обеспокоенный этой какофонией. – Проклятые ревуны, черт бы их побрал!
Надзиратель не ошибся. Стая обезьян-ревунов устроила игры на верхних ветвях того самого дерева, под которым он лежал. Он даже смог их разглядеть в лучах лунного света – животные окружили одного из них, вожака стаи, испускавшего эти чудовищные вопли. Он один извлекал из своего горла два звука, слышимые на расстоянии более пяти километров.
Вдоволь наоравшись, он брал передышку, и его слушатели, без сомнений очарованные таким талантом, издавали в качестве одобрения восхищенные хриплые крики, нечто вроде «хон!.. хон!».
Скажем мимоходом несколько слов об этом необычном четвероруком. Гвианская обезьяна-ревун, на латыни stentor seniculus, также называемая красной обезьяной или, на местном наречии, алуатой, едва ли достигает одного метра сорока сантиметров от носа до кончика хвоста. Она покрыта ярко-рыжей шерстью, но лапы и хвост у нее черные, с рыжеватым отливом.
Осмотр голосового аппарата ревуна позволяет уяснить его удивительную способность извлекать из своего горла одновременно высокие и низкие ноты. Однажды я препарировал старого самца и сразу же понял, что воздух, который он втягивает, может выходить непосредственно через голосовую щель, что приводит к возникновению высокого звука. Кроме того, его подъязычная кость (небольшая кость, расположенная у людей между основанием языка и гортанью) вместо скромных размеров мужского адамова яблока имеет габариты яйца индейки и образует звуковую полость, сходную с органной трубой. Когда он поет, его горло распухает и принимает размеры большого зоба. Воздух, проходя через эту обширную костную полость, невероятно увеличивает мощность голоса и производит низкий звук, так что обезьяна-ревун – единственное существо, способное петь сразу на два голоса.
Эти невообразимые вопли всегда издает вожак стаи, его скромные подданные не позволяют себе этого. Если кто-то из них, в пылу восторга, осмелится добавить свою ноту к симфонии, певец тут же задает ему основательную взбучку, и тот мгновенно смолкает.
Аудитория имеет право лишь аплодировать.
Но Бенуа эта обезьянья мелодия отнюдь не восхищала, а приводила в ярость. Стая алуат вовсе не собиралась отсюда уходить. Ревунов охватило всеобщее веселье. Вскоре он увидел, что они уцепились хвостами за ветви и принялись раскачиваться на них, как люстры, испуская одобрительные крики, вися при этом вниз головой, в то время как вожак, пребывая в том же положении, вопил так, что у обитателей леса, должно быть, лопались барабанные перепонки.

– Вот я дурень, – пробормотал надзиратель. – У меня же есть чем заставить их заткнуться.
Тут же зарядив пистолет, он выстрелил в направлении стаи, которая разбежалась в мгновение ока. И едва воцарилась тишина, Бенуа услышал в отдалении слабый звук ответного выстрела.
Раненый немедленно обрел надежду:
– Черт возьми, меня ищут!.. Жахну-ка я еще раз.
Перемежая стоны боли с проклятиями, он еще раз зарядил пистолет и выстрелил. В ответ раздался новый выстрел, уже гораздо ближе.
– Ну вот, слава богу. Через четверть часа мои болваны будут здесь. Скоро я встану на ноги… и тогда берегись, Робен!
Надзиратель ничуть не ошибся в своих предположениях. Его сослуживцы, заметив, правда с опозданием, что упустили добычу, погнавшись за тенью, прибыли на поляну, вооруженные факелами из смолистого дерева. Перед ними бежал Фаго, который весело запрыгал и громко залаял при виде хозяина.
Надзиратели наскоро соорудили носилки и с невероятными трудностями возвратились в колонию, доставив туда своего товарища, вновь впавшего в состояние бреда. У этого дьявола в человеческом облике действительно было девять жизней.
Не прошло и полутора суток, как на территории колонии появился индеец Атука и принялся рассказывать каждому встречному и поперечному, что он встретил белого тигра и готов прямо сейчас сопроводить вооруженный отряд по его следам, за скромное вознаграждение разумеется.
Об этом узнал Бенуа. Он велел привести индейца к своей постели, посулил тому все, чего он хотел, приставил к нему двух человек по своему выбору и приказал им немедленно выступить в недобрый поход в полном вооружении и с подобающим припасом.
Действуя втайне от своего непосредственного начальника, старший надзиратель надеялся отличиться в розыске, вернуть беглеца и избежать бури, которая грозила разразиться над его головой после выздоровления.
Охотники на людей, ведомые индейцем, для которого в лесу не существовало никаких тайн, вскоре напали на след. Хотя Робен почти не оставил следов во время своей беспорядочной гонки, краснокожий взял след, как ищейка, по примятой травинке, опавшему листу, надорванной лиане определяя, где прошел белый тигр.
Через четыре дня после выхода из колонии они обнаружили в зарослях вмятину, предположительно оставленную падением тела, а рядом – пятно крови, темневшее на выступе кварца.
Похоже, здесь упал ссыльный. Но что произошло? Его растерзал дикий зверь?
Атука покачал головой. Он без единого слова «выправил след», как говорят псовые охотники, растворился в лесу и вернулся только через час, жестом призвав своих спутников сохранять молчание.

– Идти туда, – прошептал он еле слышно.
Те беспрекословно последовали за ним. Всего через пятьсот метров они увидели поляну, посреди которой стояла небольшая хижина, крытая листьями макупи, построенная, вероятно, давно, но основательно. Над крышей хижины вилась тонкая струйка дыма.
– Там белый тигр, – радостно сказал индеец.
– Калинья, мой мальчик, – ответил один из надзирателей, – это очень хорошо. Бенуа не пойдет под арест, ты получишь награду, потому что мы сейчас сцапаем этого типа.
Глава III
Вампир. – Прокаженный из безымянной долины. – Рай обездоленного. – Сострадание несчастного. – Приступ злокачественной лихорадки. – Народные средства. – Не хуже шпанской мушки и хинина. – Фламандские муравьи. – Именем закона!.. – На что способен краснокожий ради бутылки водки. – Змея ай-ай. – Телохранители прокаженного. – Отступление вооруженного отряда. – Неприятная встреча лагерного охранника с гремучей змеей. – Заклинатель змей. – Мытье без моющего средства.

Робен, обезумевший от гонки, задыхающийся, побагровевший от жары, рухнул на землю, словно сраженный ударом молнии.
Его тело скрылось в высоких травах словно в зеленом саване. С учетом всех обстоятельств, смерть была неминуемой. Несчастный должен был испустить дух, не приходя в себя.
Что за беда! Подумаешь, одним именем больше в мартирологе ссыльных, еще один скелет заблестит в мрачном тропическом оссуарии!
Густой и плотный растительный ковер смягчил удар, и тело, больше похожее на труп, на долгие часы распростерлось на мягких стеблях травы. По какой-то счастливой случайности на него не наткнулись ни ягуар в поисках добычи, ни муравьи-листорезы.
Беглец очнулся и постепенно приходил в себя, не в силах понять, сколько времени он был без сознания. Он был в прострации, причин которой не мог объяснить, хотя способность мыслить вскоре вернулась к нему с необычайной быстротой.
Удивительно, но он больше не чувствовал никакой тяжести в голове; тиски, сдавливавшие его череп, казалось, ослабли, звон в ушах прошел, и Робен отлично слышал резкие крики пересмешника. Он отчетливо различал цвета и предметы, пульс бился ровно, дышать стало легко: лихорадка отступила.
Но каторжник был так слаб, что не сразу смог подняться. Ему показалось, что все тело налито свинцом. Кроме того, он вдруг почувствовал, что весь залит теплой жидкостью, ощутил ее особый тяжелый запах.
Взглянув на рубашку, он обнаружил, что она стала ярко-красной.
– Да я весь в крови, – пробормотал Робен. – Где я? Что произошло?..
Он ощупал себя и наконец смог встать на колени.
– Нет, я не ранен… но откуда вся эта кровь?.. Боже, какая слабость!
Он находился в широкой долине, окруженной лесистыми холмами высотой не более ста пятидесяти метров. По долине бежал неглубокий ручей с прозрачной и восхитительно свежей водой.
Такие ручьи и речушки часто встречаются в Гвиане, в качестве, видимо, единственного утешения за все муки, которые испытывает человеческое существо в этом аду.
Робен кое-как дотащился до ручья, жадно напился, скинул свои лохмотья, вошел в воду и смыл сгустки крови с лица и груди. Умывшись, он было вышел из ручья, как внезапно почувствовал, что по его лицу снова течет теплая жидкость. Это одновременно сбивало с толку и тревожило. Он провел ладонью по лбу, и она тут же окрасилась красным.
Он еще раз ощупал себя и снова ничего не обнаружил. На теле не было ни единой раны. И все же нужно было установить причину этого кровотечения.
– Боже мой, как же нелегко здесь цивилизованному человеку! А ведь любой негр или индеец раздобыл бы себе зеркало за пять минут. Поступим как они.
Превозмогая растущую слабость, беглец все же отыскал глазами несколько широких зелено-коричневых листьев обычной для Гвианы разновидности водяной лилии. Оставалось только срезать один из них, горизонтально погрузить его в воду и удерживать в нескольких сантиметрах от ее поверхности, что и было проделано без всякого труда.
Его лицо, отраженное листом, словно стеклом с оловянной основой, предстало перед ним столь же четко, как если бы он смотрел в самое лучшее зеркало.
– Вот как, – сказал себе он после внимательного изучения, заметив маленький шрам над левой бровью ближе к виску, – ко мне приходил вампир. – Затем, вспомнив наконец свою встречу с индейцем, головокружительное бегство, бред и потерю сознания, продолжил: – Какая странная у меня судьба! На меня нападают дикие звери, преследуют люди, но тут вдруг ненасытное обжорство мерзкого существа спасает мне жизнь!
Робен не ошибся. Он бы погиб, если бы не удивительное вмешательство летучей мыши-вампира, которая буквально обескровила его.
Известно, что некоторые летучие мыши из подсемейства вампировых питаются почти исключительно кровью млекопитающих, нападая на жертву во время сна и высасывая ее с невероятной жадностью.
Вампир обладает особой присоской, вернее сказать, его рот заканчивается трубочкой, снабженной мелкими острыми зубами, с помощью которых он медленно и безболезненно прокалывает кожу домашнего скота, обезьян, крупных млекопитающих и даже человека.
Он приближается к жертве, медленно обмахивая ее длинными перепончатыми крыльями, постоянные колебания которых вызывают у нее ощущение приятной свежести и усиливают сонное состояние. Затем отвратительный рот зверька приникает к подходящему месту, крылья продолжают трепетать, кожа мгновенно прокалывается, и мерзкий кровосос понемногу наполняется кровью, как живая медицинская банка. Вдоволь напившись, вампир улетает, оставляя рану открытой.
Но выпитая рукокрылым животным кровь – это лишь полбеды. Двести и даже двести пятьдесят граммов крови, потребные для его насыщения, не представляют серьезной угрозы для «объекта», кроме разве что некоторого упадка сил. Но поскольку жертва не просыпается сразу же после кровопускания, кровь продолжает вытекать всю ночь через маленькую ранку. Несчастный, мертвенно-бледный и обескровленный, теряет все силы, его жизнь оказывается в опасности, если только не обеспечить ему сию же минуту восстанавливающий и укрепляющий режим, чтобы свести к минимуму риски обильной кровопотери.
Сколько путешественников было застигнуто врасплох в своих гамаках! Увы, они пренебрегли предосторожностью, не защитили одеялами ноги, шею или голову и проснулись в теплой кровавой луже. Множество из них заплатили серьезными последствиями, а то и собственной жизнью за свою забывчивость! Ибо посреди джунглей мало у кого найдется достаточно средств, чтобы восстановить ослабевший организм; они становятся легкой добычей ужасных тропических болезней, противостоять которым можно, лишь будучи в идеальной физической форме.
Но иногда нет худа без добра. Наш герой только что в этом убедился. Внезапное кровопускание спасло ему жизнь.
Он медленно оделся, но все еще был так слаб, что едва смог срезать палку, на которую тут же тяжело оперся. Невелика беда, железная воля не оставит его сегодня, так же как и вчера.
В любом случае надо идти. Итак, вперед!
Подобное упорство должно быть в конце концов вознаграждено.
– Постой-ка! – тотчас воскликнул он. – Мне снится сон? Нет, это невозможно… Что это? Банановое дерево! А эта поляна… это же вырубка! Вон то густо посаженное растение с треугольными листьями, что стелется по земле, – это батат! А вот кокосы… ананас… калалу, маниок! О, как я хочу есть, просто умираю с голода. Так, значит, я в индейской деревне? Кто бы здесь ни жил, надо его найти, и будь что будет!
И, повинуясь мгновенному порыву, он срубил ананасовый куст, разорвал чешуйчатую кожуру плода, впился всем ртом в мякоть, сдавил ее, выжимая сладкий сок.
Взбодрившись и немного подкрепив силы мякотью чудесного плода, Робен взял хохолок с верхушки ананаса, выкопал лунку, воткнул его туда[7], присыпал землей и направился к маленькой хижине, которую заметил совсем недалеко, от силы в ста метрах.
Это уединенное жилище на вид было весьма удобным. Хижину покрыли листьями пальмы ваи, такими прочными и неподвластными времени, что кровля могла бы прослужить лет пятнадцать. Стены из переплетенных жердей надежно защищали от дождя и ветра. Дверь была плотно заперта.
«Это хижина чернокожего, – подумал Робен, узнав характерную форму негритянского жилища. – Хозяин должен быть поблизости. Кто знает, вдруг он такой же беглец, как и я? А его участок просто в идеальном состоянии».
Он постучал в дверь, но ответа не последовало.
Робен постучал еще раз, сильнее.
– Кто там, что хотеть? – отозвался надтреснутый голос.
– Я ранен и очень голоден.
– О, бедный человек, спаси вас бог. Но вам не можно ходить мой дом.
– Прошу вас! Откройте мне… Я умираю… – с трудом выговорил беглец, вдруг охваченный внезапной слабостью.
– Не можно, не можно, – произнес голос, словно прерванный рыданиями. – Бери что хотеть. Но в доме не можно трогай ничего. А то умирай.
– Помогите мне!.. – прохрипел несчастный, оседая на землю.
Надтреснутый голос, несомненно принадлежавший старику, ответил сквозь рыдания:
– Святой боже! О, бедный белый муше! Не можно оставить его умирай здесь.
Дверь наконец распахнулась настежь, и Робен, не в силах пошевельнуться, увидел, как в кошмаре, самое жуткое существо, какое могло возникнуть в охваченном лихорадкой мозге.
Над шишковатым лбом, усеянным зияющими гнойниками, нависла белоснежная шевелюра, местами густая, как лесные заросли, местами редкая, как саванна. Бородавки и бугры, громоздясь друг на друга, образовали глубокие бледные борозды на воспаленной коже самого отталкивающего вида.
Синюшного цвета полуразложившийся невидящий глаз вылезал из орбиты, как яйцо из скорлупы. Левая щека представляла собой сплошную рану, ушные хрящи торчали как белые обломки посреди лоскутьев черной отмирающей кожи. В перекошенном рту не было ни одного зуба, на пальцах не осталось ногтей, а сами они, бугристые и скрюченные, окостенели, как у мертвеца. И наконец, одна нога незнакомца была такой же толщины, как его торс, безобразная, круглая, как столб, с лоснящейся кожей, которая, казалось, вот-вот лопнет под давлением отека.
Но старый негр, невзирая на съедавшую его проказу и слоновую болезнь, обездвижившую его ногу, как ногу каторжника, прикованного к ядру, был полон доброты и сострадания, как все обездоленные.
Он ковылял взад и вперед, с трудом поворачиваясь на своей изуродованной ноге, воздевал к небу скрюченные пальцы и, не смея прикоснуться к умирающему, испускал крики отчаяния…
– О, матушка моя… Мне конец! О, бедный кокобе (прокаженный)! Твоя не можно трогать белый муше, а то он умрет… Муше, добрый муше, – обеспокоенно кричал он. – Давай идти под дерево, туда, в тень.
Робен пришел в себя. Вид этого бедолаги вызвал у него безмерную жалость, лишенную оттенка отвращения.
– Спасибо, друг мой, – сказал он нетвердым голосом, – спасибо за вашу доброту, мне уже лучше. Я пойду дальше.
– О, муше! Не можно уходить. Я дам чуток воды, чуток кассавы, чуток рыбы, старый Казимир имей все, там, в доме.
– Спасибо, мой храбрый друг, я все приму, – прошептал растроганный Робен. – О, бедное обездоленное создание, твоя отзывчивая душа – словно безупречная жемчужина, скрытая под слоем грязной тины…
Старый негр был вне себя от радости, он старался изо всех сил, не забывая принимать бесконечные меры предосторожности, чтобы избежать соприкосновения гостя со всем, что полагал заразным.
Вернувшись в хижину, он тут же вышел оттуда, неся на конце расщепленной палки совершенно новую куи – половинку бутылочной тыквы. Он подержал куи в пламени очага, доковылял до ручья, набрал в нее воды и подал Робену, который с жадностью опорожнил эту примитивную чашку.
Тем временем сквозь открытую дверь и переплетенные стены хижины распространился приятный аромат жареной рыбы. Казимир положил на горячие угли кусок копченой кумару, и нежная рыбья плоть покрывалась хрустящей корочкой, способной свести с ума самого завзятого гурмана.
Положившись на аксиому, что огонь очищает все, Робен смог насытиться, не опасаясь заразиться проказой. Чернокожий был явно польщен тем, как незнакомец воздает должное его гостеприимству. Общительный, как все его соплеменники, словоохотливый, как все, кто привык жить в одиночестве, он с лихвой вознаграждал себя за годы молчания и разговоров с самим собой.
Он почти сразу понял, что за человек постучал в его хижину. Но это не имело для него никакого значения. Добрый старик видел, что его гость в беде, и этого ему было достаточно. Несчастный пришел именно к нему, и от этого стал для негра еще дороже.

И потом, он любил белых людей всем своим сердцем. Белые были так добры к нему. Казимир был стар… правда, он не знал, сколько ему лет. Он родился рабом на плантации «Габриэль», принадлежавшей тогда месье Фавару и находившейся на реке Рура.
– Да, муше, моя домашний негр, – заявил он не без гордости. – Я умей на кухне, умей ездить на лошадь, умей сажай гвоздику и руку.
Месье Фавар был добрым хозяином. В «Габриэли» никто не знал, что такое кнут. К чернокожим относились как к равным, обращались с ними как с домочадцами.
Казимир прожил там много лет. Он состарился. Незадолго до 1840 года он обнаружил первые симптомы проказы, этой страшной болезни, терзавшей Европу в Средние века и настолько распространенной в Гвиане, что здешней администрации пришлось открыть лепрозорий в Акаруани.
Больного сразу изолировали. Для него построили хижину недалеко от плантации и снабдили всем необходимым.
Затем наступил памятный день, когда свершился великий акт справедливости – отмена рабства! Все черные рабы получили наконец свободу… Люди стали равными. Отныне между ними не было никаких различий, кроме личных достоинств и умственных способностей.
Но по колониальной отрасли был нанесен сокрушительный удар. Ее процветание, несправедливо обеспеченное безвозмездным трудом, бесплатной эксплуатацией рабочей силы, безвозвратно закончилось. Плантаторы, привыкшие ни в чем себе не отказывать, в большинстве своем жили одним днем, не думая о будущем, поэтому остались практически ни с чем.
Большинство из них не смогли справиться с возникшей обязанностью оплачивать труд работников. Оказалось, что такой труд стоит недешево!
Впрочем, чернокожим и не нужно было ничего другого, кроме работы. К тому же их силы буквально удвоились лишь от одного волшебного слова «свобода».
Как бы там ни было, землевладельцы, не сумев организовать работу в новых условиях, забросили свои плантации. Чернокожие разбрелись, получили земельные наделы, сами их расчистили и засадили, начали работать на себя и жить свободно. Все они теперь – полноправные граждане!
Но поначалу многие по привычке остались работать на бывших хозяев, бесплатно и по зову сердца проливая пот на плантациях.
Так было и в «Габриэли». Но однажды хозяин уехал. Многолетние узы общей привязанности и общих нужд рухнули. Негры разбрелись кто куда, и Казимир остался один. В довершение всех несчастий его участок смыло наводнением. Оставшись без всяких средств к существованию, лишенный из-за проказы права жить среди людей, ставший для всех пугалом, он пошел куда глаза глядят, брел очень долго, пока не пришел в эту долину.
Место оказалось исключительно плодородным. Он решил здесь обосноваться, работал за четверых и без сетований ждал, когда его душа наконец покинет бренное тело.
Он стал прокаженным из безымянной долины.
Труд делал его счастливым.
Робен не перебивая слушал рассказ доброго старика. Впервые после высылки из Франции он наслаждался кратким мгновением беспримесного счастья. Он восхищенно смотрел на этот рай обездоленного. Надтреснутый голос старого негра звучал необыкновенно тепло. Нет больше никакой каторги, никаких застенков, никакой брани…
О, если бы он мог обнять этого человека, куда больше обделенного судьбой, чем он сам, и от этого ставшего таким близким!
– Как хорошо было бы остаться здесь, – прошептал он. – Но достаточно ли далеко я ушел? Впрочем, не важно; я остаюсь. Я хочу жить рядом с этим стариком, помогать ему и любить его! Друг мой, – сказал он прокаженному, – тебя гложет болезнь, ты страдаешь, ты одинок. Скоро ты не сможешь поднять мотыгу и рыхлить землю. Ты станешь голодать. Когда придет смерть, никого не будет рядом, некому будет закрыть твои глаза. Я тоже изгнанник. У меня больше нет родины, и кто знает, осталась ли еще семья. Хочешь, чтобы я поселился тут, рядом с тобой? Хочешь, чтобы я разделил с тобой все твои беды и радости и, конечно, твой труд? Скажи мне: ты хочешь этого?
Старый негр, растроганный и потрясенный, отказывался верить своим ушам, он рыдал и смеялся одновременно:
– О, муше! Хозяин! О, мой добрый белый сын!
Затем вдруг он вспомнил о своем уродстве, закрыл изъязвленное лицо скрюченными пальцами и упал на колени, сотрясаясь от безудержных рыданий.
Робен заснул под банановым деревом. Его мучили кошмары. Когда он проснулся, то почувствовал, что лихорадка усилилась. Он снова начал бредить.
Но Казимир не растерялся. Для начала нужно было любой ценой устроить новому другу крышу над головой. Он полагал, что его хижина заражена. Значит, надо было как можно скорее приспособить ее к новому предназначению, сделать ее подходящей для больного. Он схватил мотыгу, глубоко взрыхлил земляной пол, собрал и унес подальше верхний слой почвы. После этого он засыпал пол раскаленными углями, а сверху покрыл его листьями макупи, которые ловко срезал своим мачете и принес в хижину, ни разу их не коснувшись.
Обеззаразив таким образом верхний слой, Казимир заставил больного встать, ласково приговаривая:
– Давай, компе, вставай… можно ложись там.
Робен повиновался, как ребенок, вошел в хижину, вытянулся на зеленой постели и заснул мертвецким сном.
– Бедный муше, – сказал себе чернокожий. – Такой больной. Он умирай без меня. Ах, нет, Казимир не хотеть это.
Приступ лихорадки разразился стремительно, почти молниеносно. Больной метался в бреду. Его затылок раскалывался от невыносимой боли; ему мерещились жуткие видения; перед глазами плыл кровавый туман, в котором корчились тысячи отвратительных скользких чудовищ, одно ужаснее другого.
К счастью, чернокожий старик отлично знал об опасности таких приступов и был хорошо знаком с туземными снадобьями, которыми пользовались здешние знахари.
На его любовно возделанном участке росло не только то, что годилось в пищу, здесь нашлось место для трав и других растений, которые креольская медицина успешно и повсеместно использует как лекарство.
Здесь рос калалу, из нарезанных ломтиками плодов которого готовят освежающий напиток, а если превратить их в кашицу, то получится самая смягчающая припарка. А еще – япана, или гвианский чай, одновременно тонизирующий и потогонный; кустики батото с невероятно горькими листьями, обладающими жаропонижающими и обеззараживающими свойствами, подобно хинину или салицину; тамаринд, из которого можно было приготовить слабительное, клещевина; дьявольский калалу, из семян которого делают настойку на тростниковой водке, отличное средство при змеиных укусах, и другие лекарственные растения.
Но состояние Робена требовало немедленного лечения более эффективными средствами. Казимир это хорошо понимал. Несмотря на обильное кровопускание, устроенное летучим вампиром его новому товарищу, приступ лихорадки грозил гиперемией, а то и кровоизлиянием. Тут срочно требовался нарывной пластырь.
Но где его взять? На пятом градусе северной широты! У негра не было ни шпанских мушек, ни нашатырного спирта, вообще ничего, способного вызвать нарывное действие.
Но старый доктор in partibus даже не думал опускать руки.
– Одну минутку, муше, я быстро идти и вернуться.
Он взял тесак, миску-куи и ковыляя отправился к воде.
– Вот, хорошо, – приговаривал он, наклонившись и внимательно осматривая берег ручья. – Вот еще, оно самое.
Он согнулся, поднял что-то и положил в свою растительную чашу, и так восемь или десять раз. Затем прокаженный вернулся.
Его не было каких-то десять минут.
Подойдя к больному с серьезным и сосредоточенным видом, он с бесконечными предосторожностями достал из чашки насекомое сантиметра полтора длиной, угольно-черного цвета, блестящее, с тонким хитиновым панцирем и подвижным утолщенным брюшком. Держа его за голову, Казимир приложил другую его оконечность за ухо больного.
Из тельца тут же появилось короткое жесткое жало и глубоко вонзилось в кожу.
– Ну вот, оно хорошо, – гнусаво пробормотал негр.
Он отбросил насекомое, взял второе и проделал с ним ту же операцию, только на этот раз за другим ухом. Потом третье, приложив его двумя сантиметрами ниже, затем четвертое, пятое, шестое…
Больной испускал крики боли, так невыносима была эта небольшая операция.
– Ну вот, ну вот, – приговаривал негр. – Вот так. Эта мелкая злая гадина быть хорошо для муше.
На самом деле все вышло просто превосходно. Не прошло и четверти часа, как за ушами больного вздулись два огромных волдыря, наполненных желтоватой жидкостью, произведя нарывной эффект, аналогичный тому, который достигается после двенадцати часов наложения нарывного пластыря.
Больной, казалось, заново родился: хриплое дыхание стало мягче и ровнее, яркие от лихорадки щеки побледнели. Произошло настоящее чудо, причем без всякого вмешательства цивилизованной медицины.
– Фламандский муравей, он хороший, да, – сказал Казимир и не мешкая взял длинный шип пальмы кунана и проколол оба волдыря, откуда брызнула бледно-желтая жидкость. Он было собирался приложить к проколам клочок хлопка, пропитанного маслом из плодов пальмы баш, но не стал рисковать, чтобы не занести проказу.
– Хорошо!.. Да, хорошо…

Робен пришел в себя, вернее сказать, его болезненное беспамятство сменилось мягкой сонливостью. Он с трудом поблагодарил своего спасителя и мгновенно уснул.
Добрый старый негр совершил настоящее чудо. Впрочем, это чудодейственное средство с практически моментальным эффектом было донельзя простым. Самая обычная народная медицина, ничего сверхъестественного. Укусы фламандских муравьев чрезвычайно болезненны. Яд, который поступает в тело жертвы через жало, в том числе вызывает немедленное образование нарывов. Похожая картина наблюдается после укусов кипящих муравьев из Экваториальной Африки. Кожа вздувается волдырями прямо на глазах, словно под воздействием кипятка. Последствия укуса совершенно идентичны тому, что наблюдается после наложения нарывного пластыря.
Когда больной проснулся, тропическое лечение завершилось крепкой настойкой из листьев батото. В результате через двадцать четыре часа Робен, хотя еще и очень слабый, был вне опасности.
Кто научил старого негра использовать такие средства, действие которых столь невероятно сходно с теми, которые применяют наши врачи, всеми этими жаропонижающими и вытягивающими препаратами? В самом деле, не был ли нарыв от укуса муравья целительнее того, что вызывает шпанская мушка? А настойка листьев батото, спасшая столько жизней лесных скитальцев, чем она хуже хинина?
Вот вам чудесное сближение, удивительная связь между тем, на что способны дикари, читающие книгу природы, и премудростью ученых, чахнущих над медицинскими фолиантами!
Беглец, наконец вырванный из хватки тропической лихорадки, был спасен. Немилосердную природу удалось победить, но ему по-прежнему грозила человеческая ненависть.
Прошло всего четыре дня, и Казимир, отсутствовавший несколько часов, вернулся, объятый ужасом:
– Мой компе!.. Там злые белые, идти сюда, к нам!
– Ох!.. – ответил Робен, глаза которого засверкали как молнии. – Белые… враги. Нет ли среди них индейца?
– Да, так. С ними калинья.
– Ну что же. Я еще страшно слаб, но буду защищаться. Я не сдамся живым, слышишь!
– Слышу, да. Но я не дать убить мой белый сын. Никуда не ходить… Быть тут, под листьями макупи. Смотреть, как старый Казимир сыграть шутка с плохая белый.
Беглец попробовал поднять свое мачете. Увы, оно все еще было слишком тяжелым для него. Затем, вспомнив о тех средствах, которыми располагал его компаньон, Робен забился под ворох зеленой листвы и затаился в ожидании.
Вскоре послышался топот быстрых шагов, а за ними раздался грубый голос, подкрепленный хорошо знакомым щелчком взводимого курка.
Вместо приветствия вновь прибывшие ограничились фразой, которая и в цивилизованных странах не предвещает ничего хорошего, а здесь прозвучала одновременно мрачно и нелепо:
– Именем закона, откройте!
Чернокожий, не дожидаясь повторного окрика, тихо открыл дверь, и в проеме показалось его обезображенное лицо.
Белые в ужасе отшатнулись, словно увидели гремучую змею, а индеец, который явно не ожидал подобной встречи, просто остолбенел.
На несколько секунд на поляне воцарилась тишина.
– Заходить, – сказал Казимир, пытаясь изобразить на лице выражение самого сердечного гостеприимства. Это была, впрочем, напрасная попытка, от этого его черты сделались еще уродливее.
– Это прокаженный, – пробормотал один из белых, одетый в форму тюремного надзирателя. – Я ни за что на свете не полезу в его хибару, там вмиг подцепишь каких-нибудь блох, клещей, а то саму проклятую заразу, что его сжирает.
– Что, не хотеть зайти?
– Да ни в жизнь. Там, видать, все отравлено внутри, все насквозь пропитано проказой. Фаго ни за что не стал бы там прятаться.
– Как знать, – подхватил второй надзиратель. – Мы не для того сюда тащились, чтобы вернуться ни с чем… Если будем действовать осторожно… В конце концов, мы же не дети.
– Ты, конечно, как хочешь, но я туда не сунусь… У меня и без того все ноги в язвах, они сразу же начали нарывать от одного только вида этого курятника.
– Моя идти, – заявил индеец, думая лишь о награде и бесконечных стаканчиках тафии, которые за ней последуют.
– Я тоже, будь оно все проклято, – сказал второй стражник. – Не умру же я от этого, в конце концов!
– Оно так, муше, – ответил прокаженный с лучезарным, как ему казалось, видом.
Надсмотрщик вошел первым, сжимая в руке тесак. Жалкая хижина едва освещалась несколькими тонкими лучами света, проникавшими сквозь плетеные стены.
Индеец на цыпочках последовал за ним. Единственной «мебелью» оказался плетеный гамак, натянутый от стены до стены. На земле лежали грубые инструменты, чашки и сосуды из высушенных диких тыкв, терка для маниока, «змея для маниока» – особая плетенка, предназначенная для того, чтобы пропускать через нее натертую маниоковую мякоть, ступка, длинная жердь из какого-то черного дерева да круглая пластина листового железа.
Прямо на полу была устроена постель из пышной охапки листьев макупи; в углу – несколько вязанок кукурузных початков и лепешек кассавы.
И больше ничего.
– А тут что? – рыкнул стражник, указывая кончиком мачете на охапку листвы. – Есть там что-нибудь?
– Не могу знай, – ответил негр с непонимающим видом.
– Не можешь знать? Хорошо, сейчас посмотрим!
С этими словами он поднял руку, намереваясь проткнуть клинком лиственное ложе.
В тот же момент раздался тихий, но пронзительный свист, и надзиратель в ужасе застыл на месте как стоял – с поднятой рукой и устремленным вниз мачете, нога выдвинута вперед, ни дать ни взять учитель фехтования, показывающий, как нанести удар из второй позиции.
Он просто окаменел. Индеец же давно вылетел из хижины. Достойный краснокожий тоже был перепуган насмерть и, похоже, совсем забыл о будущей попойке.
– Ай-ай! – вопил он. – Ай-ай!.. – И грубый акцент выдавал его безумный ужас.
Надзирателю потребовалось примерно полминуты, чтобы прийти в себя. Прокаженный, не двигаясь с места, смотрел на него с дьявольской усмешкой.
– Почему больше не искать?
От звука человеческого голоса надзиратель подпрыгнул на месте.
– Ай-ай! – пробормотал он сдавленным голосом. – Это ай-ай…
Его взгляд не мог оторваться от двух светящихся точек, раскачивающихся в середине черной спирали, закрученной, как бухта судового каната.
«Одно резкое движение, и мне конец, – подумал он. – Хватит, пора убираться отсюда».
И медленно, очень осторожно, с предельной аккуратностью, он подтянул правую ногу, отступил левой, попятился назад, пытаясь одновременно нащупать дверь.
Но в тот момент, когда он наконец испустил вздох облегчения, прямо над его головой раздался тот же свист. Волосы на голове надзирателя встали дыбом. Ему показалось, что корень каждого волоска раскалился докрасна.
Что-то длинное, тонкое, не толще бутылочного горла, медленно соскользнуло с потолочной жерди с сухим шуршанием встопорщенных чешуек.
Он поднял голову и едва не рухнул навзничь, увидев в нескольких сантиметрах от своего носа змею, которая, раскрыв пасть и уцепившись хвостом за балку, грозила свалиться на него и впиться в его лицо своими ядовитыми зубами.
Вне себя от ужаса, он отскочил назад, обрушив с размаху удар сабли на жуткое пресмыкающееся. К счастью для надзирателя, клинок прошел сверху вниз и начисто снес голову змеи, тотчас рухнувшей на пол хижины.
– Граж, – завопил надзиратель, – это граж!
Дверь была прямо позади него, он проскочил сквозь дверной проем с ловкостью акробата, прыгающего через бумажный обруч, едва не споткнувшись о третью змею, которая, ползая, издавала трескучий звук ороговевшей погремушкой на кончике хвоста.
Все эти события заняли не более минуты. Второй надзиратель, встревоженный криками индейца, оторопел при виде своего товарища, бледного, мокрого от пота, с перекошенным лицом, почти что на грани обморока.
– Ну что там? – резко спросил он. – Говори же!
– Там… там… полно змей, – с трудом выдавил тот.
В это время из хижины вышел негр, двигаясь так быстро, как позволяла его искалеченная проказой нога.
– Ах да, муше, змеи. Да, много, полная дом.
– Так ты что же, в нем не живешь?
– Нет же, муше, малость живу.
– Так почему же он кишит змеями? Обычно они лезут только в заброшенные дома.
– Не могу знай.
– Не могу знать! А что ты вообще знаешь? Сдается мне, ты много чего знаешь, да только притворяешься дурачком.
– Да я ведь не сам сажай туда змей.
– Тут я тебе, конечно, поверю. И чтобы с тобой ночью не случилось чего нехорошего, подпалю-ка я сейчас твою хибару, уж больно опасные там соседи.
Старый негр задрожал от ужаса. Если хижина сгорит, его гость тоже погибнет. И он с подлинной мукой в голосе стал умолять надсмотрщиков о пощаде. Он всего лишь бедный человек, старый и больной. Он никогда никому не делал ничего плохого, хижина – его единственное богатство. Где ему жить, если она сгорит? Его немощные руки не смогут построить новое жилье.

– Он прав, если рассудить, – сказал тот, что попытался войти в хижину. Он был счастлив, что легко отделался, и желал лишь одного: убраться отсюда поскорее. – Готов биться об заклад, что наш беглец не станет делить свою постель с такими товарищами. Индеец провел нас, тут одно из двух: Робен либо очень далеко отсюда, либо уже подох где-нибудь.
– Клянусь, ты прав. Мы в любом случае сделали все, что могли.
– Если ты не против, не станем тут задерживаться.
– Само собой. Пусть черномазый сам разбирается со своими жильцами, нам уже пора.
– Да, кстати, а где наш индеец?
– Индеец надул нас, как первогодков, и давно смылся.
– Ну попадись он мне только, я с него шкуру спущу, будь уверен…
И надзиратели, вполне философски восприняв свою неудачу, отправились восвояси.
Старый Казимир, глядя им вслед, заходился поистине дьявольским хохотом:
– Ох-ах!.. Змея ай-ай… змея граж… боисиненга… Эта змейки – моя друзья, да.
Он вернулся в хижину и тихо засвистел. Травяное ложе едва заметно зашевелилось, затем все затихло.
О том, что здесь только что были змеи, говорил лишь характерный для них сильный запах мускуса.
– Компе, – весело сказал старик. – Вы там как?
Из вороха листьев и трав показалось бледное лицо беглеца. Робен с трудом выбрался из укрытия, где он только что провел мучительные и тревожные четверть часа.
– Они все же ушли?
– Да, компе, уходить… Очень злые и бояться, шибко бояться!
– Но как ты сумел обратить их в бегство? Я слышал, как они орали от ужаса… Да еще этот мускусный запах.
И прокаженный рассказал своему гостю о том, что он умеет заклинать змей. Он знает, как заставить их явиться на его зов, он может не только безнаказанно их трогать, но и не боится их укусов, в том случае, если опасный гость случайно заденет его ядовитым зубом. Ему не страшна не только боисиненга, или каскавелла, но и куда более опасный граж и даже смертоносная ай-ай, названная так потому, что укушенный ею только и успевает, что испустить этот крик, перед тем как умрет.
Что касается иммунитета Казимира, он объяснялся тем, что его «вымыл» от змей «муше» Олета, белый врач, хорошо известный в Гвиане. Он знал, как с помощью настоек и прививок сделать безвредным укус абсолютно любой змеи.
– Я зови змей, когда приходить белые. Они не быть «вымытый» от змеи, вот и убегай прочь.
– А если бы одна из них меня укусила?
– О, нет опасно. Моя клади трава вокруг вас. Змеи не любить эта траву[8], они не полезть. Но пока сидите тут, не ходить из дома. Калинья уйти в лес. Но он злая, теперь без награда, не мочь купи тафия. Он следи за нами.
Добрый старик не ошибся. Не прошло и шести часов после неожиданного прибытия стражников и их поспешного бегства, как Атука вернулся и принялся нагло шнырять вокруг хижины.
– Ты плохой, – заявил он. – Не дай поймать белый тигр.
– Иди прочь, злой калинья, – ответил ему Казимир, презрительно сплюнув, – здесь для тебя ничего нет! Если суй нос в моя хижина, вот увидишь, старый кокобе навести на тебя пиай!
Услышав слово «пиай», означающее порчу, индеец, суеверный, как все его соплеменники, мгновенно скрылся в чаще, стремительнее, чем кариаку, бегущий от ягуара.
Глава IV
Дерзкие, но осуществимые планы. – Проказа не так уж заразна. – Изготовление лодки. – «Надежда». – Признательность отверженного. – Записная книжка каторжника. – Жемчужина в грязи. – Письмо из Франции. – Слишком поздно! – За работу! – Что происходило 1 января 185… года в мансарде на улице Сен-Жак. – Семья изгнанника. – Трогательный подарок парижского рабочего. – Нищета и гордость. – Дети, которые плачут по-мужски. – Воспоминание о ссыльном. – Пожелания на Новый год. – Беспокойство, тревога и тайна. – Гвианские робинзоны.
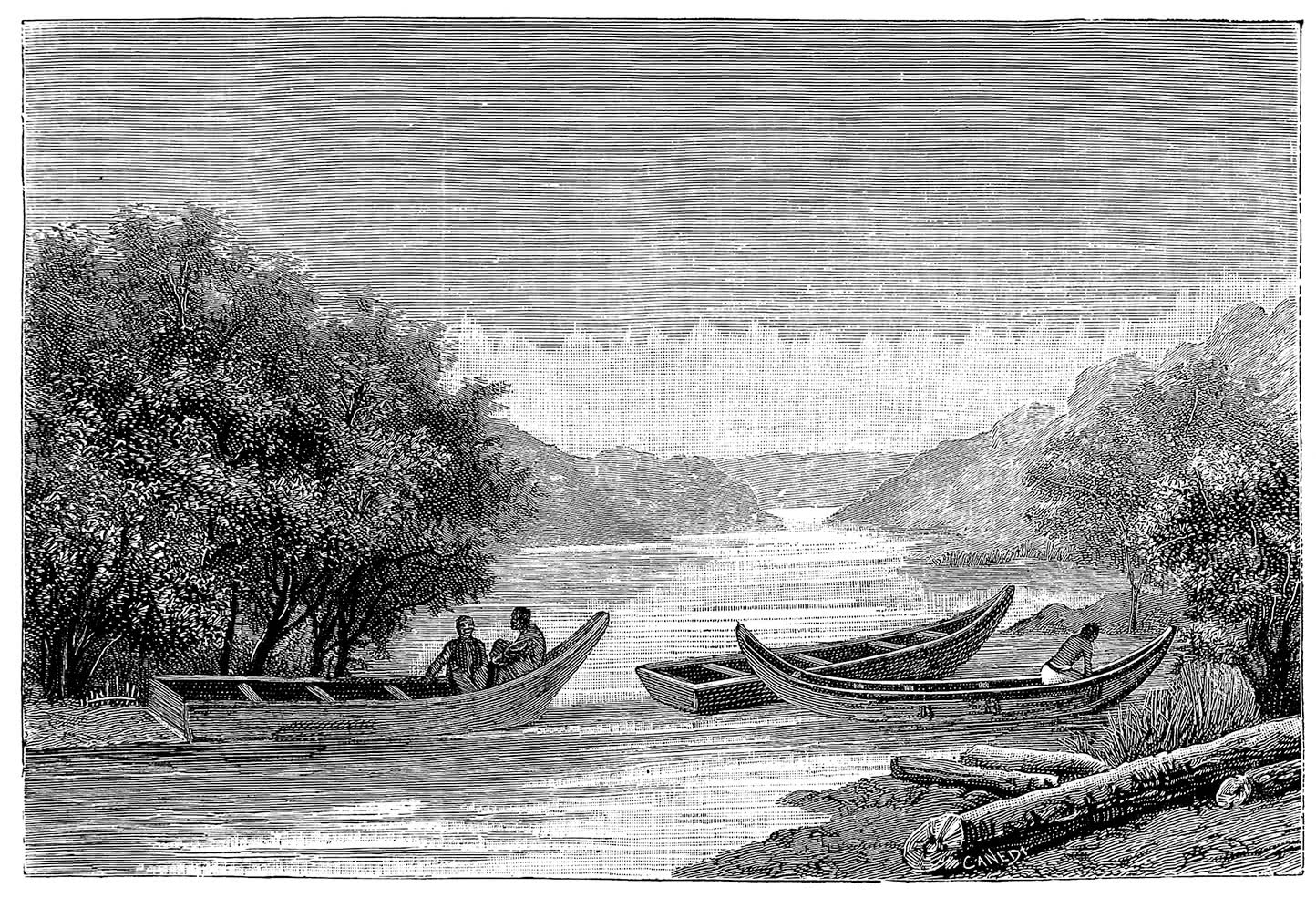
Во время своего беспорядочного бегства со всеми его превратностями Робен не слишком отклонился от изначально намеченного направления.
Он стремился держаться реки Марони, которая представляет собой естественную границу между Французской и Голландской Гвианами и в нижнем течении, от пятого градуса северной широты до устья, течет на северо-восток, и беглецу в целом удалось сохранить направление движения вдоль ее русла, то есть к юго-западу.
У него не было никаких измерительных инструментов, так что он мог лишь приблизительно оценить пройденное расстояние и установить место, где теперь находился. Самым важным для него было оставаться поближе к Марони, большой судоходной реке, которая рано или поздно станет для него дорогой в цивилизованный мир.
Новый товарищ не мог снабдить его нужными сведениями. Бедняге было все равно, где он оказался, главным было обеспечить свое жалкое существование. Он примерно знал, что река находится в трех или четырех днях пути на запад, и на этом все. Ему даже было неизвестно, как назывался ручей, который орошал его плодородную долину.
Робен предположил, что это мог быть ручей Спаруин. Если эта догадка была верна, его пребывание у прокаженного было небезопасным. Администрация колонии только что устроила у устья этого ручья лесорубочный участок. Там постоянно находилась бригада каторжников. Один из его прежних товарищей, а то и надзиратель, мог случайно выйти на поляну в любой момент.
К нему вернулись прежние силы, а вместе с ними несокрушимое стремление любой ценой сохранить свободу, купленную столь тяжкими страданиями.
Прошел уже месяц с того дня, как его врагов обратила в бегство змеиная армия, которой командовал Казимир. Беглец быстро привык к этой спокойной жизни, ее безмятежность исцелила его тело и душу от каторжного ада.
Его также не оставляли мысли о близких. Каждый день, каждый час он возвращался к ним в печальных и нежных воспоминаниях. Каждую ночь он видел их в дорогих сердцу, но порой тревожных снах.
Как дать им знать о том, что час его освобождения пробил? Как снова их увидеть? Как послать им простую весточку о том, что он жив, не подвергая себя жестокой опасности?
В его голове теснились самые безумные идеи, самые невозможные проекты. Некоторое время он размышлял о том, чтобы достичь голландского берега Марони, пересечь всю соседнюю колонию и добраться до Демерары, столицы Британской Гвианы. Там он мог бы найти работу, чтобы обеспечить себя на первое время, а затем попытаться наняться матросом на судно, отплывающее в Европу.
Но рассуждения Казимира сразу же свели на нет эту утопическую затею. Голландцы непременно арестуют его, а даже если и нет, у белого друга все равно нет никаких шансов добраться до английской колонии, не связанной с Францией договором об экстрадиции.
– А что, если мне подняться вверх по течению Марони? Судя по картам Леблона, ее главный приток Лава вытекает из бассейна Амазонки. Может быть, у меня получится добраться до Бразилии по реке Жари или какой-то другой?
– Это никто не знай, компе, – повторял чернокожий. – Подождите еще чуток.
– Конечно, мой добрый Казимир. Я подожду… сколько потребуется. Нам нужно запастись провизией, построить лодку, а потом мы уедем вместе.
– Оно так.
Лишь после долгих разговоров Робен согласился на то, чтобы старик присоединился к его рискованному путешествию. И вовсе не из-за того, что он боялся прикоснуться к нему и заразиться опасной болезнью. Нет, дело было не в этом. Казимир был уже стар. Мог ли беглый каторжник воспользоваться глубокой привязанностью, которую несчастный выказал ему с первого дня, чтобы заставить его покинуть эту долину, превращенную в рай его изуродованными руками, оставить этот безмятежный покой, его привычки изгнанника, эту легкую свободную жизнь на лоне природы?
О, Робен, конечно, не был эгоистом! Он от всего сердца платил старику такой же преданностью и старался сделать его жизнь как можно спокойнее и приятнее.
Но Казимир настаивал с таким упорством и силой убеждения, что в конце концов Робен согласился. Прокаженный плакал от радости и благодарил своего доброго белого «компе» на коленях.
В бессознательном порыве, одним из тех движений, что вызваны велением сердца, ссыльный поднял старика с земли.
– Ох! – горько вскрикнул несчастный. – Вы трогай меня, теперь вы стать кокобе…
– Нет, Казимир, не переживай об этом. Я счастлив пожать тебе руку, ты очень дорог мне, редко встретишь человека, способного только на добрые дела. Поверь, друг мой, твоя болезнь совсем не так заразна, как все думают. Во Франции я много учился. Так вот, врачи, большие ученые говорят, что она вовсе не передается от одного человека к другому. Некоторые из них, те, что работали в странах, где часто встречается проказа, считают, что можно остановить течение болезни, если уехать из тех мест, где заболел. Так что у меня теперь вдвое больше поводов, чтобы взять тебя с собой туда, куда я направляюсь.
Из этой речи Казимир понял лишь то, что белый друг не бросит его. К тому же он пожал ему руку – такого со старым негром не случалось уже лет пятнадцать. Нет нужды описывать эмоции прокаженного.
Итак, решение было принято. Они построят легкую лодку с небольшой осадкой и загрузят в нее как можно больше съестных припасов – главным образом куака (маниоковой крупы) и сушеной рыбы.
Как все будет готово, они спустятся вниз по ручью, передвигаясь только по ночам. Днем они будут прятать пирогу в прибрежных зарослях, а сами отдыхать в тени деревьев.
Когда они доберутся до Марони, то поплывут вверх по течению, пока не найдут большой приток, пересекающий Голландскую Гвиану и связанный с бассейном реки Эссекибо, протекающей по английской колонии.
Там они будут спасены, поскольку Джорджтаун, он же Демерара, находится недалеко от устья этой реки.
Так в целом выглядел их грандиозный план, не считая возможных изменений по вине непредвиденных обстоятельств. Если говорить о бесчисленных трудностях, друзья просто перечислили их, чтобы больше к этому не возвращаться.
Провизии было более чем достаточно. Оставалось только ее собрать и упаковать, когда настанет время. А вот с плавучим средством дела обстояли не так просто. Обычное каноэ из коры не годилось для такого путешествия. Оно склонно к протечкам, так что провиант, основной ресурс путешественников, может оказаться под угрозой. К тому же такая лодка не сможет выдержать удары и толчки во время переходов через пороги, каких на гвианских реках и ручьях необычайно много.
Поэтому было решено построить пирогу по образу тех, что делают чернокожие племен бош и бони, из цельного ствола местного дерева бамба, не подверженного гниению и стойкого к воздействию воды.
Заостренная и приподнятая с обеих сторон, такая лодка способна плыть вперед и назад без ущерба для скорости. На обоих концах оставляют толстый слой древесины, не менее полуметра, так что удары о камни ей не страшны. Обычно эти лодки делают пяти метров в длину, они способны нести двух гребцов и до пятисот килограммов груза.
Теперь нужно было найти подходящее дерево, отвечающее всем необходимым требованиям, то есть не слишком большое, не слишком маленькое, в расцвете лет, без единого дупла и больших трещин, а главное – недалеко от ручья и плантации.
На поиски ушло два нелегких дня блужданий среди гигантских деревьев Гвианы, где они растут не рощами, а разбросаны там и сям среди бескрайних просторов.
Подходящее наконец обнаружилось, и Казимир, как главный инженер-кораблестроитель, объявил, что оно «бон-бон». Товарищи сразу же приступили к делу. Но увы, работы продвигались крайне медленно. У старого отшельника был лишь небольшой топорик, острие которого отскакивало от твердой древесины бамбы, оставляя на ней лишь неглубокие зарубки.
К счастью, Казимир до тонкостей изучил все приемы лесных жителей. Когда железа было недостаточно, они прибегали к помощи огня. У подножия дерева развели костер, который двое суток медленно горел, обугливая ствол до тех пор, пока тот не рухнул среди ночи с оглушительным треском.
Разбуженный этим звуком, Казимир мгновенно проснулся и вылез из гамака с криком:
– Вы слышать, компе?.. Бум… Оно упасть, треск на весь лес!
Робен, вне себя от радости, не сразу смог снова заснуть.
– Это хорошо, вот начало нашего пути к свободе. У нас, правда, нет инструментов, чтобы выдолбить лодку, но…
– О, ну и что, – перебил его старый негр. – У лесных негров бош и бони тоже нет железо, они делай лодки с помощью огонь.
– Да, знаю. Они выжигают огнем внутреннюю часть дерева, а затем выравнивают ее мачете или даже заостренными камнями, но я придумал кое-что получше.
– Что, что вы придумай, компе?
– У тебя есть мотыга, и преотличная, не так ли? Так вот, я заточу ее как следует, сделаю крепкую рукоятку, и у нас будет прекрасное тесло. Вот увидишь, Казимир, с таким инструментом я смогу сделать пирогу такой же гладкой и цельной внутри и снаружи, как лист барлуру.
– Хорошо, компе, хорошо! – радостно воскликнул негр.
Сказано – сделано, и компаньоны, приспособив мотыгу к ее новому предназначению, отправились прямиком к месту постройки лодки.
Каждый нес с собой немного еды, чтобы было чем подкрепиться в течение дня, по пути они весело беседовали.
– Ну вот, Казимир, – говорил Робен, ставший куда более общительным с тех пор, как его жизнь обрела цель, которой он мог достичь в скором времени, – думаю, что через месяц мы сможем отправиться в путь. Скоро мы будем далеко отсюда. В свободной стране. Я больше не буду диким животным, которое преследуют, каторжником, которого травят собаками… Я перестану быть добычей для индейцев и стражников… Я больше не буду белым тигром!

– Оно так, хорошо, – негромко повторял прокаженный, разделяя радость своего друга.
– А еще, представь себе, я смогу увидеть мою жену, моих милых малюток. В одно мгновение забыть обо всех прошлых пытках… Стереть одним поцелуем воспоминания о каторге… Сжимать их в объятиях, видеть и слышать их! Эта надежда придает мне силу великана. Мне кажется, что я мог бы разнести весь лес в щепки. Сейчас ты увидишь, как я возьмусь за лодку… нашу прекрасную лодочку, в ней вся моя надежда. Точно! Мы так и назовем ее – «Надежда»!
В этот момент они оказались на прогалине, которая появилась в результате падения бамбы, увлекшей за собой несколько соседних деревьев. Солнечный свет так и хлынул через брешь, открывшуюся в зеленом своде. Обломленный ствол все еще дымился.
– Вперед, за работу, мой…
Робен не смог закончить фразу. Он замер, потрясенный, при виде мужчины, вооруженного мачете и одетого в мрачную каторжную робу. Незнакомец резко выпрямился и произнес запросто:
– Гляди-ка, это вы, Робен? Черта с два я ожидал встретить вас здесь…
Робен, ошеломленный столь неожиданной встречей, ничего не ответил. Один только вид бывшего товарища по несчастью вызвал в его памяти целую вереницу самых тяжелых воспоминаний.
Он снова увидел во всей красе тюрьму и все ее мерзости!.. Трибунал и двойные кандалы… Водворение на каторгу. Ему даже в голову не пришло, что этот человек тоже может быть беглецом.
И вполне возможно, что он здесь не один. Вероятно, поблизости, под пологом леса, прячется целая шайка негодяев, за которыми следят надсмотрщики.
И что теперь? Выходит, он понапрасну вынес такие страдания? Значит, надо попрощаться с замаячившей было свободой? Инженером овладело странное лихорадочное состояние. В его голове мелькнула мысль об убийстве. В конце концов, что ему жизнь этого бандита, чье появление грозило ему страшной опасностью.
Но Робен тотчас же устыдился этого бессознательного порыва и снова овладел собой.
Вновь прибывший, казалось, не заметил его смущения, как и не удивился его молчанию. Он просто продолжил:
– О да, я понимаю, вы не из болтунов. Какая разница, я все равно очень рад вас видеть.
– Это вы, Гонде? – наконец с усилием произнес Робен.
– Он самый, Гонде, из плоти и крови… хотя вернее было бы сказать – из костей. Видите ли, тюремный паек не стал сытнее после вашего побега, и будь я проклят, если кто-то смог растолстеть при такой жаре и с адской работой, которую нам приходится выполнять!
– Но что вы здесь делаете?
– Кому другому я бы ответил, что любопытство убило кошку и что нечего лезть не в свое дело. Но вы, конечно, особый случай, вы имеете право знать. Я всего-навсего лесной разведчик.
– Лесной разведчик?
– Да, я ищу деревья. Вы же знаете, что на каждой лесной разработке начальство выделяет человека, который хорошо знает лес и породы деревьев. Он идет по лесу наудачу, находит самые ценные стволы, помечает их, а после, через некоторое время, государственные «сидельцы» валят их во благо своего хозяина.
– Да, понятно.
– К тому же до того, как угодить на казенные харчи, я был краснодеревщиком, отсюда и прозвище Маленький Столяр, которое прилипло ко мне с самого первого дня каторги. Меня назначили на разведку со щедрой оплатой – сорок сантимов в день. Вот я и свалился на вас, как коршун на цыпленка. Хотя вы ничуть не похожи на цыпленка, у вас такой гордый вид, сразу видно человека, который живет собственным умом.

– А остальные, где они?
– О, они больше чем в трех днях пути отсюда. Сейчас вам нечего бояться.
– Значит, вы не сбежали?
– Я не так глуп. Мне осталось всего полгода, а потом обязательное поселение. Через шесть месяцев я буду относительно свободен, если не считать принудительного проживания в Сен-Лоране, и смогу получить концессию.
– То есть вы не беглый?
– Да нет же, вам говорят. Можно подумать, вам это не по душе. Конечно, вы бы больше доверяли мне, если бы я не возвращался туда. Не беспокойтесь. Хоть мы все и отребье, но не без понятия. Фаго никогда не выдаст сбежавшего товарища.
Робен внезапно вздрогнул.
– О, не сердитесь, что я называю вас товарищем, – сказал Гонде, заметивший реакцию беглеца. – Я знаю, что вы нам не товарищ, разве что по несчастью. И кстати, если хотите знать, все были просто в восторге оттого, что вам удалось улизнуть. А Бенуа! Его прихвостни приволокли бедолагу едва живого. Как он рвал и метал, просто кровь себе сворачивал. Что тут скажешь, вы из крутого теста, сберегли свою шкуру там, где от другого и костей бы не осталось. Без шуток, вы крепкий мужик. Пусть вы не из наших, но все же мы вас уважаем.
– Собираются ли меня искать? – спросил Робен почти помимо своей воли, не желая черпать сведения из столь сомнительного источника.
– Никому, кроме Бенуа, до вас дела нет… Вы его козел отпущения, не принимайте на свой счет, я не думал вас оскорблять. Он чертыхается с утра до ночи, бедные сестры в госпитале просто на стены лезут от его ругани. И все в вашу сторону, само собой. По мне, так я уверен: как только он придет в норму, то попробует вас сцапать. Посмотрим, что из этого выйдет! Вы же не мальчик, к тому времени вы сможете уйти очень далеко, и вас сочтут мертвым.
Лесной разведчик, словоохотливый, как большинство каторжников, когда им удается поговорить с кем-то не из своего привычного круга, не мог остановиться.
– Вы знаете, что вам дьявольски повезло встретить этого старого негра? Он, конечно, страшен до чертиков, но, видимо, здорово вам пригодился. Да, я бы ни за что не подумал, что это вы повалили бамбу, на которую я наткнулся сегодня утром. Из нее выйдет отличная пирога. Кстати, у меня гениальная идея. Я же здесь по поручению администрации. У меня есть добрый топор, что, если я помогу вам рубить лодку?
– Нет, – довольно грубо оборвал его Робен, не желавший подобного помощника.
Каторжник, несомненно, понял причину отказа, и это проняло его до глубины души. Он вздрогнул, а его лицо, с грубыми и дерзкими чертами, болезненно исказилось.
– Ну конечно, – с горечью сказал он, – такие, как мы, не могут ничего предлагать честным людям.
А вы знаете, как нелегко тем, кто оступился? Без надежды на то, что снова станешь порядочным? Мне-то это хорошо известно. Я, вообще-то, из хорошей семьи. У меня есть кое-какое образование, мой отец был одним из лучших краснодеревщиков Лиона. К несчастью, я потерял его, когда мне было семнадцать. Я связался с дурной компанией, погнался за удовольствиями.
Помню, как моя бедная мать говорила мне: «Сынок, я вчера узнала, что какие-то молодые люди устроили пьяный дебош в нашем квартале и провели ночь в полицейском участке. Если с тобой случится что-то подобное, я умру от горя». Через два года я оступился и меня приговорили к пяти годам каторжных работ!
Моя мать два месяца была между жизнью и смертью, а потом два года на грани безумия. Она совершенно поседела. Когда меня увозили, ей не было и сорока пяти лет, а выглядела она на все шестьдесят.
С тех пор как я оказался на каторге, я ни разу ничего не украл. Я не хуже и не лучше других, но теперь я проклят. Видите, я даже не могу заплакать, пока рассказываю вам все это. Вас, месье, каторга облагородила, а меня она прожевала и выплюнула!..
Робен, поневоле растроганный, подошел к бывшему краснодеревщику и, чтобы прекратить эту тягостную сцену, предложил ему половину своего обеда.
– Я, конечно, должен бы вам отказать, – ответил тот. – Но мы люди не гордые, нет у нас такого права, так что я принимаю ваше предложение. Вы все тот же… и не в первый раз оказываете мне добрую услугу.
– Как так? – спросил удивленный Робен.
– Ох, проклятье, вы даже не помните, это очень просто! Вы вытащили меня из Марони, когда меня унесло течением и я уже готовился пойти ко дну и отдать богу душу. Вы даже не задумались рискнуть своей жизнью, чтобы спасти презренного каторжника. Так что, сами видите, я могу лишь молиться за успех вашей затеи, причем от всего сердца, а дальше думайте что хотите.
– Да, в самом деле, – ответил ссыльный. – Поверьте, я очень признателен вам за ваши добрые чувства.
– О боже, а главное-то я и забыл. Письмо!
– Какое письмо?
– Вот какое: меньше чем через две недели после вашего побега вам пришло письмо из Франции. Администрация, конечно, с ним ознакомилась. Начальники обсуждали его между собой. Мы узнали об этом от одного парнишки, который им прислуживает, из высланных. Они вроде бы говорили о том, что у вас там есть друзья, которые пытаются добиться для вас помилования. Что дело это не быстрое, но если бы вы захотели лично подписать прошение о помиловании, то его бы удовлетворили.
– Никогда! – перебил его Робен, покраснев от негодования. – Но все же имею ли я право оставить семью без поддержки? Выходит, нужно обесчестить свое имя, чтобы обеспечить их существование? Впрочем, не важно, уже слишком поздно!
– То же самое сказали и каторжные начальники: слишком поздно. Тем более что, если бы вам не вышло полное помилование, вам в лучшем случае пришлось бы стать концессионером с правом перевезти сюда семью.
– Что вы такое говорите? Концессионер? Чтобы я привез мою жену и детей сюда? В этот ад?
– Проклятье, но это самый надежный способ снова их увидеть. Хотя, вы знаете, все это лишь пересуды. Вот если бы мне удалось прочесть само письмо.
– О, это письмо!.. Будь проклято мое глупое нетерпение. В любом случае я не могу вернуться, да и не стоит короткая минута радости всех моих мучений.
– Послушайте, позвольте, я скажу вам пару слов, клянусь, это не займет много времени. У меня есть новая идея, и на этот раз правда отличная. Я сейчас практически свободен. Мне доверяют, потому что мой срок подходит к концу, и они правы. Я вернусь на вырубку и разыграю приступ сильной лихорадки. Не важно, как я это сделаю, у меня есть пара трюков в запасе. Меня перевезут со Спаруина в Сен-Лоран, я попаду в госпиталь и уж постараюсь узнать содержание письма. Когда я это сделаю, то чудесным образом исцелюсь, вернусь на вырубку, мигом доберусь сюда и все вам расскажу. Примете мое предложение? Я, видите ли, понимаю, что крепко вам обязан, и очень хотел бы вернуть вам долг.
Робен молчал. В нем боролись противоречивые чувства. Он не мог одолеть свое отвращение к этому довольно неприятному посреднику, тем более в таком священном, личном деле.
Каторжник посмотрел на него умоляющим взглядом:
– Прошу вас. Позвольте мне сделать доброе дело. Ради моей бедной матери, честной и святой женщины, и, быть может, она когда-нибудь меня простит… Ради ваших детей, которые сейчас страдают без отца… в большом, недобром городе…
– Хорошо! Ступайте, да, идите прямо сейчас.
– О, благодарю вас, месье, благодарю. Еще кое-что. У меня есть записная книжка, где я отмечаю свой путь и записываю помеченные деревья. Она принадлежит мне… законным образом. Я ее купил. Там есть несколько чистых страниц. Осмелюсь предложить вам написать на них несколько слов, а я переправлю ваше послание во Францию. Напротив фактории Кеплера стоит голландское судно, груженное лесом. Оно со дня на день отправится в Европу. Я исхитрюсь доставить ваше письмо на борт. Думаю, там найдется добрая душа, которая не откажется переслать его вашей семье, особенно когда узнает, что вы политический. Ну что, согласны?
– Да, давайте, – пробормотал Робен.
Не теряя ни минуты, он покрыл два вырванных из блокнота листка убористым тонким почерком, надписал на них адрес и вручил каторжнику.
– А теперь, – сказал тот, – я откланиваюсь. Сегодня же вечером подхвачу лихорадку. А вы прячьтесь получше. До скорой встречи!
– До скорой встречи и удачи вам!
И каторжник тотчас же скрылся за стеной густых лиан.
За все это время Казимир не проронил ни слова, к тому же он не все понимал. Но он был потрясен изменением, которое произошло с его другом. Он уже не узнавал Робена. Его глаза сверкали непривычным огнем, обычно бледное лицо горело. Его всегдашняя молчаливость внезапно сменилась невероятной красноречивостью. Он говорил и говорил, рассказывая очарованному товарищу о своих трудах, борьбе, надеждах и разочарованиях.
Он объяснил ему разницу между уголовным преступником и тем, кто был приговорен за политическую деятельность, и смог дать своему собеседнику представление о том, какая глубокая пропасть разделяла эти два типа каторжников.
Бедняга, правда, так и не смог понять, почему такому безжалостному наказанию подвергают тех, кто ничего не украл и никого не ограбил.
– А теперь, – закончил Робен, – теперь, когда я почти спокоен за судьбу моих родных, рукоятка топора жжет мне руки! За работу, Казимир, за работу! Будем долбить и скрести эту деревяшку без отдыха и срока. Закончим дело нашей свободы, и пусть эта лодка как можно скорее унесет нас подальше от этих проклятых берегов.
– Оно так, – негромко ответил чернокожий.
И они с упорством взялись за дело.
Примерно за полтора месяца до побега Робена в Париже, на улице Сен-Жак, разыгралась весьма трогательная сцена, которую мы коротко опишем ниже. Это было 1 января. В город пришел мороз, усиленный северным ветром, чье ледяное дыхание превратило столицу во французскую версию Сибири.
Бледная женщина в трауре, с глазами, покрасневшими от холода, а может быть, и от слез, медленно поднималась по грязной лестнице одного из громадных домов, что еще можно встретить в некоторых районах старого Парижа. Это настоящие многоэтажные казармы с бесчисленными закутками, доступными для самых тощих кошельков. В подобных домах худо-бедно ютится множество обездоленных людей.
Эта женщина держалась с достоинством, хоть и была одета во вдовье платье, скромное, со следами тщательной починки и очень чистое, что свидетельствовало о постоянных заботах и мужественной борьбе с нищетой.
Поднявшись на седьмой этаж, она на мгновение остановилась перевести дух, вынула из кармана ключ и почти бесшумно вставила его в замочную скважину. На едва слышный скрежет металла при повороте ключа отозвался целый хор детских голосов:
– Это мама! Мама пришла!
Дверь открылась, и навстречу выбежали четверо детей, мальчиков, самому старшему из которых было десять, а самому младшему едва исполнилось три года. Все они облепили мать, нежно прижавшись к ее юбкам.
Она обняла их с некоторой нервозностью, с пылким и страстным чувством, в котором сквозили одновременно радость и боль.
– Ну что, мои хорошие, вы тут без меня были паиньками?
– Конечно, мама, – ответил старший, серьезный, почти как взрослый мужчина. – Вот доказательство: Шарль получил крест в награду за хорошее поведение.
– Клест, мамичка, – пролепетал младший, очаровательный ребенок, шагнув вперед с важностью всех своих трех лет и показав пухлым пальчиком на крест, приколотый на красной ленте к его курточке из серой шерстяной ткани.
– Хорошо, мои милые, очень хорошо, – ответила мать, снова обняв их всех.
В эту минуту она заметила в глубине комнаты высокого молодого человека лет двадцати или двадцати двух. Он был одет в черную фланелевую блузу и со смущенным видом комкал в своих больших руках фетровую шапчонку.
– Ах, это вы, мой славный Николя, добрый вечер, друг мой, – с теплотой сказала женщина.
– Да, мадам, я нарочно пораньше ушел из мастерской, чтобы зайти к вам и пожелать счастливого Нового года… Вам, детям и хозяину… месье Робену, в общем!
Ее бросило в дрожь. Красивое лицо, осунувшееся от страданий, побледнело еще сильнее, взгляд обернулся к большому портрету в золоченой раме, который выглядел разительно неуместно на фоне голых стен мансарды, среди разрозненной мебели, оставшейся от былой благополучной жизни.
Перед портретом молодого мужчины в расцвете лет с тонкими каштановыми усами, лучистым взглядом и энергичным незаурядным лицом в стакане воды стоял крохотный букетик анютиных глазок, невозможная редкость в это время года.
При виде такого трогательного подарка парижского рабочего своему благодетелю, этого свидетельства деликатной сердечности простого ремесленника, на ее глаза навернулись слезы, а горло сдавило с трудом сдерживаемое рыдание.
Дети, увидев мать в слезах, тоже тихо заплакали, стоя перед портретом отца. Обычно дети в нежном возрасте громко выражают свою боль. Безмолвные слезы этих четверых малышей производили душераздирающее впечатление.

Было ясно, что они так же привыкли горевать, как другие дети их возраста – смеяться.
Между тем это был первый день нового года. В роскошных магазинах и скромных лавочках торговцев игрушками торговля шла нарасхват. Париж праздновал, переливаясь огнями, из окон особняков и мансард разносились взрывы смеха. Дети осужденного рыдали.
О нет, они не просили игрушек. Они уже давно были лишены этой радости первых лет жизни и научились без нее обходиться. Да и позволено ли радоваться детям изгнанника? Какое им дело было до мрачного и безнадежного года, что только что завершился, как и до нового, что не сулил ничего, кроме отчаяния?
Мать вытерла слезы и, запросто протянув руку рабочему, сказала ему:
– Спасибо! Благодарю вас от его имени и от меня!
– Что ж, мадам, есть ли какие-нибудь новости? – спросил тот.
– Пока ничего. И наши сбережения на исходе. Работа дает мне все меньше. Молодая англичанка, которая брала у меня уроки французского, заболела и уезжает на юг. Скоро я смогу зарабатывать только вышивкой, а от нее так болят глаза.
– О, мадам, вы забываете обо мне! Я могу работать сверхурочно. И потом, зима когда-нибудь закончится.
– Нет, мой дорогой Николя, я ничего не забыла, ни вашей доброты, ни вашей самоотверженности, ни вашей любви к моим мальчикам, но я не могу ничего от вас принимать.
– О, это самое малое, что я могу для вас сделать. Разве патрон не позаботился обо мне, когда мой отец погиб при взрыве машины? Кто обеспечил куском хлеба мою больную мать? Кому я должен быть благодарен за то, что старушка оставила этот мир со спокойным сердцем? Только вам и ему! Так что, мадам, мы одна семья.
– И поэтому вы хотите умереть на работе, в то время как сами едва сводите концы с концами?
– Мадам, если есть руки, глаза и любовь к работе, то всегда сможешь себя прокормить. Только подумайте, с моим жалованьем механика-наладчика и со сверхурочными я буду зарабатывать как мастер.
– И отдавать нам все, лишая себя самого необходимого?
– Конечно, мы же одна семья!
– Так и есть, дитя мое… и все же я откажусь. Позже будет видно… если нам станет совсем невмоготу, если дети начнут болеть и нам будет грозить голод… О, как страшно об этом думать. Нет, надеюсь, до этого не дойдет. А пока поверьте, что я так тронута вашим предложением, будто бы уже его приняла.

– Но скажите, мадам, нет ли способа вернуть его? Говорят, кое-кто уже прибыл с Бель-Иля и из Ламбессы.
– Они подали прошение о помиловании… Мой муж никогда не станет умолять тех, кто вынес ему приговор. Он всегда был человеком чести и ни за что не изменит себе.
Рабочий опустил голову и не произнес ни слова в ответ.
– Но я хотя бы ему напишу, – сказала мадам Робен сдавленным голосом, – мы все вместе напишем, это будет третье новогоднее письмо… уже третий Новый год мы встречаем без него… Не так ли, дети, напишем папе?
– Да, мама, конечно! – отозвались старшие, а маленький Шарль, усевшись в углу с важным видом, начеркал что-то на листке бумаги и протянул его матери с довольным видом:
– Вот мое письмо… для папы!
Жена каторжника, зная, через какие руки должно пройти ее письмо прежде, чем попадет к мужу, будучи осведомленной о том, как свирепствует цензура в отношении писем к политическим заключенным, писала кратко, желая лишь известить Робена о делах семьи и всячески избегая любых комментариев, которые могли бы навлечь на него гнев тюремного начальства.
О, с каким же трудом эта благородная мать и доблестная жена пыталась смягчить выражения нежности, которые так и рвались из-под ее пера! Но ей было неловко прилюдно выражать свою любовь и горе.
Вот что она писала:
Мой дорогой Шарль!
Сегодня первое января. Прошедший год был для нас печальным, а для тебя ужасным. Принесет ли наступивший год облегчение тебе в твоих страданиях и утешение нам в наших горестях? Мы надеемся на это, как и ты, наш дорогой и благородный мученик, и в этой надежде наша сила.
Я стараюсь держаться, иначе нельзя! И наши славные мальчики тоже, они уже настоящие маленькие мужчины, достойные тебя сыновья. Анри растет. Он учится и уже очень серьезен. Он твоя копия во всем. Эдмон и Эжен тоже подросли. Они очень веселые и немного легкомысленные, как я до того, как к нам пришла беда. Что до нашего Шарля, то невозможно вообразить себе более прелестного ребенка. Он настоящий амурчик, розовый, пухленький, красивый и к тому же умница!.. Можешь поверить, только что, когда он услышал, что я пишу тебе письмо, то принес мне весь исчерканный листок бумаги, который он сам аккуратно сложил, заявив, что это его письмо для папы.
Я работаю и вполне справляюсь с тем, чтобы обеспечивать все наши нужды. Ты можешь быть спокоен на этот счет, мой дорогой Шарль. Будь уверен, что хотя наше существование без тебя ужасно, наши материальные потребности более или менее удовлетворены. Твои друзья продолжают предпринимать попытки добиться твоего освобождения. Получится ли у них? Главное условие – чтобы ты сам подписал прошение о помиловании…
Но станешь ли ты добиваться свободы такой ценой? Если нет, нам говорят, что ты мог бы стать концессионером на землях Гвианы. Мне неизвестно, что это означает. Мне достаточно знать, что я смогу приехать к тебе с нашими детьми. Меня ничего не пугает. И бедность с тобой, пусть и на краю света, будет для нас счастьем!
Скажи мне, что я должна делать. Время дорого, каждая минута без тебя, мой дорогой изгнанник, наполнена тоской и болью. Мы еще можем быть счастливы под солнцем далекой страны.
Мужайся, любимый наш, шлем тебе самые теплые пожелания, все поцелуи наших сердец и всю нашу любовь.
Внизу стояли подпись матери, мужественный и строгий росчерк старшего сына, старательно выведенные, но немного кривые имена Эдмона и Эжена и большая клякса от маленького Шарля, который тоже пожелал расписаться, и ему в этом не отказали.
Через три дня это письмо было на борту парусного судна, которое отправлялось из Нанта прямиком в Гвиану. В то время сообщение между странами было хотя и менее регулярным, чем сегодня, благодаря нынешним трансатлантическим рейсам, но столь же частым, и мадам Робен получала весточки от мужа каждые пять или шесть недель.
Январь и февраль прошли без известий от Робена, уже начался март, а от него по-прежнему ничего не было! Беспокойство бедной женщины сменилось мучительной тревогой, когда однажды утром она получила письмо с парижским штемпелем, в котором ее просили прийти по очень важному делу к совершенно незнакомому ей поверенному.
Она тотчас же отправилась по указанному адресу, где обнаружила молодого еще человека, одетого не без претензии на изящество, с довольно грубым лицом и манерами, но в целом вполне приличного.
Он занимал ничем не примечательную контору, обставленную банальной мебелью из красного дерева с бесконечными выдвижными ящиками, и был совершенно один.
Мадам Робен представилась, неизвестный поздоровался с ней довольно холодно.
– Мадам, при себе у вас приглашение, которое я имел честь направить вам вчера?
– Вот оно.
– Хорошо. Позавчера я получил новости о вашем муже от моего корреспондента в Парамарибо.
Несчастная женщина почувствовала, как смертельная тоска сжала ее сердце.
– Из Парамарибо… мой муж… я не понимаю.
– Да, Парамарибо, или Суринам, столица Голландской Гвианы.
– Но при чем здесь мой муж? Говорите же… О, скажите мне все, что вам известно…
– Ваш муж, мадам, – сообщил ей незнакомец самым обыкновенным тоном, будто речь шла о чем-то вполне естественном, – недавно бежал из исправительной колонии в Сен-Лоране.
Если бы под ноги мадам Робен ударила молния, она была бы менее потрясена, чем в тот момент, когда услышала эту неожиданную новость.
– Бежал… – бормотала она, – бежал…
– Да, мадам, как я только что имел честь вам сообщить. Могу засвидетельствовать вам мое искреннее удовлетворение этим фактом. Кроме того, я имею удовольствие передать вам от него сообщение, которое содержалось в письме моего корреспондента. Вот оно.
Мадам Робен, крайне изумленная, была почти раздавлена этим внезапным ударом, перед ее глазами будто поплыла пелена. Но ее храбрая и стойкая натура быстро взяла верх над чувствами, и она все же смогла прочитать записку, которую беглец написал карандашом на листке, вырванном из блокнота каторжника, на берегу ручья Спаруин.
Это действительно был почерк ее мужа, его подпись, все его, вплоть до нескольких зашифрованных строк, ключом к которым владела лишь она одна.
– Но значит, он свободен!.. Я могу его увидеть!
– Да, мадам. Я располагаю некоторыми средствами, переданными моим корреспондентом в виде векселя в ваше полное распоряжение. Но вам следует знать, что ваш супруг вынужден скрываться. Он не покидал пределов Гвианы, где сейчас ему гораздо безопаснее, чем в каком-либо другом месте. Я считаю, что было бы весьма целесообразно, если бы вы соблаговолили присоединиться к нему. Вы могли бы отправиться из Амстердама на голландском судне, чтобы избежать формальностей с паспортом. Вы сможете сойти на берег в Суринаме, и мой корреспондент поможет вам встретиться с мужем, не привлекая внимания французской полиции.
– Но, месье, объясните мне… что это за деньги, кто этот корреспондент?
– Бог мой, мадам, я не знаю ничего более. Ваш муж свободен, он хочет вас видеть, вам отправили деньги при моем посредничестве, меня просили обеспечить вашу безопасность до тех пор, пока вы не окажетесь на борту голландского судна.
– Что ж, хорошо. Я согласна. Еду. А дети? Они поедут со мной?
– Конечно, мадам.
– Когда?
– Чем скорее, тем лучше.
Таинственный поверенный так мудро распорядился временем, что уже через двадцать четыре часа мадам Робен покидала Париж вместе со своими детьми и верным Николя, не пожелавшим оставить свою благодетельницу.
Все шестеро благополучно сошли на берег в Суринаме спустя тридцать шесть дней спокойного плавания.
Глава V
За изготовлением лодки. – Весельное дерево. – Воспоминание о Гребном клубе. – Возвращение гонца. – Копия, которая стоит оригинала. – Что подразумевают под фразой «тереть маниок». – Куак и кассава. – Ядовито, но съедобно. – «Змея» для маниока. – Украденная пирога. – Пожар. – Непоправимый крах. – Кто предатель? – Отчаяние старика. – Тот, кого уже не ждали. – Растительная крепость и тайная дорога к ней. – Атлантический океан шире, чем Сена в Сент-Уэне. – Нелепая страна. – Загадочное благодеяние. – «Тропическая птица». – Голландский капитан не желает говорить. – Изгнанники. – Без родины. – Это в него стреляют!

Робен и Казимир так усердно взялись за ствол бамбы, с таким исступлением тесали, рубили, жгли, выдалбливали и скоблили, что пирога вскоре была готова.
Оснастить лодку оказалось еще проще и быстрее. Две небольшие скамьи из древесины генипы, очень легкой, прочной и податливой в обработке, установили поперек корпуса и закрепили в бортах соединением, известным как ласточкин хвост. В обеих скамьях проделали круглые отверстия диаметром около пяти сантиметров, в которых при необходимости можно было установить бамбуковые мачты.
Хотя прибрежные жители Марони, лесные негры и индейцы, по обыкновению, выходят на воду почти исключительно на веслах, их нередко можно увидеть под парусом из соломенной циновки, особенно когда они оказываются на широкой водной глади, а в спину дует попутный ветер. Впрочем, это единственный способ использовать ветер, который им подвластен, искусство маневрирования под парусом им совершенно неизвестно.
Если у них нет при себе циновки, они сходят на берег и срезают лист пальмы ваи, макупи, баш или барлуру и поднимают его повыше. Получается бесплатный парус, легкодоступный и требующий минимальных мореплавательских навыков.
Случаи, когда попутный ветер служит подспорьем веслам, бывают лишь на больших реках, а оттого редки: лесные негры и индейцы предпочитают селиться в местах, омываемых скромными речками и ручьями, спрятанными между зелеными растительными стенами, препятствующими малейшему дуновению воздуха.
Друзья предполагали, что в случае необходимости они смогут приспособить под парус большой гамак Казимира, сотканный неграми племени бони из превосходного хлопка.
Оставалось решить вопрос с веслами. И этот вопрос был из самых серьезных. К изготовлению этого необходимого инструмента для плавания подобало подойти по всем правилам искусства, здесь не годилась первая подходящая деревяшка. В Гвиане распространены весла трех типов. Индейцы используют два. Первый напоминает по форме плоскую грелку не шире мужской ладони, насаженную на ручку. Второй больше похож на лопату булочника с очень короткой рукоятью.
Оба они значительно уступают большому веслу лесных негров из племен бош и бони, несравненных гребцов, способных, пусть простят нас чемпионы «Rowing-Club», плыть по реке тридцать и даже сорок дней кряду. Это весло красивой копьевидной формы имеет в длину от двух метров до двух метров с четвертью. Метровая рукоятка, чуть уплощенная в начале, к середине становится круглой, толщиной примерно с горлышко графина, затем снова уплощается и далее расширяется, переходя в лопасть шириной не более двенадцати сантиметров и толщиной всего пять миллиметров, которая заканчивается острием, словно лист ириса.
Именно этому последнему типу отдал предпочтение Казимир, не переставая выражать глубокое презрение к индейским веслам, более тяжелым, менее маневренным и не таким красивым, несмотря на их причудливую раскраску соком генипы.
Для весел преимущественно используют дерево ярури, которое из-за этого так и зовется весельным деревом. Добрый старик обладал отличным острым зрением, хотя и мог видеть только одним глазом. Вскоре он нашел в чаще великолепное ярури, которое было повалено тем же способом, что бамба.
Удивительное дело, как наблюдательны те, кого мы привыкли называть дикарями, как они великолепно знают лес. Древесина ярури раскалывается почти без усилий, а если быть точнее, расщепляется на планки нужной длины толщиной в ладонь.
Это дерево, будучи свежесрубленным, обрабатывается удивительно легко, но после нескольких дней просушки приобретает беспримерную твердость, при этом оставаясь гибким.
Скрюченные пальцы старика, негодные для тяжелой работы, управлялись с мачете с невероятной ловкостью. Он оперировал легкими сухими ударами, точно выверенными, отделяя тонкие щепки, и беспрерывно постукивал по заготовке, никогда не снимая чересчур много стружки и постепенно придавая планке грациозную форму весла бони.
Ему потребовалось четыре дня, чтобы выстругать четыре таких, в том числе два про запас, на экстренный случай.
Когда все эти приготовления, к вящей радости обоих отшельников, закончились, Робен с превеликим удовольствием объявил бы погрузку и немедленно отправился в путь, но ему нужно было дождаться возвращения каторжника.
Гонде давно уже должен был вернуться. Прошло более трех недель с тех пор, как он ушел, и беглец, теперь не занятый утомительным ежедневным трудом, буквально изнывал от ожидания, считая, что время тянется слишком медленно.
Напрасно добрый Казимир старался отвлечь его, рассказывая бесконечные истории, сохраненные в бесчисленных уголках его удивительной памяти, увлекая его с собой на охоту, обучая его искусству стрельбы из лука и посвящая в тонкости первобытной жизни. Все это было бесполезно, несчастного грызла глухая тоска.
Кто мог знать, что случилось с лесным разведчиком в этой бесконечной глуши, с ее дикими зверями, неожиданными препятствиями, невидимыми ловушками и опасными болезнями.
– Хватит, – говорил Робен с глубоким вздохом. – Довольно, мы отправляемся завтра!
– Нет, компе, – неизменно отвечал ему чернокожий. – Надо терпеть и ждать еще чуток. Он там делай дело, а не просто ходить туда-сюда.
Но следующий день не приносил ничего нового.
Друзья испытали пирогу. Ее остойчивость, несмотря на небольшую осадку, была великолепна. Лодка превосходно слушалась каждого движения Робена, который быстро научился владеть туземным веслом.
Казимир сидел на задней скамье. Он подгребал и выполнял роль рулевого. Эта позиция не требует больших физических усилий, но для нее нужна известная ловкость. Такие примитивные лодчонки, по сути скорлупки без киля и с округлым днищем, могут перевернуться в любой момент и слушаются малейшего толчка.
Необходимо заметить, что туземное весло не может обеспечить такую же скорость, как привычное для нас, закрепленное на уключинах. Но последнее невозможно использовать в узких ручьях и протоках. В самом деле, как можно плыть на веслах длиной около двух метров каждое, что в совокупности дает окружность около шести метров, по речушке, ширина которой не превышает четырех-пяти метров, а берега скрыты под невообразимым переплетением лиан и водяных растений.
С туземным же веслом, напротив, можно свободно продвигаться по ручью шириной и менее двух метров. Точкой опоры являются руки гребца, а не борт лодки. Для этого рукоятку нужно держать двумя руками, левая должна быть сверху при гребле с правого борта, правая сверху – при гребле с левого, при расстоянии между хватом рук примерно в полметра.
Гребец погружает лопасть весла в воду вертикально близ корпуса лодки, при этом нужно стараться не задевать его, в это время рука, находящаяся сверху, толкает навершие рукоятки, а нижняя, у самой лопасти, тянет весло назад и служит точкой опоры. Это простейший рычаг.
Таким образом пирога скользит по воде, довольно быстро продвигаясь вперед. Все гребцы совершают одни и те же движения, в том числе рулевой, который, кроме того, должен задавать направление, для чего время от времени приходится использовать весло в качестве кормового. Еще одно преимущество пироги перед обычной европейской лодкой с уключинами состоит в том, что ее экипаж смотрит вперед, по направлению движения.
Чтобы отвлечь друга от тягостных мыслей, Казимир терпеливо и тщательно обучил его всем этим премудростям. Вскоре ученик превзошел своего учителя. Благодаря геркулесовой силе и неиссякаемой энергии Робен теперь мог грести практически бесконечно.
После ухода Гонде прошло пять недель.
Робен, совершенно отчаявшись, уже собирался покинуть мирное жилище прокаженного, когда накануне дня, твердо назначенного к отъезду, бывший краснодеревщик, бледный, исхудавший, едва стоявший на ногах, вдруг появился на поляне.
Его появление встретили криками радости.
– Наконец-то! Бедный вы мой, что с вами случилось? – спросил беглец, пораженный его плачевным видом.
– Не сердитесь на меня за то, что задержался, – ответил тот слабым голосом. – Я думал, что и вовсе помру. Врач не поверил в мою болезнь, а Бенуа, который и сам-то еле ходит, отделал меня как следует… Да так, что я попал в госпиталь… теперь-то им было что лечить. Но ничего, Бенуа заплатит мне за это!
– Но что же с письмом? – в тревоге спросил Робен.
– Хорошие новости. И даже лучше, чем ожидалось.
– Говорите же скорее! Расскажите мне все, что вы узнали.
Каторжник скорее упал, чем сел на поваленный ствол дерева, вынул из кармана свою маленькую записную книжку и достал из нее клочок бумаги, который он протянул Робену.
Это было письмо, написанное его женой первого января в мансарде на улице Сен-Жак. Или, вернее, копия с этого письма.
Робен жадно прочитал его, не отрывая взгляда, затем перечитал еще раз. Его руки задрожали, глаза затуманились, из горла вырвалось хриплое рыдание.
Этот железный мужчина плакал как ребенок. По его лицу текли слезы счастья, благословенная роса, единственное проявление радости у тех, кто много страдал.
Взволнованный старый негр не посмел лезть с расспросами. Робен ничего не видел и не слышал. Теперь он перечитывал письмо вслух, с радостью произнося дорогие его сердцу имена детей, мысленно представляя себе сцену, предшествующую написанию письма, проживая этот момент в месте с такими далекими близкими.
Сцепив руки, Казимир слушал и тоже плакал.
– Так хорошо… – приговаривал он. – Хорошая мадам… хорошие детки… Казимир довольный.
Робен наконец вернулся в прежнее состояние и, обратившись к каторжнику, ласково сказал ему:
– Вы сделали доброе дело, Гонде. Я благодарю вас… от всего сердца.

Несчастный, трясясь от лихорадки, едва смог ответить:
– О, не стоит меня благодарить. Это вы спасли мне жизнь. Вы разговаривали со мной как с человеком… а ведь я пал так низко. Вы показали мне, как стойко можно переносить незаслуженные страдания. Какой пример для преступника… Я начал понимать, что такое раскаяние…
– Хорошо, пусть так будет и впредь… И главное, не думайте мстить тому, кто вас избил. Тогда вы станете еще сильнее духом.
Заключенный опустил голову и ничего не ответил.
– Но как же вам удалось добыть письмо?
– О, это было просто. Эти служивые куда тупее, чем о них думают. Они просто сунули его в ваше досье без задней мысли. Тот парень из конторы, о котором я вам говорил, всего лишь улучил момент, достал его, принес мне, а я его переписал. После этого он вернул его на место, вот и все.
Я бы взял оригинал, да побоялся, что вы не захотите принять краденое, пусть оно и принадлежит вам по праву. И потом, пропажа письма могла бы привлечь лишнее внимание. Оно ведь никому, кроме вас, не нужно.
Надо вам признаться, ваш побег наделал в колонии шороху. Пошли слухи о том, что Бенуа отправят в отставку. Там все вверх дном, дознание за дознанием… К счастью, дело идет к тому, чтобы признать вас мертвым… Все вроде бы с этим согласны, кроме проклятого надсмотрщика. Так что схоронитесь как следует!
– Схорониться! Теперь у меня есть занятие получше! На этой проклятой земле меня больше ничего не держит. Я собираюсь отправиться подальше отсюда, навсегда попрощаться с этим адом. Мы отплываем завтра!.. Ты слышишь, Казимир?
– Оно так, – ответил чернокожий.
– Но вам не стоит выходить прямо сейчас, – с живостью ответил каторжник, – по крайней мере на лодке. В устье ручья сейчас полно нашего брата лесорубов, а охрана удвоила бдительность. Подождите хотя бы, пока я не найду другой участок, подходящий для вырубки, чтобы перевести туда работы.
– Мы все же отправимся, дело решенное.
– Это невозможно. Послушайте меня, потерпите хотя бы неделю.
– Вы разве не видите, что я умираю здесь, жизнь уходит из меня с каждой минутой? Что я должен вырваться отсюда любой ценой, пусть даже силой…
– Но у вас нет оружия… нет даже денег, а они вам понадобятся в цивилизованных странах.
– Быть так близко к цели и не суметь разорвать последние путы? Что же, будь по-вашему, мы подождем.
– В добрый час, – поспешно произнес каторжник, готовясь отправиться в обратный путь к месту вырубки.
– Нет, куда ты, надо кушай, – предложил ему Казимир.
– Да мне что-то не очень хочется, с этой лихорадкой.
– Тебе надо выпить чуток батото. Прогоняй лихорадка скорей удара мачете.
Робен понимал, что отказ бедолаги вызван непреодолимым отвращением, которое ему внушало соприкосновение с прокаженным, даже непрямое, через кухонную утварь.
– Идемте, я не могу отпустить вас во время приступа, это опасно. Я сам приготовлю для вас настойку, – предложил он Гонде.
Тот сразу же согласился и проглотил ужасное на вкус спасительное питье, скорчив зверскую гримасу. Затем бывший краснодеревщик откланялся, захватив с собой еды на дорогу и не забыв с какой-то особенной настойчивостью напомнить отшельникам о том, что он рекомендует им повременить с отъездом.
Впрочем, для того, чтобы заготовить провизию в дорогу, требовалось не менее недели. Мы уже говорили о том, что путникам нельзя рассчитывать раздобыть что-либо в пути, они могут питаться лишь тем, что взяли с собой. Робен знал это на собственном жестоком опыте. К счастью, теперь под рукой был участок старого негра, неисчерпаемый источник продовольствия.
Прежде всего нужно было заняться приготовлением муки из маниока, известной как куак, которая будет основой их рациона. Затем наловить рыбы и закоптить ее.
Беглый каторжник имел весьма смутное представление об этом растении и способах его применения. Точнее сказать, нулевое. Меню в колонии состояло из муки и сушеных овощей, доставленных из Европы. Он впервые попробовал куак и кассаву, лишь когда попал к прокаженному. Естественно, что он ничего не знал о довольно сложном и изощренном процессе приготовления этих продуктов и о потребных для этого значительных затратах времени.
К счастью, рядом с ним был здешний обитатель со всеми необходимыми инструментами.
– Ну что, друг, будем тереть маниок гражем.
Тереть гражем? Что это могло означать?
За два предшествующих дня товарищи собрали изрядное количество клубней маниока, некоторые толщиной с икру ноги взрослого мужчины, и сложили их под навесом внушительной горкой.
Старик взял в углу хижины полуметровый брусок из железного дерева шириной сантиметров в десять, на одной стороне которого с помощью ножа были вырезаны чешуйчатые зубцы вроде тех, какие делаются на терках.
– Это граж[9].
– Очень хорошо, и что же мне с ним делать?
– Тереть маниок, чтобы делай мука.
– Но если это единственный способ, я и за месяц не управлюсь, – запротестовал Робен, растерянно держа в одной руке инструмент, а в другой клубень.
– Потому что не уметь.
И простодушный добряк, крайне довольный тем, что дает урок белому человеку, упер граж одной стороной в грудь своего ученика, а другой – в подножие столба хижины на манер подпорки, затем дал ему в обе руки заранее очищенный клубень маниока и велел:
– Теперь надо три.
И Робен принялся энергично водить мучнистым клубнем вперед и назад по поверхности терки. Маниок крошился легко, падая на пол хижины, устланный широкими листьями. В натертом виде он походил на мокрые древесные опилки.
– Так хорошо, – похвалил его Казимир, подав новый клубень, который только что очистил своим ножом.
Подмастерье, обладавший одновременно огромной силой и таким же желанием научиться, за несколько минут добился значительных успехов. Он тер не покладая рук, и вскоре у его ног вырос приличных размеров холмик.
Казимиру даже пришлось время от времени просить его умерить пыл из опасения, что Робен неловким движением может скользнуть рукой по зубцам гража. В этом случае он бы непременно поранился, в рану мгновенно попал бы беловатый сок мякоти маниока, а это уже грозило серьезными неприятностями.
– Можно умирай, если сок попадай в рана.
– Не беспокойся, старина, – ответил инженер и подумал: «Если в практике я новичок, то теория хорошо мне известна. Я знаю, что свежий маниок содержит весьма летучий и очень ядовитый сок. Химики сумели выделить из него яд, несколько капель которого убивают собаку за три минуты. Если я не ошибаюсь, Бутрон и Анри утверждают, что это синильная кислота. Впрочем, это не важно, мне интересно, как ты собираешься избавить нашу муку от этой неприятности».
И снова все оказалось очень просто и довольно быстро. С одной из потолочных балок хижины свисало странного вида приспособление, открытое с одной стороны и закрытое с другой, похожее на толстую змею или, скорее, на снятую со змеи кожу.
Это устройство, искусно сплетенное из древесных волокон растения арума (Maranta arundinacea), было не меньше двух метров в длину и превосходно пропускало влагу.
Робен много раз спрашивал у Казимира, что это такое, и всякий раз хозяин отвечал:
– Эта зверюшка – змея для маниока.
За этим следовали такие путаные объяснения, что Робен неизменно не мог ничего понять. И вот пришло время посмотреть, что делает «зверюшка».
– Брать мука, класть ее сюда, в глотку.
Француз повиновался и плотно набил «змею» влажной мякотью до самого верха. Казалось, она вот-вот лопнет, это было похоже на объевшегося удава, повисшего на собственных зубах во время переваривания пищи.

В нижней части приспособления имелась петля, похожая на ручку корзины, также сплетенная из арумы, и инженер сразу же догадался о ее предназначении.
Не спрашивая мнения учителя, он продел в петлю длинный и прочный деревянный брус, упер его одним концом в столб хижины, навалился на другой всем весом, создав рычаг, и как следует закрепил всю конструкцию.
Под таким мощным давлением ядовитая жидкость выступила каплями по всей поверхности «змеи» и вскоре стала стекать с нее непрерывной струйкой. Казимир был совершенно счастлив.
– О, друг мой, компе… так хорошо, да… Теперь ты стать настоящий негр.
Робен, польщенный похвалой, представлявшей высшую степень одобрения, на какую может рассчитывать белый, схватил граж и удвоил усилия.
Вскоре из «змеи» перестала сочиться жидкость, и старик, который тоже не сидел без дела, вынул оттуда муку. От давления она спрессовалась в цельный блок.
Прокаженный разложил на солнцепеке эту прекрасную муку, такую же белую, как пшеничная, но крупную, как древесные опилки.
После двух часов на солнце она стала сухой, как трут. Пока его младший товарищ продолжал упорно натирать маниоковые клубни, Казимир взял средней величины сито, которое в Гвиане называется «манаре», тоже сплетенное из арумы, и пропустил через него высушенную муку, чтобы отсеять крупные частицы отвердевшей мякоти.
Таким образом начав работу и распределив роли, компаньоны продолжали трудиться следующие несколько дней с некоторыми вариациями, поскольку приготовление тропической манны требовало и других манипуляций.
Робен продолжал тереть и выжимать из муки ядовитую жидкость, а Казимир, высушив и просеяв муку, раскладывал ее на большом железном листе, подогреваемом снизу слабым огнем небольшого костра, и перемешивал ее деревянной лопаткой. Таким образом из муки не только улетучивались последние молекулы ядовитого сока, но и испарялись остатки влаги. Совершенно чистая питательная субстанция приобретала состояние неоднородной формы гранул, твердых, сухих и неподвластных какому бы то ни было воздействию при условии хранения в тщательно закрытой посуде.
Этот продукт и называется «куак». Наряду с кассавой он составляет основу питания всех народов американской тропической зоны. Его едят вместо хлеба. Достаточно развести его водой в чашке из тыквы, и вот вам желтоватая густая каша, вкусная и очень питательная. Европейцы быстро к ней привыкают.
Кассава отличается от куака как внешне, так и по способу приготовления. Вместо того чтобы перемешивать муку лопаткой, на железный лист кладут кольцо, называемое диском, с бортом высотой в три сантиметра. Этот «диск» заполняют мукой, которая схватывается в нем как лепешка. После этого форму убирают, а лепешку без конца переворачивают, перемещают по листу, не давая ей подгореть или прилипнуть. Когда она как следует подсушится с обеих сторон, ее снимают с листа и выставляют на солнце. По готовности лепешки складывают одну на другую стопками в пять или шесть дюжин.
Эта работа, несомненно, является самой важной из всех и, возможно, единственной, от которой добрые дикари, обычно склонные к безделью, не могут уклониться. Поэтому в частых и необъяснимых перемещениях в лесной глуши поклажа аборигенов в основном состоит из терки-гража, плетеной «змеи» и, самое главное, листа железа, привезенного из Европы в незапамятные времена. Такой лист представляет собой ценнейший предмет для обмена и передается в семьях из поколения в поколение.
Тот, у кого есть лист железа, – богач по местным меркам, а утрата листа сравнима со стихийным бедствием. В некоторых поселениях, где живет тридцать-сорок человек, на всех приходится один лист; как тут не вспомнить об общественных печах Средневековья.
Компаньоны отнеслись к заготовке съестных припасов с таким же рвением, как к изготовлению лодки, ясно понимая, насколько это важно. В самом деле, куак был незаменим. Известно, что рожь на экваторе не растет, или, точнее, ее рост под воздействием солнца происходит настолько быстро, что колос не успевает сформироваться. Зерновая культура становится бесплодным пыреем.
Дневной рацион здорового человека составляет примерно семьсот пятьдесят граммов куака, то есть на двоих требуется полтора килограмма. Путешествие, по расчетам отшельников, должно было занять около трех месяцев. Стало быть, по самым скромным подсчетам, им требовалось сто тридцать пять килограммов. Осторожность подсказывала им, что заготовить на всякий случай следует не меньше ста шестидесяти килограммов.
И это была очень тяжелая работа, которая отняла у них, несмотря на неутомимое упорство Робена, без малого две недели. Они переработали почти все, что росло на небольшой плантации прокаженного. Случись что с этими запасами, им неминуемо придется голодать.
Тем временем куак, надежно запечатанный в больших глиняных горшках, которые старик когда-то выменял у индейцев, ждал лишь погрузки в пирогу. Прекрасно высушенные лепешки кассавы были надежно завернуты в непромокаемые листья, обеспечивающие им полную сохранность.
Оставалось лишь запастись копченой рыбой, но это было куда проще и быстрее, чем с маниоком.
Гонде ни разу не появился с тех пор, как компаньоны занялись заготовкой провизии. Его отсутствие беспокоило Робена. Должно быть, бедняга заболел. Или даже умер. В Гвиане можно было ожидать чего угодно.
Удалось ли ему убедить начальство перенести разработки в другое место и освободить от стражи и каторжников устье ручья?
На следующий день после того, как с приготовлением маниока было покончено, Робен решил проверить пирогу, которая была спрятана в маленькой заводи, укрытая в зарослях лиан и листьев.
Это место находилось в трех часах ходьбы: обычная прогулка по гвианским меркам. Беглец взял немного еды, мачете, вооружился крепкой палкой и вышел на рассвете в сопровождении верного Казимира, радостного, как школьник в первый день каникул.
Друзья шагали вперед, переговариваясь почти что весело, обсуждая будущее и строя планы, до осуществления которых оставалось совсем немного. Вскоре они добрались до тайника, где была спрятана пирога, подальше от любопытных глаз.
Казимир предложил выйти на лодке на воду, и Робен не смог ему отказать, не желая лишать старика этого невинного удовольствия.
Они не просто укрыли пирогу в густом переплетении вьющихся растений и листвы, но и надежно закрепили ее прочной лианой.
Инженер нашел импровизированный швартов, привязанный к корню дерева, и потянул за него, чтобы вывести лодку из зарослей. Лиана подалась слишком легко, без малейшего сопротивления. Когда он увидел, что другой конец лианы явно обрезан ножом, его прошиб холодный пот.
Предчувствуя непоправимую катастрофу, Робен бросился в заросли и начал яростно рубить их наугад.
Вскоре он расчистил широкую прогалину. По-прежнему никаких следов лодки. Возможно, во время дождей лодка наполнилась водой и затонула, а теперь лежит на дне ручья? Так даже лучше, она могла не выдержать чередования дождя и солнечной погоды и растрескаться.
Робен нырнул, пытаясь на ощупь отыскать пирогу на дне ручья, открыл глаза, вынырнул и снова погрузился под воду. Ничего! Несколько маленьких кайманов испуганно брызнули в разные стороны. Негр оглашал воздух криками отчаяния; он ходил туда-сюда по берегу, раздвигал лианы, заглядывал под низко растущие ветви деревьев и не находил никаких следов.
Не осталось никаких сомнений: пирогу украли, изгнанники были твердо уверены в этом.
– Мужайся, друг мой, – сказал старику Робен. – Не падай духом, мы сделаем новую лодку. Подумаешь, три недели задержки. К счастью, провиант уже готов и в безопасности.
Возвращение было печальным. Обратный путь занял гораздо меньше времени. Сами не зная почему, оба хотели как можно скорее оказаться дома. И вот они уже в нескольких минутах от хижины.
Какой же новый ужасный сюрприз уготовила им судьба? Какая непоправимая катастрофа их ждет?
Над расчищенной поляной плыл едкий дым, горло разъедало от невыносимого запаха гари…
Робен устремился к хижине, скрытой за банановыми деревьями.
Ее больше не было!.. От нее осталась лишь дымящаяся горстка пепла. Инструменты, снаряжение, бережно сложенная провизия – все исчезло… Огонь уничтожил все.
Несколько часов назад, когда Робен убедился в том, что лодка исчезла, он произнес: «К счастью, провиант уже готов и в безопасности!»
Как иронично, жестоко и внезапно злой рок опроверг его слова! С самого дня побега он еще никогда не был так близок к цели, находясь буквально в шаге от безграничной свободы…
Теперь все было потеряно, украдено, уничтожено!.. Крошечной искры, без сомнения вылетевшей из плохо потушенного костра в очаге, оказалось достаточно, чтобы пожрать плоды столь тяжких трудов. Теперь нечего было и думать о том, чтобы покинуть колонию в ближайшее время. Мало того, совсем скоро им придется столкнуться с еще более страшной угрозой – с призраком голода.
Бедный старик мгновенно погрузился в глубокую прострацию, в безмерную скорбь. Он обезумевшим взглядом смотрел на кучку золы. Все, что осталось от обители его печальной старости, свелось к обгоревшим подпоркам, прежде бывшим столбами, которые установили его изуродованные руки, к почерневшим осколкам глиняной посуды, где хранился куак, и обугленным останкам инструментов, верных помощников в одиноких трудах…
Он смотрел на все это… и не мог ни плакать, ни даже застонать.
Другое дело француз. Его неукротимая натура была готова к любому вызову. Он только вздрогнул при виде того, что случилось, лишь побледнел, и на этом все.
Странное, но, впрочем, совершенно объяснимое дело: пожар в хижине не произвел на него такого впечатления, как пропажа лодки. Потому что пожар, вероятнее всего, был несчастным случаем, а вот исчезновение лодки, очевидно, стало делом вражеских рук.
Вереница самых тревожных предположений теснилась в его голове. Робен ни в коей мере не был пессимистом, но в конце концов у него осталось лишь два вопроса: кто украл лодку и с какой целью?
Надзиратель был еще в колонии. И даже если бы он узнал о том, что беглец находится в этих местах, то прибыл бы сюда с целым отрядом и арестовал бы его без всяких церемоний.
Каторжник Гонде, который не подавал признаков жизни после того, как доставил письмо? Но нет, это абсурд. Он был вполне искренен, свидетельства его раскаяния не могли быть ложью, как и выражения благодарности.
И все же почему он так хотел помешать компаньонам отправиться в путь? Возможно, тут не было ничего предосудительного, но все же его настойчивость выглядела преувеличенной.
Робен упрекнул себя в излишней подозрительности. В целом каторжник оказался достойным доверия. И доказательств было предостаточно.
Но тогда… индеец?
Жалкий краснокожий, пожалуй, единственный, кто мог быть виновен в этом двойном преступлении. Его гнусная страсть к спиртному должна была быть удовлетворена любой ценой, тем более что первая попытка не удалась.
План был очень прост: лишить беглеца возможности выбраться из долины, а затем ослабить его голодом. И когда белый тигр, с его некогда железной хваткой, лишится последних сил, а хижина старого негра, эта крепость, охраняемая змеями, превратится в пепелище, доблестный Атука нагрянет с «муше из Бонапате» (людьми с мыса Бонапарта), они схватят белого беглеца, а честный калинья устроит такую попойку, каких еще не видывали под солнцем тропиков.
Это предположение выглядело наиболее вероятным, будучи самым простым объяснением случившегося.
Нужно было действовать. Сожаления в такой ситуации излишни, а жалобы бесполезны. Как мы уже убедились, Робен был человеком действия и несокрушимой энергии. Все эти размышления, потребовавшие долгого описания, на самом деле пронеслись в его мозгу как вспышка молнии.
И вскоре у него созрел план.

– Казимир, – ласково позвал он прокаженного, чье лицо было по-негритянски бледным, то есть пепельно-серого цвета. – Казимир…
Звук человеческого голоса вырвал беднягу из оцепенения. Он жалобно застонал, как ребенок, которому больно.
– О-ох, как плохо… Больно… О боже, я сейчас помирай…
– Держись, друг мой, будь сильным…
– Нет, я не мочь, мой белый друг… Казимир сейчас помирай, вот тут, где хижина…
– Ну же, я сейчас соберу инструменты, у них сгорели только рукоятки, я сделаю новые… Я построю тебе новую хижину. Ты сможешь укрыться в ней, когда пойдет дождь. Я накормлю тебя… Не убивайся так, мое бедное старое дитя.
– Я не мочь, не мочь… – жалобно повторял тот, – я уже умереть… ох, матушка моя…
– Давай же, – ласково, но твердо сказал Робен. – Слезы твои, увы, более чем оправданны, но нам нельзя здесь оставаться, это слишком опасно.
– Куда же мы пойти? Бедный кокобе не мочь шагай…
– Если потребуется, я понесу тебя, но повторяю еще раз – идем!
– Да, ладно, я пойти, – ответил тот, едва держась на ногах.
– Бедное доброе создание. Жестоко с моей стороны тебя поторапливать. Но послушай, на ночь я устрою нам навес из травы и листьев, а завтра мы уйдем в лес, чуть поглубже, но не слишком далеко от вырубки. Мы как-нибудь проживем на ямсе, батате, бананах и остатках маниока… Вот увидишь, я добуду еду.
– Так хорошо… Белый друг добрый, как боженька.
– В добрый час! Идем, старый друг, я буду работать за двоих. Надежда еще есть, сил у меня хватит. Не все потеряно!
– Разумеется, не все потеряно, – раздался голос позади них, – но надо признать, что на земле водятся редкие сволочи.
Резко обернувшись, Робен узнал Гонде.
– Как вижу, с вами случилась беда. Ваша лодка пропала. Я заметил это, когда шел вдоль ручья. Ваш участок погиб, а хижина сгорела. Это тем более печально, что путь теперь свободен.
– Значит, вам удалось!
– Да так, как я и не надеялся! Я нашел целый лес розовых деревьев, мужских и женских, где еще и анжелик попадается.
– Как же нам не везет!
– О, успокойтесь! Они провозятся там не меньше трех месяцев, а через три месяца вы будете уже далеко.
– Если бы это было так…
– Я уверен, что так и будет. И даже лучше: мне пришло в голову, что ваши беды сыграют вам на руку.
– Что вы такое говорите?
– А то, что сезон дождей вот-вот прервется на полтора-два месяца, и начнется маленькое мартовское лето. В это время негры бош и бони спускаются в низовья Марони, так что будут вам гребцы, а взамен одной украденной пироги у вас будет десять.
– Как я могу доверять этим людям, если мой минутный гость, индеец Атука, сразу же решил меня продать за бутылку тафии?
– Бош и бони – это лесные негры. Они вас не выдадут, как эти краснокожие твари. Кроме того, они даже близко не пьяницы, им вовсе не нужно спиртное белого человека. И вот еще что: когда вы окажетесь на борту одной из их лодок, вы будете в полной безопасности. Это честные люди. И очень верные, они никогда не сдадут того, кому оказали гостеприимство.
– Оно так, – подтвердил Казимир. – Верно говорить.
– То есть, по вашему мнению, нам нужно еще на несколько недель задержаться здесь?
– Не прямо здесь, а в нескольких сотнях или тысячах метров отсюда. Вам только придется построить навес посреди леса и ни в коем случае не оставлять следов… Главное – не используйте мачете. Эти индейцы хитры, как обезьяны. Но я вам гарантирую, что без помощи дьявола они вас ни за что не найдут.
– Чем же, по-вашему, мы заплатим за места в лодке?
– Того, что осталось в земле и на деревьях на вашем участке, хватит, чтобы целый месяц кормить человек двадцать. К концу сезона дождей негры Марони сидят на голодном пайке. Они худы, как щепки. Вы сможете получить от них что угодно, если предложите им еду.
– Я согласен, тем более что пока не вижу, что еще можно предпринять в нашем положении.
– Если я могу сделать для вас что-то еще, я к вашим услугам. Вы знаете, что я целиком на вашей стороне.
– Я это знаю, Гонде, и полностью вам доверяю.
– И правильно делаете… Знаете, у нас так: ты либо неисправимый негодяй, либо не совсем потерян… Если раз выбрал дорогу, то идешь до конца. Благодаря вам я оказался на добром пути; лучше поздно, чем никогда.
Вот, кстати, недалеко от того места, где вы спрятали лодку, на правом берегу ручья, есть огромная чащоба. Там все так заросло, что мышь не проскочит. Даже просеку сделать не получится, сплошные авары с таким количеством шипов, как будто это не растения, а колючая проволока. Пройти эту чащу можно лишь по руслу ручейка, который впадает в Спаруин. Он не больше метра глубиной и такой же ширины. Этот ручей вытекает из зыбучей саванны, а за ней как раз подходящее место, чтобы там спрятаться.
– Но как пересечь эту саванну?
– Я вам скажу: мне удалось обнаружить под травой и тиной довольно крепкую тропу. Должно быть, выход скальной породы. Он, правда, узкий, как клинок ножа. Но с помощью силы духа и крепкой палки по нему можно пройти. Как только окажетесь на месте, в тамошней мешанине травы, лиан и деревьев, черта с два вас кто-то найдет.
– Превосходно. К тому же, если мы пойдем по ручью, никаких следов не останется. Решено. Мы выходим завтра.
– Да, завтра, – покорным эхом отозвался Казимир, успокоенный хладнокровием и уверенностью своего товарища.
– Я провожу вас, – предложил каторжник после минутного колебания. – Вы же позволите мне остаться, правда? – закончил он с просительной ноткой в голосе.
– Хорошо, оставайтесь.
На следующее утро трое мужчин ушли из безымянной долины.
– Добрый боженька не хотеть, чтоб моя умирай тут, – со вздохом сказал старый негр.
– Если вы искали самую нелепую страну на свете, то вот она, во всей красе, право слово! Повсюду одни негры, деревья без ветвей, но с листьями будто из цинка, как трубы в банях «Самаритен», на окнах домов решетчатые ставни, везде насекомые, которые едят вас поедом с утра до вечера, солнце висит так высоко, что тени не бывает, жара как в печке для обжига гипса, фрукты… о, эти фрукты, такое чувство, что ешь консервированный скипидар! Месяц назад я трясся от холода, а теперь у меня облезли уши и облупился нос… Ну и страна!
Женщина с уставшим лицом, бледная, в трауре с головы до ног, печально улыбаясь, слушала эту тираду, которую выпалил на одном дыхании высокий двадцатилетний парень, чей неподражаемый акцент выдавал в нем жителя парижских предместий.
– И будто этого мало, тут еще и попугаи с обезьянами в каждом доме, орут с утра до ночи, хоть уши затыкай. А на каком языке тут говорят! Можно подумать, что разговариваешь с овернцами, которые что-то талдычат на своем наречии, не иначе. «Таки», «лугу», «лугу», «таки», только это и слышишь, что тут можно разобрать! А что они едят? Рыба жесткая, как подошва, да каша, похожая на пюре, от одного взгляда на нее просто в дрожь бросает!
И все же это сущие пустяки по сравнению с тем счастьем, которое мне доставило наше путешествие! Сколько воды! Боже, сколько воды! А ведь я-то не бывал даже в парке Сен-Мор в разгар сезона, а Сену видел только в Сент-Уэне. Говорят, что путешествия закаляют молодежь. Надеюсь, что я еще достаточно молод, чтобы наше закалило меня.
Но я разболтался, как большой попугай, с которым сегодня утром мне вздумалось поиграть в «лети, птичка», а он прокусил мне палец. Все это не важно, я умолкаю, не ровен час разбужу детей, им вроде бы неплохо спится в этих странных штуках, которые тут называют гамаками.
– Но я не сплю, Николя, – раздался детский голос из-под москитной сетки, натянутой над одним из гамаков.
– Ты проснулся, малыш Анри? – спросил Николя.
– Я тоже не сплю, – сказал другой голос.
– Надо спать, Эдмон. Ты же знаешь, тут говорят, что днем надо оставаться в постели и не выходить на улицу, чтобы не получить солнечный удар.
– Я хочу пойти искать папу. Мне скучно все время лежать.
– Будьте умницами, дети, – сказала в свой черед незнакомка. – Мы отправимся завтра.
– О, правда, мамочка? Как я рад!
– Мы снова поплывем по воде, скажи?
– Увы, да, мой дорогой…
– Значит, меня снова будет тошнить… Но потом я увижу папу.
– Можешь считать, что это дело решенное, правда, мадам Робен? Завтра мы уедем из этой негритянской страны, которую у нас называют Суринамом, а местные считают, что это Парамарибо. Наши морские ямщики зря времени не теряют. Мы отбыли из Голландии чуть больше месяца назад. Здесь мы провели едва четыре дня – и вот опять в дорогу, навстречу патрону! Если честно, я рад уехать отсюда. Там, куда мы направляемся, может, и не лучше, но по крайней мере мы будем все вместе. И все же, мадам, вы по-прежнему ничего не знаете?
– Нет, мой милый друг. Временами мне кажется, что я грежу, так стремительна и внезапна эта череда нежданных событий. Заметьте, что наши таинственные друзья выполнили все свои обещания. Нас встретили и в Амстердаме, и здесь. Если бы не они, мы бы пропали в этой стране, не зная ни языка, ни местных обычаев. Человек, который встретил нас по прибытии голландского судна, отлично нас устроил, и уже завтра мы отправляемся дальше. Более мне ничего не известно. Эти загадочные незнакомцы бесстрастно-вежливы, равнодушны, как дельцы, и точны, как рецепты. Такое чувство, что они подчиняются приказу.
– Это вы про нашего посредника в очках, с бараньим профилем, месье ван дер… ван дер… клянусь, мне ни за что не запомнить его фамилию… Да, он и правда никуда не спешит, но он ловкач, как и полагается настоящему еврею. Вы правы, нам не на что жаловаться. Мы путешествовали, как почетные послы. Дальше будет видно. Подумаешь, снова оказаться на корабле, опять попасть на русские горки, где мы будем болтаться без конца, как картофелина в кипятке, нам ли быть в печали!
– Полно, крепитесь! – невольно улыбнувшись, подбодрила его мадам Робен, которую забавляло это шутливое брюзжание. – Через три дня мы будем на месте.
– О, вы же знаете, я просто болтаю. Тем более что и вы, и дети прекрасно справляетесь с путевыми неудобствами, а это главное.
В самом деле, на следующий день шестеро пассажиров поднимались на борт «Тропической птицы», красивого одномачтового тендера водоизмещением в восемьдесят тонн, который обслуживал голландские владения, два раза в месяц поднимаясь к плантациям вдоль реки Суринам и доставляя продовольствие служащим плавучего маяка «Лайтшип», в буквальном переводе «Корабль света», который стоял на якоре в устье реки.
Посредник, о котором нам известно лишь то, что он был одним из самых богатых торговцев иудейского происхождения в колонии, руководил посадкой. Дети, одетые в костюмчики из легкой ткани, выступали в маленьких салакко, защищающих головы от палящего тропического солнца. Даже Николя торжественно водрузил на свою макушку эту экзотическую шляпу, в которой он был похож на фигурку китайского мандарина, какие выставляют на рынках торговцы пряниками.
Капитан лично встретил пассажиров, посредник обменялся с ним несколькими фразами по-голландски, затем церемонно попрощался с мадам Робен и спустился в лодку, которая доставила его обратно на берег. Якорь поднят, прибрежные воды спокойны, вот-вот начнется отлив. «Тропическая птица» грациозно легла на правый борт, захлопали паруса, путешествие началось…
Было шесть часов утра. Солнце как огромный фейерверк взошло над мангровыми зарослями вдоль речных берегов.
Удаляющийся город, вода, бурлящая под форштевнем, мангровые деревья, неподвижные на пьедесталах из переплетения корней, – все словно вспыхнуло под яркими лучами.
Птицы, будто застигнутые врасплох этой вспышкой, взвились в воздух. Цапли с плюмажами, одиночки-саваку, говоруны-попугаи, фламинго с розово-алым оперением, крикливые чайки, быстрые фрегаты кружили над судном, словно провожая его и желая доброго пути на разные лады во всех октавах.

Исчез из виду форт Амстердам с его покрытыми газоном брустверами и мрачными пушками, вытянувшимися в траве, как большие ящерицы. Один за другим мимо проплывали поселки с высокими фабричными трубами, увенчанными клубами плотного дыма. По обоим берегам раскинулись плантации сахарного тростника, ровные, как бильярдный стол, необыкновенно приятного нежно-зеленого цвета. Негры, совсем крохотные с палубы судна, смотрели на «Тропическую птицу» и походили на большие восклицательные знаки.
Вот «Решимость», великолепная плантация, на которой трудятся пять сотен рабов. Вот «Лайтшип», плавучий маяк с его черной командой и мачтой, увенчанной мощным прожектором. Лоцман вышел на палубу, он должен наблюдать, как проходит судно, пока оно не скроется из виду. Вот, наконец, океан с его желтовато-грязными водами, полными водорослей, и короткими крутыми волнами, по которым тендер пустился вскачь.
Путешествие из Французской Гвианы в Голландскую не представляет никаких затруднений благодаря мощному прибрежному течению с востока на северо-запад, которое естественным образом выносит суда из экваториальной зоны. Переход вдоль океанского берега от устья реки Марони к реке Суринам часто совершается всего за сутки. Не составит труда догадаться, что это же течение затрудняет движение в обратную сторону. Случалось, что в отсутствие попутного ветра суда проводили в море по восемь-десять дней, не имея возможности продвинуться ни на метр.
Вот какая заминка грозила нашим пассажирам. Скорость течения составляет полтора узла, то есть две тысячи семьсот семьдесят восемь метров в час, притом что узел составляет одну тысячу восемьсот пятьдесят два метра.
К счастью, вскоре после отплытия подул бриз, причем кормовой, – случай совершенно исключительный! – и это позволило «Тропической птице» развить скорость около четырех узлов и преодолеть течение.
Жена изгнанника устроилась вместе с детьми на корме под тентом и безучастно смотрела на пенный след из-под киля судна, не обращая внимания ни на качку, ни даже на палящее солнце, считая минуты и мысленно преодолевая пространство, отделяющее их от пункта прибытия. Ее сыновьям качка тоже, казалось, была нипочем.
В отличие от бедного Николя. Бледный как смерть, без кровинки на лице, он распластался на свернутом в бухту канате, зажав ноздри в безуспешной попытке справиться с морской болезнью.
Легкое судно с раздутыми парусами шло, увы, не плавно, но переваливаясь с одной короткой волны на другую, и парижанину, которого выворачивало при каждом толчке, ежеминутно казалось, что он вот-вот отдаст богу душу.
Внезапно чей-то голос нарушил задумчивое состояние мадам Робен. Это был капитан. Он подошел прямо к ней, держа в руке фуражку с белым чехлом на тулье и выражая всем своим видом самое глубокое уважение.
– Мадам, вы приносите счастье «Тропической птице». Никогда еще наше плавание не начиналось так гладко.
– Так вы француз? – спросила она, одинаково удивленная правильно построенной фразой, и акцентом, с которым ее произнесли.
– Я капитан голландского судна, – заявил моряк, избегая, впрочем, ответа на вопрос. – В нашем деле нужно знать несколько языков. Хотя в том, что я владею языком вашей страны, нет никакой моей заслуги: родители были французы.
– О, месье, в таком случае позвольте мне считать вас соотечественником! И поскольку я уже много дней вслепую двигаюсь по таинственно начертанному пути, не откажите мне в просьбе рассказать хотя бы что-то… Скажите мне, как я смогу увидеть того, чей удел я оплакиваю, и кому я обязана этим счастьем? Что еще мне предстоит сделать? И куда вы нас везете?
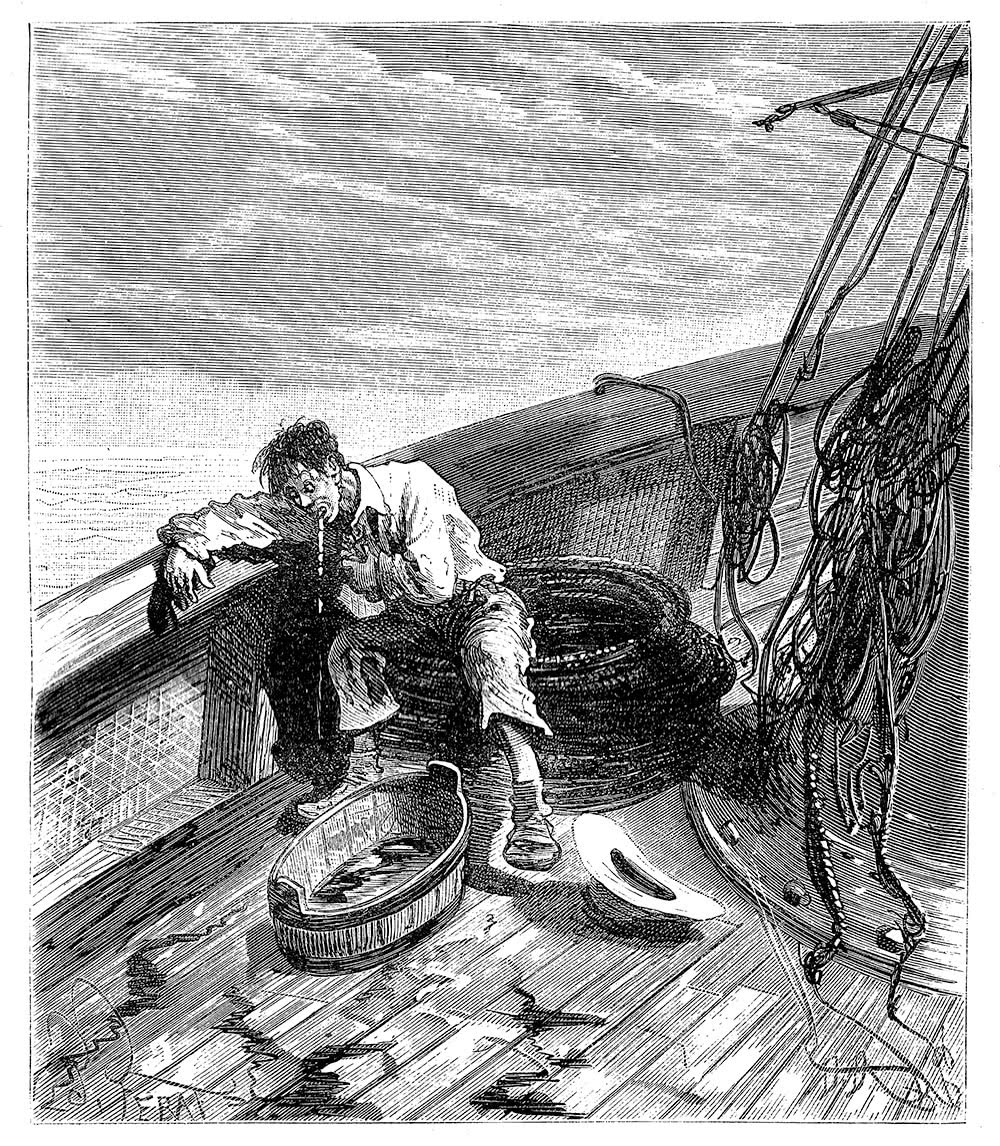
– Мадам, мне неизвестно, от кого исходят приказы, которым я имею честь повиноваться. У меня, разумеется, есть некоторые предположения, но я оставлю их при себе, это не моя тайна. Вам, храброй супруге изгнанника, я могу сказать только то, что я командую здесь не просто так, а ваш муж – не первый политический заключенный, который бежал с каторги. К несчастью, голландское правительство, прежде смотревшее на такие побеги сквозь пальцы, нынче – из опасения дипломатических осложнений, конечно, – не различает уголовных преступников и политических ссыльных и возвращает французской администрации всех без разбора. Поэтому нам придется действовать чрезвычайно осмотрительно и принимать все необходимые и многочисленные меры предосторожности. Ваш муж, мадам, давно уже должен быть в Парамарибо, а вам с детьми предстоит подняться вверх по течению Марони подальше от цивилизованных поселений и дожидаться там его прибытия в не самых комфортабельных условиях.
– О, лишения меня не пугают. У меня достаточно сил, чтобы вынести все. У моих детей больше нет родины, они обретут новую рядом со своим отцом. Уж лучше жить здесь, в этой нищей стране, чем во Франции, которая преследует нас и которую я была вынуждена покинуть, хоть и со слезами на глазах.
– Помимо прочих необходимых предосторожностей, – добавил капитан несколько смущенно, явно взволнованный вопреки его холодной сдержанности, – я просил бы вас, мадам, прибегнуть к одной уловке, чтобы обвести вокруг пальца ваших соотечественников, исключительно на тот случай, если нам придется пристать к французскому берегу.
– Скажите, что я должна делать? Говорите же, я готова!
– Если вас увидят одну, то есть с детьми, но без мужа, в таком месте, это немедленно и вполне резонно повлечет за собой ненужные вопросы… Вы бы не стали возражать, если бы я сыграл роль их отца… на какое-то время?.. Кстати, вы говорите по-английски?
– Как на родном языке.
– Великолепно. Не произносите ни слова по-французски. Если кто-то заговорит с вами или вдруг спросит о чем-то, отвечайте только по-английски. Теперь дети… ваш старший сын тоже владеет английским?
– Вполне.
– Хорошо, постараемся сделать так, чтобы остальных мальчиков вовсе никто не увидел. Мое судно сделает остановку в Альбине, возле фактории, основанной голландским купцом. Под предлогом семейной увеселительной прогулки, предположим к порогам Эрмина, я препоручу вас людям из моего экипажа, двум чернокожим, в которых я полностью уверен. Они высадят вас на небольшом островке в трех четвертях часа пути от перекатов, снабдят всем необходимым и останутся в вашем распоряжении. Я не двинусь с места до тех пор, пока они не вернутся с письменным подтверждением вашей благополучной встречи с мужем.
– Хорошо, месье. Я безусловно согласна на все. Что бы ни случилось, я выстою. Я давно уже попрощалась с цивилизованной жизнью. Цивилизация лишила меня счастья. Может быть, первобытная жизнь принесет нам облегчение, успокоит нашу боль и восполнит наши утраты. В любом случае, месье, прошу наших неизвестных благодетелей в вашем лице принять мои уверения в самой глубокой и неизменной признательности. Где бы вы ни были, какую бы судьбу нам всем ни уготовило будущее, тот, кто страдает и ждет, будет благословлять вас, и эти маленькие бедные изгнанники всегда будут благодарить вас вместе с ним.
Лишенные родины пассажиры и вправду, как сказал таинственный капитан, принесли удачу «Тропической птице». На памяти гвианских матросов подобное плавание никогда еще не совершалось так быстро. Тендер шел с такой скоростью, что через тридцать шесть часов после того, как он вышел из устья реки Суринам, вахтенный увидел остров Клодильды, расположенный близ мыса Галиби, формирующего левый берег устья Марони.
Ширина реки здесь такова, что французский берег едва различим. Судно с поднятым на корме флагом вошло в фарватер, благополучно преодолело отмель и, держась поближе к голландскому берегу, бросило якорь у поста Альбина, миновав причал французской исправительной колонии.
Избежав этой опасности, капитан тут же занялся поисками туземной лодки. Найдя подходящую, он немедленно нанял ее, велел соорудить над средней частью навес из пальмовых листьев, чтобы защитить пассажиров от палящего солнца, и щедро нагрузил ее припасами. К счастью, в поселке оказался негр бони, который собирался вернуться в свою деревню, расположенную в двух неделях плавания на веслах вверх по течению Марони. За несколько безделушек он согласился присоединиться к паре матросов. Такое подспорье в лице человека с опытом речных путешествий стало еще одной неожиданной удачей. С таким везением до порогов Эрмина можно будет добраться за двенадцать часов вместо двадцати.
Для пущей безопасности было решено отправиться ночью, и путешествие прошло так же гладко, как и предыдущее плавание.
Мадам Робен с детьми, все еще оглушенные фантастической чередой событий, уже несколько часов находились на крошечном островке более или менее округлой формы диаметром от силы сто метров. Это был настоящий букет зелени с собственным маленьким пляжем из мелкого песка и гранитной скалой.

Маленькие робинзоны, совершенно счастливые, оглашали окрестности радостными воплями. Николя, оправившийся от морской болезни, решил, что жизнь прекрасна. Лагерь разбили сразу же по прибытии. Бони успел изловить великолепную аймару, которая теперь жарилась над костром. Вся компания собралась было устроить здесь первый обед, как вдруг вдали, на французском берегу, примерно в двух километрах от островка, появилось легкое облачко дыма, за которым после долгого интервала послышался слабый звук выстрела. Черное пятнышко, не что иное, как лодка, отделилось от берега и быстро достигло середины реки. Послышался второй выстрел, и другая лодка пустилась в погоню за первой, отставая от нее не больше чем на триста-четыреста метров.
В этих местах любое происшествие становится событием. А нечто подобное немедленно приобретает ранг сенсации. В первой лодке, очевидно, находились беглецы, которых нужно было задержать любой ценой, раз преследователи без колебаний открыли по ним огонь.
Первая лодка приближалась. Она опережала вторую, но ненамного, идя по диагонали к голландскому берегу. Вскоре стало видно, что в ней находятся двое мужчин, гребущих без остановки. В другой было четверо, двое из них вооружены ружьями.
Беглецы явно стремились скрыться за островком от тех, кто в них стрелял. Это было единственно возможное решение.
Мадам Робен почувствовала, как сжалось ее сердце. Что за трагедия происходит на ее глазах в этой проклятой каторжной стране? А ведь они прибыли лишь несколько часов назад…
Дети испуганно молчали. Николя довольно неловко пытался зарядить двуствольное ружье, подарок голландского капитана.
Преследователи, разгадав замысел беглецов, пытались перерезать им путь и стреляли без остановки. Очевидно, их ружья обладали отличной дальнобойностью, поскольку потрясенные зрители этой дикой сцены несколько раз увидели фонтанчики от пуль совсем рядом с пирогой беглецов.
Она была уже не более чем в ста метрах от острова. И тут прицельный выстрел начисто срезал рукоятку весла первого гребца. Он тут же схватил другое и принялся грести еще быстрее.
Несмотря на то что он повернулся лишь на секунду, можно было разглядеть, что это белый человек. Позади него греб негр с непокрытой головой.
Все поплыло перед глазами мадам Робен. Ей показалось, что небеса, раскаленные до предела, раскололись и рухнули под своей тяжестью.
Шатаясь, она сделала несколько шагов по направлению к лодке, ее глаза блуждали, рот приоткрылся, пальцы мучительно сжались… Страшный, сдавленный, безумный крик вырвался из ее груди:
– Это он!.. Это в него стреляют!..
И она как подкошенная рухнула на песок.
Глава VI
Пейзажи тропического пояса. – Возвращение «Надежды». – Безрезультатные выстрелы. – Ловкий маневр. – Вместе! – Через пороги. – Водопад Эрмина. – Искусство гребцов Марони. – Папа, я хочу есть!.. – Молочное дерево. – Смятение уроженца Сент-Уэна. – Растительный желток. – Мертвецки пьяные рыбы. – Робиния нику, или опьяняющее дерево. – Чудесная рыбалка. – Электрический угорь. – Робинзоны становятся буканьерами. – Кому они обязаны счастьем? – Приключения тигра, съевшего острый перец. – У повелителя джунглей разыгрались колики.

Буквально погребенные под непроницаемой толщей зелени, изгнанник и старый негр долго томились в ожидании освобождения.
Мысль о погребении, навевающая образ шахтеров, навеки исчезнувших в сумрачных галереях угольных шахт, может поначалу показаться абсурдной, особенно когда речь идет о пребывании в лесу. Но ни в подобном сравнении, ни в самом слове нет ни малейшего преувеличения.
Все потому, что самые чрезмерные досужие гиперболы, самые смелые метафоры, самые энергичные эпитеты едва ли способны выразить гнетущее впечатление беспредельного одиночества и полной изоляции, которое возникает в некоторых закоулках этой глуши.
Только вообразите себе ярусы густой листвы, вздымающиеся один за другим до бесконечности, словно зеленые горы; шеренги гигантских стволов, которые удваиваются, удесятеряются и продолжают множиться стократ, превращаясь в сплошную стену; лианы, соединяющие стволы и служащие карнизами для бесконечных зеленых занавесей, и вы не сможете не подумать о неизмеримой бездне, о кромешной тьме бездонных шахт, о сырых подземельях. Лишь они могут сравниться с антуражем чудовищно могучей экваториальной природы, имя которой девственные леса.
Вам, должно быть, знакомы темные закоулки старого Парижа с изъеденными плесенью домами, со склизкими мостовыми и атмосферой затхлости, вроде улицы Мобюэ, улицы Венеции или улицы де Брантома? Солнце никогда не осушало бегущих по ним грязных ручейков, здесь никогда не услышишь стука колес кареты, даже ночные фонари здесь едва теплятся, будто вот-вот погаснут от сырости.
Вы когда-нибудь смотрели с крыши в эти узкие дворы, мрачные, как колодцы, на дне которых копошатся смутно различимые существа, бесформенные и практически одинаковые на вид?
Притом что в двух шагах от этих клоак нет ни малейшего недостатка в свежем воздухе и ярком свете и вся роскошь большого города выставлена напоказ во всем своем великолепии.
Таковы леса Гвианы, где наряду с восхитительными чудесами тропиков встречаются подобные медвежьи углы, не менее темные и безнадежные, но куда более мрачные.
Все дело в том, что здесь соединяются две созидательные силы невероятной мощи. С одной стороны, это экваториальное солнце, чьи неумолимые лучи сверх всякой меры нагревают эти знойные края, названные так неспроста; с другой – жирная и влажная почва, сформированная вековыми органическими отложениями и до предела насыщенная питательными веществами.
Крошечное семечко, скромный зародыш древесного гиганта, мгновенно и буйно прорастает в этой питательной среде. Побег вытягивается прямо на глазах, как в огромной теплице, и через несколько месяцев превращается в дерево. Его крона стремится вверх, а тонкий ствол твердеет, и кажется, будто солнце высасывает земные соки через большую соломинку для питья.
Молодому дереву требуется воздух. Ему нужен свет. Его бледные листья, чахлые, как у всех растений, что прозябают во тьме, нуждаются в хлорофилле, их главном красителе, как человеческая кровь – в гемоглобине. И только солнце может его дать. Поэтому единственной заботой юного растения становится постоянный рост в стремлении к его горячим поцелуям. Ни одна сила в мире не способна укротить этот порыв. Рано или поздно молодые деревья пронзают плотный лиственный свод и добавляют новые капли к зеленому океану.
Это буйство тропической растительности производит невероятное, поразительное впечатление. Чтобы составить о нем представление, лучше всего самому оказаться под переплетением огромных ветвей, сливающихся воедино где-то там, под самыми облаками, прикоснуться к чудовищным корням, под которыми беспрерывно происходит таинственное зарождение новой жизни.
О, как жалко выглядит человек, с трудом пробирающийся в этой неодолимой чащобе! Как медленно он идет среди гигантских деревьев! И все же он движется вперед, с компасом в одной руке и с мачете в другой, похожий на сапера, занятого подкопом, или на муравья, роющего нору у подножия горы.
В таких растительных катакомбах и пришлось жить нашим героям после постигшего их двойного несчастья. Они не имели почти никакого представления о времени, им не хватало света и воздуха. Птичье пение никогда не нарушало здешней могильной тишины. Пернатые обитатели джунглей избегают залетать в этот бурелом, опасный даже для хищных зверей. Здесь почти не растет трава, еще меньше цветов, только скользкий, зеленоватый, как губка распухший от воды мох на корнях, напоминающих постаменты колонн готического собора. А подо мхами кишмя кишит целый мир змей, ящериц, жаб, сколопендр, пауков-крабов и скорпионов.
Друзья уже почти месяц пытались выжить в этом рассаднике лихорадки, где жизнь в принципе казалась невозможной, даже их костру не хватало кислорода, чтобы как следует разгореться в разреженной атмосфере подлеска.
Их существование можно было бы сравнить с жаровней с тлеющими углями, которые никак не сгорят дотла.
Каждые два дня Робен ходил на поляну Казимира и приносил оттуда еду: ямс, бататы, маис и бананы. Этого скудного пропитания, по правде говоря, хватало лишь на то, чтобы заглушить болезненное чувство голода, не дать ему задушить их костлявыми пальцами. К счастью, человеческое существо порой обнаруживает удивительную стойкость.

Отшельники тщетно томились в ежеминутном ожидании сигнала, но однажды утром Робен, в пятнадцатый раз проходя по илистому руслу ручейка, вдруг подскочил, словно увидел змею. Прямо перед ним на воде болталась легкая лодка с четырьмя веслами, привязанная к толстому корню. Сомнений быть не могло. Это была она, та самая пирога, которую выдолбили и выстругали они с Казимиром, назвав ее «Надеждой», и которая так загадочно исчезла.
По какому невероятному стечению обстоятельств она могла оказаться здесь в нужную минуту и в полной готовности? В центре пироги лежала большая связка спелых бананов. Кроме того, здесь было несколько запеченных в золе бататов и клубней ямса и, что самое удивительное, дюжина сухарей и бутылка джина. Лодку, вероятно, затопили вскоре после ее пропажи, поскольку борта были совершенно мокрыми и грязными и местами даже покрылись мелкими водными растениями.
Несмотря на всю необычность чудесного возвращения пироги, инженер ни на секунду не стал об этом задумываться. Он мечтал лишь о том, чтобы поскорее вырваться из этой сырой темницы, и решил позже поразмыслить над этой загадкой.
Он бегом поспешил к месту их стоянки.
– Казимир, мы уходим!
– Куда мы идти, компе?
– Наша пирога вернулась. Не знаю как, но она здесь, совсем рядом. Это значит, что приток свободен, можно в этом не сомневаться. Наконец-то мы можем убраться из этого проклятого места и отправиться на Марони.
– Так хорошо, моя идти с вами.
Было бы излишне приводить здесь весь поток восклицаний и удивленных вопросов доброго старика. При этом он делал ничуть не меньше, чем говорил. Казалось, что его нога, раздутая от слоновой болезни, весит столько же, сколько и другая, здоровая. Бедный кокобе передвигался чуть ли не рысью и управился со сборами так быстро, что занял место в лодке одновременно со своим компаньоном.
Жестоко изуродованное болезнью черное лицо озарилось детской радостью, когда Казимир почувствовал в своих скрюченных пальцах рукоятку весла. Челнок, ведомый парой гребцов, тихо проскользнул по ручейку, едва задев береговые заросли трав, и вышел в более широкую протоку.
Кругом было спокойно, ничто не мешало их бесшумному движению. Они снова увидели дневной свет. Внимательно глядя по сторонам, прислушиваясь к малейшему шороху, напрягая мускулы, друзья плыли вперед. Весла бесшумно, без единого всплеска входили в воду, при этом надо было стараться не стукнуть веслом о борт пироги.

Так они без происшествий прошли мимо лесоразработки, с виду совершенно безлюдной. Пирога ловко обогнула несколько громадных бревен, привязанных к пустым бочкам вместо поплавков, которые дрейфовали по воле течения по направлению к Марони. Все было как нельзя лучше. Через несколько минут они пройдут опасный участок, Спаруин расширился к своему устью, и беглецы заметили простор большой реки.
Они на минуту остановились, внимательно осмотрели оба берега, пристально изучили малейшие неровности на поверхности земли, все древесные стволы и корни. Ничто не показалось им подозрительным.
– А теперь вперед, и как можно быстрее, – негромко сказал Робен.
Легкая лодка понеслась стрелой по водам Марони. До едва различимого противоположного берега предстояло проплыть около трех километров.
Друзья наконец почувствовали себя в безопасности. От враждебного берега их отделяло почти четыреста метров, как вдруг позади послышались крики ярости и взрывы проклятий.
Прогремел выстрел. Стрелок, очевидно, неважно прицелился – пуля взметнула воду метрах в двадцати от пироги.
– Вперед, Казимир!.. Вперед… – прохрипел Робен, навалившись на весло, выгнувшееся от напора.
Крики преследователей, отраженные поверхностью воды, ясно донеслись до ушей беглецов:
– Стой, стрелять буду! Стой!
Новый выстрел, а за ним еще один подтвердили этот свирепый окрик.
Изгнанник повернул голову и увидел, как ялик с двумя парами уключинных весел отвалил от берега и пустился за ними в погоню.
– Смелей, старина, вперед! Им нас не догнать… Ах, бандиты! Мы вам не по зубам, в любом случае живым я не дамся!
– Оно так. Идти вперед, эта злой люди нас не поймай.
– Правь к острову, видишь, прямо перед нами… пусть подумают, что мы хотим там причалить.
– Так хорошо, верно говорить.
– Когда мы будем рядом с ним, то повернем и обогнем остров. Так мы спрячемся от пуль, по крайней мере на время.
Расстояние между пирогой и островком стремительно сокращалось. Погоня не отставала, там тоже гребли яростно и изо всех сил. Выстрелы раздавались один за другим, впрочем без особого успеха, пока один из них не перебил весло Робена.
Тот гневно вскрикнул, схватил запасное весло и поднял голову. На звук его голоса отозвался отчаянный крик его жены, мгновенно узнавшей мужа.
Он увидел фигуру в черном, рухнувшую на песок, детей, растерянно бегающих по берегу, жестикуляцию негров. Какой-то мужчина в европейском платье бросился на помощь…
Это не могли быть враги. В этом душераздирающем крике не было угрозы.
Но эта женщина… дети… в таком месте?
Боже милосердный!
«Надежда» уже была в каких-то восьмидесяти метрах от островка. Робен, прямой как стальная балка, с напряженными до оцепенения мускулами, совершал одно из тех невероятных физических усилий, при которых человек может сломаться, если наткнется на непреодолимое препятствие. Пирога неслась по волнам как на крыльях. И вот нос лодки пропахал берег, глубоко вонзившись в песок. Робен выпрыгнул из лодки одним махом, словно тигр, и, приподняв неподвижное тело жены, уставился расширенными от ужаса глазами на онемевших, перепуганных детей.
Враги быстро приближались. Беглец узнал Николя, увидел негра бони, опирающегося на ружье, большую лодку с навесом из листьев.
– Месье Робен, – заорал рабочий.
– Николя, ко мне!.. Скорее в лодку! А вы держитесь, останьтесь здесь, – крикнул Робен голландским матросам.
С этими словами, обхватив левой рукой все еще бесчувственное тело жены, правой он схватил за одежонку младшего сына, бросился к другой лодке и уложил их там, в то время как Николя привел остальных детей в сопровождении старого Казимира.
– Все на борт! – скомандовал Робен.
Бони повиновался без слов, вместе со всеми.
– Весла!
Один из голландских матросов выполнил приказ. Казимир занял место на носу, Робен посередине, бони наизготове уселся на задней скамье.
– Толкай!..
И пирога рванулась вперед. Суринамские негры остались на островке с завязшей в песке «Надеждой», все еще ошеломленные этой странной сценой.
Бони понял, в чем состоял замысел француза. Он вырулил пирогу так, чтобы обогнуть остров. Преследователей не было видно. К счастью, Робену удалось выгадать немного времени до того момента, как тюремная стража поймет, что на островке никого нет, кроме матросов с «Тропической птицы».
Погоня вскоре возобновилась, правда без особой надежды на успех. Хотя большая пирога весила больше и была тяжелее нагружена, чем легкая «Надежда» беглецов, но помощь негра бони оказалась неоценимой. Он один стоил целой команды гребцов.
Увы, но они все еще оставались в пределах досягаемости ружейного выстрела, и Робен, при всей его стойкости и презрении к опасности, дрожал при мысли о близких, которых он только что снова обрел столь чудесным образом. Налегая на весло, полностью сосредоточенный на маневре, ведущем ко всеобщему спасению, бедный отец едва успел украдкой бросить нежный взгляд на мальчиков, дрожавших от страха.
Их мать понемногу приходила в себя благодаря тому, что Николя усердно, но неумело брызгал ей в лицо холодной водой.
– Спасен… он спасен, – выговорила она наконец.
– Отец!.. Отец, они снова будут стрелять! – крикнул Анри, старший из детей.
И в ту же секунду, не успел он договорить, пуля чиркнула о борт лодки и подняла фонтанчик брызг над поверхностью воды.
И тут Робена, который даже не успел обнять свою храбрую жену, преодолевшую все невзгоды, своих милых малышей, по которым он так тосковал, охватила слепая ярость к тем, в чьих сердцах не было ни намека на человечность. Он простил Бенуа, своего палача. Он спас ему жизнь. Но тогда Робен рисковал лишь своей жизнью. А теперь преследователи угрожают его близким. Пуля может попасть в любого из них… у него на глазах!
Его глаза налились кровью, лицо, напротив, мертвенно побледнело. Рискуя замедлить ход лодки, он схватил длинное ружье лесного негра. Оно было заряжено дробью. Бони, разгадав его мысль, вынул изо рта две пули, которые он беспрестанно перекатывал от щеки к щеке, и мгновенно вогнал их в стволы.
– Мерзавцы, у вас нет ни души, ни сердца! – крикнул беглец. – Не приближайтесь, или я вас убью!
Охранники опустили оружие, впечатленные его решительным видом, не решаясь противостоять отчаянному человеку такого склада. Впрочем, им по-любому вскоре пришлось бы прекратить погоню, поскольку шум воды возвещал близость речных порогов.
Пирога приближалась к перекату Эрмина.
Только негр из племени бони по имени Ангоссо был способен преодолеть эту полосу острых, торчащих из-под воды камней, вокруг которых бешено крутилась и пенилась бурная речная волна. Двумя взмахами весла он развернул лодку, одновременно крутнувшись на месте, и оказался впереди.
Казимир и Робен тоже развернулись на своих скамьях, чтобы плыть лицом вперед, и счастливый отец наконец-то смог увидеть своих милых детей и их отважную мать.
Малыш Шарль, не сознавая грозящей опасности, радостно захлопал в ладоши.
Оставим же их на некоторое время, пусть насладятся счастьем долгожданной встречи, и в нескольких словах объясним, почему инженер и прокаженный оказались на перекате Эрмина, тогда как, по их расчетам, они должны были добраться до него только через четыре часа плавания после выхода из ручья в Марони.
Это произошло из-за путаницы в географических названиях. Слабое знание этих мест Робеном вполне извинительно. Что до каторжника Гонде, то он, сообщая беглецу, что это ручей Спаруин, был полностью уверен в своей правоте, и тем не менее он ошибался. Маленькая лесосека, где он работал в качестве лесного разведчика, находилась пятнадцатью километрами выше по течению, чем более крупная, расположенная в устье Спаруина. При этом начальники обеих вырубок почти не поддерживали контактов, и Гонде даже не знал о существовании другой. И поскольку маленькая вырубка тоже называлась Спаруин, то каторжник решил, что ее окрестили так по названию пересекавшего ее ручья, который в действительности называется Сакура.
Этим и объясняется ошибка в определении расстояния до переката. Островок под названием Суэнти-Казаба находится в пятнадцати километрах от устья Спаруина и скрывает от глаз устье другого притока Марони, протекающего по голландской территории. Этот приток был неизвестен в описанную нами пору. Только в 1879 году два француза, Казальс и Лабурдетт, разрабатывавшие золотоносные участки на левом берегу Марони, дали ему название Рюитер.
Отлив, который чувствовался даже здесь, на расстоянии девяноста пяти километров от берега океана, увлекал лодку беглецов к порогам Эрмина. Преследователям же нечего было и думать о том, чтобы преодолеть пороги на своей европейской лодке с килем и горизонтальным рулем. Они тотчас же сели на мель. Надсмотрщикам осталось лишь в бессильной злобе следить за тем, как легкая пирога, словно рыба, огибает опасные участки, да посылать вслед беглецам бесполезные проклятия.
Из всех порогов Марони перекат Эрмина самый безопасный. В самом деле, скальная гряда образует нечто вроде естественного шлюза длиной около восьми-девяти сотен метров с перепадом высот не более пяти метров. То есть наклон весьма незначителен. И тем не менее, чтобы преодолеть его без затруднений, требуются недюжинная ловкость и особая лодка, без киля и руля, с приподнятыми носом и кормой.
Бони Ангоссо, с юных лет знакомый с этим непростым искусством, огибал острые выступы темных скал, выбирал подходящий проход и никогда не направлял пирогу вперед, не убедившись, что путь безопасен. Время от времени бурная вода, к ужасу детей, болтала хрупкую лодчонку, словно щепку, грозя сбить ее с курса, но мощный удар весла возвращал ее в прежнее положение.
Ангоссо, который немного говорил по-креольски, объяснил вполуха слушавшему его Робену, что выше по течению реки находятся куда более опасные пороги, среди которых высокий Синга-Тете, расположенный чуть ниже места слияния рек Лава и Тапанаони, образующих Марони. Спуск по нему поистине ужасен. Водный поток, зажатый между скал, с ревом устремляется в слишком тесное русло, крутится в пене, низвергается шумными водопадами и попадает в другие теснины, с адским грохотом вырываясь из них бесчисленными водоворотами.
Стремнина Синга-Тете, что в переводе с языка негров бони означает «мертвый человек», необыкновенно губительна. Гребцы здесь бросают весла. Лодкой управляют двое, один впереди, другой сзади. Каждый из них берет длинный крепкий шест, называемый такари, упирая его одним концом в грудь.
Пирога, влекомая как перышко, несется по гребню волны, острому как бритва. Завеса водяной пыли, сверкающая как бриллианты, рассеиваясь над бурунами, ослепляет пассажиров, которые вжались в дно лодки, вцепившись в ее борта. Неукротимое течение сейчас разобьет утлое суденышко о торчащую из воды скалу, этого не миновать. Но человек, стоящий на носу пироги, нагибается, упирает дальний конец своего такари в скалу и, не дрогнув, получает сильнейший удар в грудь, которая отзывается гулко, как тамтам. Опасность миновала, но лишь на минуту. Этот прием повторяется снова и снова, то одним смельчаком, то другим и, как правило, с одинаковым успехом. Наконец, после пяти-шести бесконечных минут смертельного ужаса, пассажиры, насквозь промокшие, оглушенные, на пределе после невероятного напряжения, могут отдышаться в спокойных водах – и на всю жизнь сохранить воспоминание об этой головокружительной гонке, ежеминутно сопровождаемой гулкими ударами такари в грудные клетки их проводников.
Но сейчас от Ангоссо не требовалось демонстрировать подобные акробатические таланты, здесь вполне можно было обойтись веслом. Зоркий глаз сына природы беспрестанно вглядывался в бурные воды реки, и время от времени славный парень замечал великолепную кумару, резвящуюся в быстрине, и говорил себе, что эта прекрасная рыба, с нежной и сочной плотью, ароматным жиром, стала бы отличной добычей. Он с вожделением посматривал на свой большой лук из буквенного дерева, двух метров в длину, из которого он так метко стрелял огромными стрелами с тройным наконечником, никогда не давая промаха.
– Ой-ой, как жалко, что белый муше, и мадам, и ваши детки так рады, что убежать, и теперь шибко спеши, и Ангоссо не можно поймай кумару!
Солнце жарило немилосердно. В довершение всех несчастий горшок с печеным ямсом и бататом перевернулся, когда Робен высаживался на островок, и, спеша убраться оттуда, путешественники не успели погрузить в пирогу ни крошки съестного.
Красноречие Николя как ветром сдуло. В его животе урчало от голода. Дети, сбившись вместе на дне лодки, задыхались от жары и жалобно стонали. Бедные малютки не ели уже довольно давно. А на борту не было совсем ничего… лишь немного теплой воды, зачерпнутой из реки, которая скорее усиливала жажду, чем утоляла ее.
Мучения становились нестерпимыми. Нужно было пристать к берегу, тем более что пороги были уже далеко, а стражники давным-давно отправились восвояси.
Гвианские робинзоны могли больше не опасаться людей, но теперь они оказались лицом к лицу с голодом, не менее грозным врагом.
Наконец, не в силах больше терпеть, совершенно разбитые, задыхаясь и мучаясь от жары в этом адском пекле, с пустыми животами, дети заплакали, и с пересохших губ младшего слетел ужасный жалобный стон:
– Папа… я хочу есть…
Эта тяжкая мольба заставила Робена задрожать всем телом. Мать, измотанная моральным потрясением и нуждой, смотрела на него с тревогой.
Нужно было немедленно что-то предпринять под страхом неминуемой смерти от голода.
– Казимир, – сказал он прокаженному, – нам надо немедленно пристать к берегу. Дальше идти не стоит. Дети просят еды. Скажи, что нам делать? Я готов на все. Усталость ничего не значит. Я сделаю все возможное.
– Надо идти туда, – ответил старик, перемолвившись несколькими словами с Ангоссо.
Пирога повернула налево и под небольшим углом направилась к берегу. Через полчаса беглецы добрались до небольшой заводи, затерянной среди огромных деревьев. Чтобы попасть сюда, им пришлось проплыть по едва заметной протоке шириной не больше метра.
– О, компе, так хорошо. Тут я давай детям чуток молоко и желтки.
Робен с тревогой посмотрел на своего спутника. Он решил, что тот внезапно сошел с ума. Что касается Николя, то он, не понимая по-креольски, уловил лишь два слова: молоко и желтки.
– Бедный старик заговаривается. Я не вижу здесь ни птичника, ни коз, ни буренок, если только эти деревья вдруг не превратятся в кур-несушек или в дойную корову, а пока я не понимаю, откуда все это возьмется.
Несколькими ударами мачете, достойными заправского рубаки, бони свалил на землю целую охапку листьев ваи и марипы. Воткнуть в песок пару жердей, соединить их поперечиной, опереть на нее самые длинные и густые пальмовые листья на манер навеса было для него делом привычным. Через три минуты мать и дети расположились в шалаше, который в Гвиане называется ажупа, на удобном матрасе из свежей зелени.
Робен изнывал от нетерпения, несмотря на быстроту, с которой действовал его чернокожий друг. Последний достал из пироги две плетеных чашки-куи, полностью водонепроницаемых благодаря внутреннему слою растительной смолы, известной как мани, которую добывают из дерева горная маниль, или moronoboea coccinea. Затем, приметив два великолепных дерева высотой более тридцати метров, с гладкими красноватыми стволами, он сделал на них два глубоких косых надреза в нескольких сантиметрах от земли.
И тут произошло чудо, к полному изумлению бравого Николя: в надрезах выступили крупные и густые белые капли, которые слились в струйки и потекли прямо в подставленные под них чашки.
– Но это молоко!.. Настоящее молоко… Кто бы мог представить себе нечто подобное?! – воскликнул он, взяв в руки одну из чашек. – Вот, малыш Шарль, держи, попей молочка, только что от коровы.
Ребенок жадно поднес сосуд к губам и большими глотками выпил живительную влагу.
– Вкусно, правда же, мой дорогой?
– Еще как, – подтвердил мальчик с убежденным видом.
– А теперь дай попить маме, а потом еще Эдмону, Эжену и Анри.
Вторая чашка уже наполнилась до краев. Ее тоже пустили по кругу, и когда все утолили жажду и немного подкрепились, Николя последним припал к ней с таким комичным выражением счастья, что все, не исключая Робена, не смогли удержаться и рассмеялись от всей души.
Это случилось впервые за много месяцев!
– Вот что я вам скажу, патрон, я никогда в жизни не пробовал ничего подобного! Древесное молоко, ну и ну! В Париже о таком и не слыхали, там делают молоко из мозгов животных, крахмала, медонского мела, смешивая их с водой, не всегда чистой. Клянусь, между нами, я готов поверить в то, что они и яйца здесь отыщут. А вот это дерево хорошо бы запомнить. Для начала хотя бы узнать, как оно называется. В начальной школе с ботаникой у нас, честно говоря, было неважно.
– Это балата, – сказал Казимир.
– Как, – воскликнул Робен, – это балата, молочное дерево, mimusops balata? Я много раз проходил мимо подобных, понятия не имея, что это оно. Как видишь, Николя, недостаточно черпать знания только из книг.
– Да, это правда. Тут нужна практика. Дело в том, что на практике…
На этих словах он осекся, и не без причины. С дерева, под которым он стоял, прямо ему на голову, прикрытую плетеной панамой, свалился небольшой круглый предмет, величиной со сливу ренклод.
Он поднял голову и увидел Ангоссо. Тот сидел на большой ветке и смеялся над только что разыгранной им шуткой.
– Яичный желток! – радостно воскликнул Николя, поднимая этот предмет, круглый как шар, твердый и окрашенный в красивый оранжевый цвет.
– Хорошо есть, – сказал Казимир. – Вкусно-вкусно.
– Не стану отказываться. Тем более что их там полно, на всех хватит. Во всяком случае, тут можно быть уверенным, что он не из-под курицы.
И честный парень впился в плод всеми зубами, рассчитывая, несомненно, разделаться с ним одним укусом.
– Ай, – воскликнул он, скорчив рожу, – там внутри цыпленок!
– Как – цыпленок!?
– Это я образно. Птенец этой тридцатиметровой наседки – косточка, и претвердая, доложу я вам. Я уж было подумал, что останусь без зубов. Смотрите, как интересно: у этой косточки разная поверхность. С одной стороны она гладкая, как слоновая кость, и вся блестит, а с другой – шершавая, вся в рытвинах, будто бы ее обработали вручную.
– Но мякоть хотя бы съедобна?
– Не хуже, чем давешнее молоко. Слегка суховато, рассыпчато, но все же вкусно. Честное слово, если это и не настоящий яичный желток, мой желудок воспринял его спокойно. А впрочем, вы можете сами попробовать, – закончил он, спасаясь из-под града плодов, сброшенных бони с дерева.
Яичный желток (именно так называют этот плод в Гвиане) был объявлен превосходным всеми членами маленькой колонии, которые вскоре уснули – мы, конечно, говорим о детях – безмятежным сном.
Робен, почти восстановивший силы этой необыкновенной трапезой, с тревогой думал о завтрашнем дне. Он хорошо знал, что такая пища была хороша, чтобы утолить первое чувство голода, но вскоре ее будет недостаточно. Дети и их мать нуждаются в основательном питании, особенно в этих широтах, где анемия не щадит никого.
Ангоссо, добрый гений этого дня, вывел его из раздумий.
– Я буду делай ручей пьяный, – сказал он без обиняков.
– Как ты сказал? – спросил инженер, думая, что не расслышал.
– Делай ручей пьяный, потом бери рыба. Делай пьяный с нику, она тут много везде.
– Оно так, – подхватил Казимир. – Рыба любить нику. Пей его и давай пьяный, как индеец.
– А что потом?
– Бери рыба, давай копти и кушай все вместе.
– Я не понимаю, что ты хочешь сказать, но действуй, друг мой, опьяняй ручей, ты знаешь, как лучше. Я могу чем-то помочь?
– Нет, будь тут, с мадам и детки, бони идти искай нику.

Лесного негра не было почти час, Робену казалось, что время тянется слишком долго, но вот Ангоссо вернулся, нагруженный, как мул контрабандиста.
Но, в отличие от весьма покладистого непарнокопытного, которого несправедливо считают упрямым и которое носит свою поклажу на спине, двуногий обитатель тропиков нес громадную связку свежесрезанных лиан на голове.
Вязанка весила не меньше сорока килограммов и состояла из коричневатого цвета лианы с побегами, нарезанной на полуметровые отрезки, собранные пучками вроде тех, какие делают из лозы французские виноградари. В другой руке бони держал букетик из желтых цветов и листьев. Робен, как искушенный ботаник, тут же его узнал.
– Вот пьяный дерево, – сказал Ангоссо, сбросив наконец свою ношу с глубоким выдохом облегчения.
– Нику, – уточнил радостно Казимир.
В этот момент старший из мальчиков проснулся и с любопытством выглянул из шалаша. Отец подозвал его:
– Гляди, Анри, вот дважды подходящий случай, чтобы начать изучать ботанику. Нам, несомненно, придется провести здесь много дней, возможно даже долгие годы. И все это время наше существование будет зависеть только от природы. Поэтому в самое ближайшее время нам нужно будет познать ее как можно глубже, чтобы мы могли в полной мере пользоваться ее плодами. Стремление жить усилит нашу тягу к знаниям. Ты понимаешь, о чем я говорю, сынок?
– Да, папа, – ответил тот, глядя ему прямо в глаза умным и ласковым взглядом.
– С помощью этого растения – его род и семейство мне известны, но о его свойствах до сегодняшнего дня я не имел никакого представления – наши товарищи намерены добыть нам очень много рыбы. Это очень ценное знание, и нам нужно научиться, чтобы пользоваться им в будущем. Эти цветы и листья, их надо хорошенько запомнить…
Мальчик взял букет из рук Ангоссо, внимательно посмотрел на него, как будто делая усилие, чтобы закрепить в памяти их вид и особенности.
Робен продолжал:
– Это растение из семейства бобовых, к нему же принадлежит и акация. По странному совпадению, растение, которое поможет нам прокормиться, носит наше имя – robinia nikou, в честь нашего однофамильца Робена, садовника Генриха IV, давшего свое имя семейству робиниевых. Туземное слово «нику», мне кажется, добавил Обле, чтобы обозначить разновидность, которую ты видишь сейчас. Ты все понял и запомнил?
– Да, папа, я теперь везде узнаю робинию нику.
– Муше, давай ходи сюда, – вмешался Ангоссо. Пока отец с сыном разговаривали, он успел перегородить течение ручья легкой плетенкой из веток с листьями.
Затем он положил в каноэ свои вязанки лиан, усадил туда отца с матерью, четверых детей и Николя с Казимиром, схватил весло, быстро пересек заводь, сформированную устьем ручья, которую тот пересекает, как Рона – Женевское озеро, и причалил к противоположному берегу потока, исчезавшего в лесных дебрях.
Через несколько минут здесь был готов новый шалаш из ветвей и листьев, необходимый элемент любой остановки в этих лесах. Теперь Ангоссо мог заняться опьянением ручья. Один из берегов представлял собой каменную россыпь. Такие камни красноватого цвета, изъеденные, как губка, здесь называют «ноздреватыми». Он присел на корточки над одним из них, взял пучок нику, обмакнул его в воду, положил на другой и принялся колотить по нему как одержимый толстой короткой дубинкой, зажатой в правой руке. В одно мгновение побеги лианы превратились в кашу.
Сок растения брызгал во все стороны и стекал в ручей, окрашивая воду в красивый опаловый цвет.
– И это все? – спросил Робен.
– Да, муше, – ответил бони, снова принимаясь за работу.
– В таком случае я могу тебе помочь, не думаю, что это слишком сложно.
И, подкрепив слова действием, бывший заключенный поспешил повторить то, что делал его полудикий учитель. Так они измельчили весь запас лианы, принесенный Ангоссо. Молочно-белые воды ручья, завихряясь, постепенно вливались в маленькую заводь, и ее поверхность тоже стала отливать перламутром.
– Ай, вот так хорошо. Теперь надо чуток ждать.
Бони, с проницательностью, свойственной людям его расы, превосходно выбрал место для рыбалки. В заводь, перегороженную плетенкой, могла попасть не только рыба из ручья, но и та, что обитает в затопленных саваннах, в реке Марони, и даже некоторые морские рыбы, занесенные приливом в эти места, откуда до океана по меньшей мере сто десять километров, – другими словами, все разновидности гвианской рыбы.
Ждать пришлось недолго. Беспокойные и внимательные глаза Ангоссо вскоре увидели, что на поверхности воды в центре заводи появились какие-то слабые точки и легкое волнение.
– Вот так. Теперь давай ходи к плетенка.
Робен собирался отправиться туда один, оставив жену и детей под присмотром Казимира и Николя, но те настаивали с таким жаром, что пришлось взять с собой всех. О том, чтобы пройти через лес, нечего было и думать, так что им пришлось снова воспользоваться пирогой.
Внезапно их глазам предстало необыкновенное зрелище. Озерцо словно внезапно вскипело. Впереди, позади, справа и слева от пироги рыбы всех цветов и форм, самой разной величины, поднимались на поверхность воды, исчезали на мгновение, тут же всплывали кверху брюхом и так и замирали, как мертвые. Но они всего лишь были одурманены, опьянены соком нику, не способны уплыть, спрятаться или защищаться.
Их здесь были тысячи, они разевали рты, топорщили жабры, били по воде непослушными плавниками, все это напоминало неуклюжую жестикуляцию пьяницы. Некоторые были не больше десяти сантиметров в длину, другие достигали полутора метров.
Лодка направилась к изгороди, куда всю рыбу неумолимо сносило течением. Ангоссо, не теряя ни минуты, по пути оглушил ударами мачете несколько непокорных аймар и акул-молотов, злобных существ, которых стоило особенно опасаться.
Чем ближе лодка приближалась к плетню, тем гуще становилась поверхность запруды.
Дети в полном восторге били в ладоши, оглашая водную гладь криками радости. Пирога едва могла плыть, упираясь носом во внезапно образовавшуюся живую отмель, так что Ангоссо пришлось расчистить проход ударами весла. Это было чудо, мираж, настоящая волшебная рыбалка!
Перед тем как они причалили, Робен настрого запретил детям прикасаться к рыбам: многие из них опасны, укус некоторых видов – смертелен.
Перед изгородью скопилось не менее полутонны мертвецки пьяной рыбы. Но как вытащить ее на берег? С этим вопросом Робен обратился к бони, поскольку и речи не было о том, чтобы залезть в воду, рискуя наступить на ядовитый шип или попасть в зубы пираньи.
Ангоссо довольно ухмыльнулся и без лишних слов развернул свой большой гамак с большими ячейками, сплетенный из прочной хлопковой веревки индейцами из племени рукуйенов. Обе стороны гамака завершались крепкими длинными петлями из той же веревки. Он положил в него камень для тяжести, забросил его в ручей и подал одну из петель Робену, оставив другую у себя. Тот сразу же понял его замысел, и, объединив усилия, они вытянули из заводи битком набитый всеми представителями водной фауны Гвианы гамак, превращенный в сеть.
Самых крупных рыбин методично оглушали ударами мачете в тот момент, когда они покидали родную стихию, переходя из одурманенного состояния к небытию, как члены секты Старца Горы после слишком усердного употребления гашиша. Едва опорожнив, сеть из гамака забрасывали снова, и вскоре на берегу выросла целая гора рыбы, несмотря на протесты Робена, твердившего, что пора остановиться.
Здесь скользили, извивались, трепыхались рыбы круглые и плоские, с чешуей и без нее, с пастями, усеянными зубами, и гладкими челюстями, с ядовитыми шипами и длинные, как змеи.
Парасси (mugil alba), гуасы, робалы, кефаль и даже ботусы, поднявшиеся вверх по реке, так же как и великолепный желтый машуаран (silurus mystus) с золотым отливом, весом в десять килограммов; аймары с громадными головами, превосходные в пиментаде, кумару с их ароматным жиром, прожорливые пираньи, пресноводные скаты с тремя или даже четырьмя парами глаз кирпичного цвета и опасным шипом на хвосте; кунани, массороны, белые карпы, кулиматы, рыбы-луны, оккароны, барбарош, настоящая присоска, которая цепляется к скалам, жуткая на вид, но очень вкусная, все они перемешались с еще бог знает каким количеством других видов, которых нет ни в одной книге по ихтиологии и которых нужно указывать под их туземными названиями.
Таковы, например: кулан; рыба-агути с крупной пустотелой головой и почти без хвостового плавника, желто-рыжего цвета, как шерсть агути, которого она напоминает еще и формой тела; рыба-мадам, маленькая и пятнистая, словно форель; рыба-жаба с отталкивающей головой амфибии и буроватой бородавчатой кожей, очень вкусная, несмотря на ужасную внешность; мертвый язык, патагай, горре, папу, прапра; аяйя, обитательница болот; крупия; рыба-приманка, которую так называют лесные негры, потому что ее используют в качестве приманки для более крупной рыбы, похожая на нашу корюшку, и так далее.
Среди известных и хорошо описанных видов стоит упомянуть большеглазок (cottus gobio), живородящих рыбок двенадцати – двадцати сантиметров в длину, без чешуи, но с огромными, словно налитыми кровью глазами, которые обладают удивительной ловкостью. Они способны выпрыгивать из воды и преодолевать десятком последовательных прыжков расстояние в тридцать и даже сорок метров. Эта рыба предпочитает мелководье и в некоторых местах водится в таком изобилии, что если выстрелить там в воду из ружья, заряженного дробью, то можно поразить две или три дюжины рыбешек. Это бесподобная еда, так же как атипа и горре, закованные в панцири, вроде тех, что носят броненосцы, из которых их можно извлечь только после приготовления. И наконец, в завершение этого длинного и все же неполного списка, обратим внимание на самую странную рыбу из всех, из семейства сомовых, под названием пемеку.
Бони только что снес голову одной из них, настоящей громадине. К удивлению Робена, из ее жабр с гипертрофированными створками, образующими что-то вроде валика вокруг тела, вырвалась целая компания маленьких пемеку, размером не больше сигареты.
Видя, что белый друг по-настоящему изумлен, Казимир рассказал ему о повадках этой любопытной рыбы. Во время нереста самец-пемеку собирает икру и держит ее в промежутках, похожих на те, что составляют зубья расчески, которые находятся в его жабрах. После того как из икринок появляются мальки, они не покидают это спасительное убежище в течение нескольких первых дней. По мере того как малыши подрастают, они покидают жабры, но держатся рядом с отцом, который также заботится об их пропитании. При малейшей опасности самец раскрывает жабры, как наседка – крылья над цыплятами, и перепуганные мальки всей гурьбой устремляются туда.
– Он хороший папа, муше. Уходить, когда детки стать сильный.
Робен хотел схватить одного из них, чтобы рассмотреть повнимательнее, но прокаженный остановил его:
– Нет, компе, не можно трогай эта зверь. Шибко плохой, злой, кусай, как скат.
Между тем Ангоссо не собирался останавливаться, хотя на берегу было уже столько рыбы, что ее хватило бы, чтобы накормить полтораста человек. Но, опьянив ручей, честный малый желал заполучить всех его обитателей. Единственное, на что он согласился, – выбрасывать самую маленькую рыбешку обратно в воду. Эта гора потенциальной пищи распаляла его. Он намеревался есть без остановки несколько последующих дней, не важно, что часть добычи неминуемо испортится, а после ему, возможно, придется голодать целую неделю.
Какая разница? Лесным неграм, как и краснокожим, экономия несвойственна. Когда им случается добыть майпури (тапира), все племя, большое или маленькое, принимается за пять-шесть сотен килограммов мяса, и все от мала до велика, от детей до стариков, объедаются до колик.
Бони остановился на мгновение, заметив большого угря длиной не меньше полутора метров. Он извивался в траве – то ли не такой одурманенный, как другие речные жители, то ли уже «протрезвевший» после воздействия нику. Робен занес над ним мачете.
– Не можно, не бей его, муше, – вскрикнул Ангоссо.
Но было уже поздно. Клинок обрушился на голову рыбины из семейства мягкоперых. Но странное дело, тесак вдруг выпал из руки инженера, а сам он испустил крик удивления, граничащего с болью.
– Это угорь-трясучка, плохой, очень злой, – сказал Казимир.
– Папа, папа, тебе больно? – закричали дети.
– Нет, малыши, – ответил тот, улыбаясь. – Все в порядке, это пустяк.
– А что это, что сделало тебе больно?
– Электрический угорь.
– О, электрический, вот это да, совсем как наш телеграф! – в восхищении заявил Эжен.
– Нет, – мягко возразил ему Анри. – Я тебе расскажу, что это, я знаю, потому что читал об этом. Эта рыба вырабатывает электричество, как электрическая машина, где надо крутить стеклянную круглую пластину между двумя шерстяными прокладками. Ну вот, если дотронешься до этой пластины пальцем, то тебя сильно ударит током. А этот угорь тоже может ударить разрядом тока, как будто у него в голове электрическая машина. Скажи, папа, я же прав?
– В целом да, сынок. Твое объяснение и верно, и весьма уместно. Оно, правда, не совсем полное, но пока что этого достаточно. У нас еще будет возможность как следует изучить это необычное животное. Только помните, что трогать его очень опасно. Электрический разряд для угря – такое же средство защиты и нападения, как ядовитые зубы у змей. Поэтому будьте осторожны и никогда не прикасайтесь ни к животным, ни к насекомым, если меня нет рядом.
– Угорь-трясучка такой вкусный, когда копченая, – сказал в свою очередь Казимир.
– Да, так и есть. Я и забыл о том, что всю эту рыбу надо закоптить. К счастью, Ангоссо не тратит время на болтовню, а занят делом.
– Он готовит нам поесть, – вступила в разговор мадам Робен, – а мы даже не можем ему помочь. Как бесполезна наша цивилизованность по сравнению с их так называемой дикостью.
– Но мы встретились совсем недавно! А теперь нам известно, как опьянить ручей. Совсем скоро мы научимся коптить, и не только рыбу, но и любое другое животное, пригодное в пищу. Посмотрите, ловкость этого бони и впрямь удивительна. Он просто несравненный дровосек!
Ангоссо старался изо всех сил, буквально за четверых. Славный малый знал, что белые очень голодны, что рези в желудке, на некоторое время усмиренные «яичными желтками» и молоком балаты, вскоре возобновятся с удвоенной силой.
Сначала он вбил в землю четыре колышка с рогатинами на концах, возвышающиеся над землей примерно на пятьдесят сантиметров, и соединил их жердями, чтобы получился идеальный квадрат со стороной в четыре метра. Затем он уложил на жерди штук двадцать – двадцать пять прутьев одинаковой длины и получил гриль легкой конструкции – местные называют его «букане» – весьма впечатляющих размеров.
Под параллельными прутьями бони разложил листья и мелкие ветки. Далее он стал укладывать на решетку мертвую рыбу, одну за другой. Мать с детьми хотели было помочь ему в этом несложном деле, но тот отказался, и не без причины. С такой добычей нужно обращаться с осторожностью. Вот он ловко увернулся от огромных челюстей агонизирующей аймары, искусным ударом тупой стороны клинка отделил ядовитый шип ската и отсек голову угря-трясучки.
Букане был готов. Негр зажег под ним охапку листьев и сырых веток, из которой повалил густой дым. Меньше чем через полчаса две других коптильни таких же размеров дымили, как угольные печки, а воздух наполнился очень аппетитными ароматами, исходившими от этих примитивных и удобных устройств.
Но это было еще не все. К копчению, как известно, прибегают с целью сохранения продукта с помощью его высушивания и пропитывания дымом. Мясо должно не вариться или жариться, а просто сушиться. Таким образом, эта операция не только длительна, но и трудоемка и требует не менее двенадцати часов неустанных хлопот. Огонь не должен быть слишком жарким, но вместе с тем нельзя, чтобы он погас. Угли должны быть не слишком далеко и не слишком близко от мяса. Словом, к коптильщику можно отнести слова о жарильщиках, сказанные кем-то из наших гастрономов, не исключено, что самим Гримо де Ла Реньером:
Поваром становятся, жарильщиком рождаются.
И уж конечно, надо быть прирожденным коптильщиком, чтобы целая груда рыбы не сгорела безвозвратно. Ангоссо, внимательно следя за всеми тремя коптильнями, устроил еще и небольшую жаровню, на которой потрескивала на углях превосходная аймара в компании двух дюжин атип и впечатляющего ската-хвостокола.

Первый обед семьи гвианских робинзонов стал пиром ихтиофагов, к тому же на нем не хватало хлеба и соли. И тем не менее он прошел довольно весело, несмотря на жалобы Николя, или, вернее, благодаря им, потому как весь день, во время всей этой череды удивительных и непредвиденных событий, парижанин хранил несвойственное для него молчание.
Николя хотел хлеба. Тем более что ему казалось вполне возможным найти на деревьях солдатский хлеб или хотя бы сухари, раз уж из одного из них течет молоко, а на другом растут яичные желтки. И, кроме того, если юный Анри вычитал в книгах описание электрического угря, то он, Николя, прекрасно наслышан о хлебном дереве. Им питались все, кто потерпел кораблекрушение. Так уж заведено. Все робинзоны выживали благодаря плодам хлебного дерева, и он бы хотел, раз уж теперь он стал гвианским робинзоном, добавить в свой рацион пищу, привычную для его коллег и предшественников. Николя не переставал настаивать на этом, к пущей радости своих друзей, больших и маленьких, которые считали, что рыба – отличная еда, особенно когда ты очень голоден.
– Простите, мой бедный Николя, это прискорбно, но я вижу, что ваши представления о том, что растет в американских тропиках, несколько ошибочны. Вы вообразили себе, что хлебное дерево, которое натуралисты окрестили artocarpus incisa, – впрочем, вам сейчас это неинтересно – растет здесь повсюду в диком состоянии. Не заблуждайтесь, друг мой. Это дерево родом из Океании. Да, его завезли на Антильские острова и в Гвиану, но его нужно разводить, по крайней мере посадить для начала. Если его и можно иногда встретить в лесах, то лишь там, где прежде когда-то были плантации.
– То есть нам придется обходиться без хлеба до… пока не станет еще голоднее?
– Успокойтесь, совсем скоро у нас будет маниок, и тогда вы узнаете, что такое кассава и тапиока.
– О, я волнуюсь не за себя, я лишь переживаю за детей и мадам Робен.
– Я не сомневаюсь в этом, друг мой, я отлично знаю ваше доброе сердце. Пока что нам в основном придется жить на рыбе. Для местных жителей это обычное дело. Но прежде, чем наши запасы закончатся, я думаю, нам удастся обеспечить наше будущее существование.
Внезапно солнце погасло. Опушка леса, где расположились наши робинзоны, освещалась лишь багровыми углями коптилен, на которых готовилась рыба. Это были лишь светящиеся точки, затерянные в бесконечности, похожие на неподвижных светлячков.
До сего момента изгнанники, всецело поглощенные тем, чтобы ускользнуть от бесчисленных опасностей и утолить чувство голода, едва могли улучить момент, чтобы обменяться несколькими словами. Человека трудно удивить, когда он до такой степени несчастен, что потерял всякую надежду, когда ему угрожает неминуемая гибель, когда ему беспрерывно приходится бороться за свое существование. Самые невероятные события, счастливые или несчастные, оставляют его безучастным, и даже самые фантастические происшествия становятся для него всего лишь обыденностью.
Так произошло и с Робеном. Он так часто мечтал о свободе. Он так давно лелеял заветную мечту о воссоединении с родными, что теперь, наслаждаясь невиданным счастьем, описать которое невозможно никакими громкими словами, беглец испытывал лишь некоторое удивление. Его самая горячая мечта обрела физическую форму, его самое страстное желание осуществилось, неизвестно почему и каким образом. И тем не менее он едва ли хотел об этом узнать, настолько его душа была переполнена.
Дети уже спали. Анри и Эдмон заняли гамак бони. Десяти минут на солнце хватило, чтобы высушить это ложе, превращенное по мановению руки его владельца в рыболовную сеть. Мадам Робен, сидя рядом с мужем, держала на коленях спящего Шарля-младшего. Робен с нежностью смотрел на Эжена, который уснул, не переставая обнимать отцовскую шею.
Муж рассказывал жене о своем побеге. Несмотря на всю свою стойкость, эта отважная женщина вздрагивала всякий раз, когда он говорил о преодоленных преградах и перенесенных тяготах. В свою очередь она поведала ему о невзгодах нищей жизни в Париже, упомянула эпизод с загадочным письмом, спешные и тайные хлопоты, о которых, впрочем, позаботились совершенно неизвестные люди, поездку в Голландию, плавание через Атлантический океан, прибытие в Суринам и подчеркнуто уважительное отношение голландского капитана, который так хорошо говорил по-французски.
Робен слушал ее взволнованно и вместе с тем заинтересованно. Кем могли быть эти благодетели? К чему столько предосторожностей? Почему они держали в тайне эту неоценимую услугу, будто это был какой-то недостойный поступок? Мадам Робен по-прежнему не могла найти всему этому сколько-нибудь приемлемое объяснение. Письмо от парижского поверенного все еще было у нее при себе, но почерк, которым оно было написано, не прояснил ничего.
Инженер предположил, разумеется, не без некоторых оснований, что изгнанники, которым удалось избежать суда смешанных комиссий, посвятили свое время и ресурсы тому, чтобы облегчить участь собратьев, томящихся в оковах каторги. Один из них, весьма известный А. Б., смог найти убежище в Гааге; возможно, он как-то причастен к побегу Робена. Что касается капитана тендера, то его атлетическое телосложение, учтивость и доброта безошибочно указывали на беглеца, известного как С., офицера французского военно-морского флота, которому удалось покинуть Париж при самых драматических обстоятельствах. С. сумел устроиться в голландский торговый флот. Можно было не сомневаться, что он нарочно определился на судно, курсирующее вдоль побережья Гвианы, не упуская любую возможность прийти на помощь своим политическим единомышленникам.
Эта гипотеза казалась наиболее вероятной по сравнению с прочими. Супруги без труда ее приняли, не переставая благословлять творцов своего счастья, кем бы они ни были. Нежная беседа двух любящих сердец продолжалась, оба напрочь забыли о времени. Дети мирно спали, бони продолжал следить за коптильнями, время от времени отправляясь нарубить новых веток, чтобы в нужный момент подбросить их в угасающий костер.
Этот человек был словно вытесан из железного дерева. Казалось, что ни одно из событий прошедшего дня не оставило на нем ни малейшего отпечатка: ни усталость, ни поиски опьяняющего дерева, ни гребля, ни сооружение шалашей и коптилен, ни сама рыбная ловля. Не оставляя без внимания коптящуюся рыбу, он беспрестанно оглядывал темные своды деревьев вокруг поляны, подсвеченные раскаленными углями. Его явно что-то тревожило.
Внезапно глухой рык, подкрепленный мощным дыханием, заставил его вскочить. Этот звук походил на кошачье мурлыканье, только в сто раз более громкое. Затем в травах на краю опушки появились две светящиеся точки да так и застыли в направлении коптилен.
Робен вполголоса спросил у бони, в чем дело, и выяснил, что эти точки – горящие глаза ягуара, очевидно изголодавшегося, которого явно привлек запах копченой рыбы. Впрочем, хищник не проявлял никакой агрессии и нападать не собирался. Если судить по его мурлыканью, то можно было подумать, что он настроен вполне дружелюбно. Но все же это соседство встревожило Робена. Он схватил ружье бони и приготовился послать заряд свинца в нежданного гостя.
– О нет, муше, не надо стреляй, – тихонько сказал ему Ангоссо. – Ружье стреляй, детки просыпайся. Я давай шутить с эта тигр.
У чернокожего был при себе солидный запас кайеннского перца, которым приправляют, за неимением соли, экваториальные рагу. Мельчайшего кусочка достаточно, чтобы придать обеду острый, жгучий вкус, к которому быстро привыкают.
И, ухмыляясь во весь рот при мысли о проделке, которую он задумал, Ангоссо взял большую рыбину, уже основательно прокопченную, сделал в ней несколько надрезов и нафаршировал ее полудюжиной стручков красного перца. Затем он с размаху швырнул ее в ту сторону, где, как большой трусливый кот, сидел изголодавшийся ягуар.
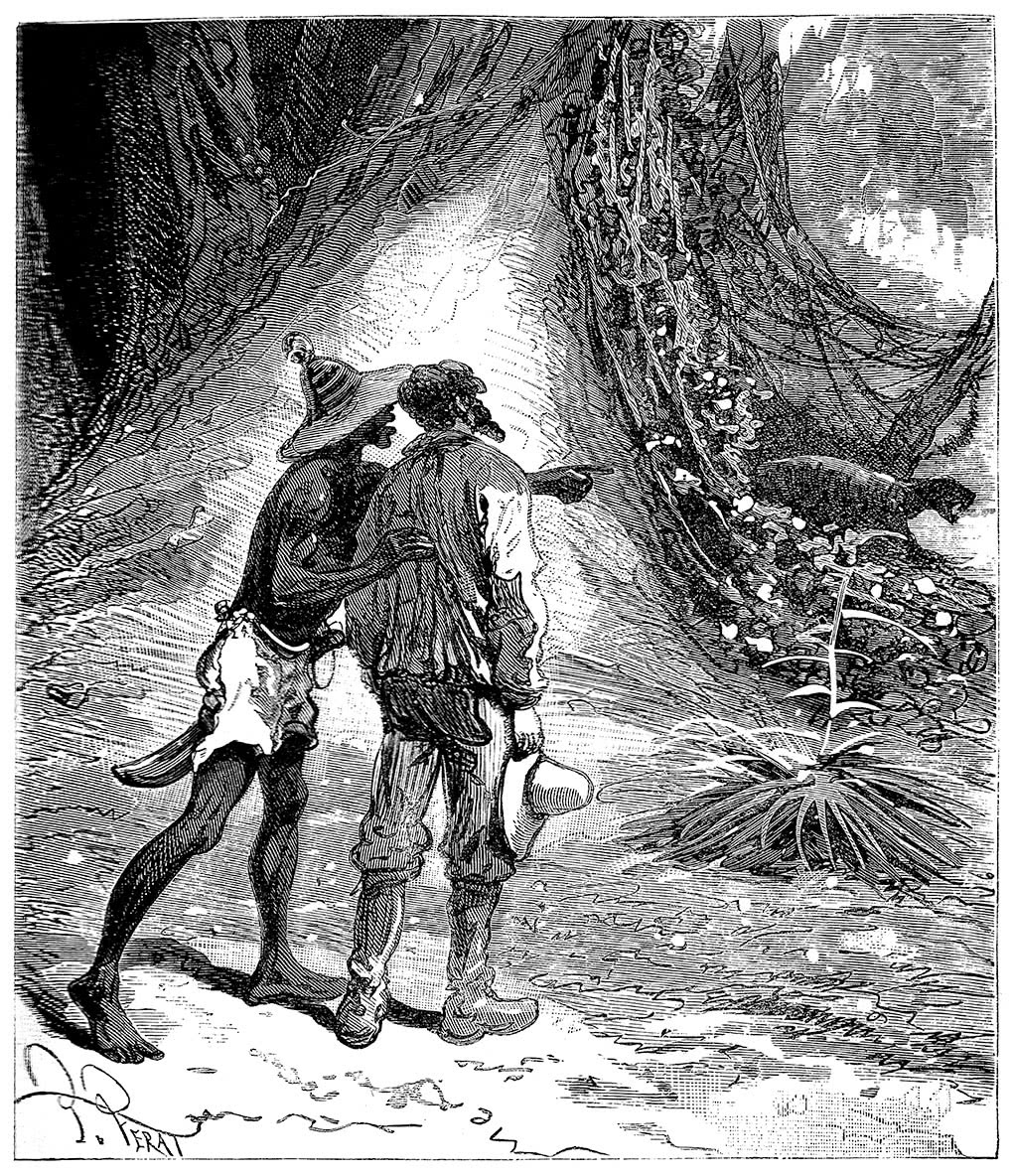
– Давай, злая тигр, кушай! – сказал он, хохоча во все горло.
Робен все еще подумывал выстрелить, но если он только ранит тигра? Что станет с его детьми, если разъяренный зверь бросится на них? К тому же, едва набитая перцем рыба коснулась земли, ягуар сгреб ее одним движением лапы с острыми когтями и тотчас исчез. Он, вероятно, справился с ней одним укусом, хотя та и весила не меньше двух килограммов.
Меньше чем через четверть часа откуда-то со стороны ручья, ниже по течению, раздалось рычание. Бони буквально корчился от смеха, притом что бывший каторжник, не знавший, что рыбина была с сюрпризом, решительно не понимал причины его восторга.
Робен осведомился о том, что его так рассмешило, и товарищ немедленно все ему выложил:
– Тигр люби кушай, совсем как индеец. Он хватай рыбу с перец, перец жги кишки. Кишки тигра стать сухой и горячий, как железо белых на солнце. Тигр пей чуток воды из ручья.
– И что, теперь он станет пьяным, как рыба?
– Нет, нику делай пьяный только рыба. Если его пей человек или зверь, кишки шибко болей. Слушай, он шибко злая.
Ягуар в самом деле плохо себя чувствовал. Он испускал жалобные крики, громко дышал, пищал и ворчал, как больной кот. Затем, видимо отчаявшись погасить спасительной водой вулкан, пылавший в его внутренностях, он пустился наутек под треск ломавшихся веток.
В лагере робинзонов вновь воцарилось спокойствие.
Глава VII
Звонкая монета в ходу и на экваторе. – Проблема решена за двадцать франков. – Как меченые су становятся столбиками, а те превращаются в пятифранковые монеты. – Смертельно опасные красоты. – Дочери лихорадки и миазмов. – Водопад Игуаны. – Рискованный маневр. – Лучший лодочник в мире. – Пороги и перекаты. – Заброшенная вырубка. – Изобилие после голода. – Кокосовая заводь. – География робинзонов. – Жилище «Добрая Матушка». – Архитектура, неизвестная в Европе. – Ловушки. – Через лес. – Дом без мебели. – Круглая посуда. – Растительные горшки. – Николя с изумлением узнает о масляном дереве, свечном дереве, адвокатском дереве и сырном дереве. – Обмен подарками. – Прощание с бони.

Теперь существование робинзонов было обеспечено на много дней вперед с условием почти исключительного соблюдения рыбной диеты. «Ну что же, попостимся», – сострил Николя, проснувшись.
И хотя теперь они могли чувствовать себя в безопасности, было решено устроить совет немедленно, чтобы не терять времени.
Нечего было и думать о том, чтобы подняться вверх по течению Марони и пробраться вглубь Гвианы. Не то чтобы путешественникам стоило всерьез остерегаться негров бони и индейцев, но появление компании европейцев в этих краях непременно станет сенсацией, и новость об этом немедленно разлетится повсюду и достигнет, пусть и ненамеренно, исправительной колонии. Такая неосторожность могла бы стоить Робену свободы, столь нелегко добытой. Поэтому надо было продолжать углубляться в лес. Ручей, похоже, тек с востока, так что проще всего было двигаться в том же направлении по водной дороге, делая остановки на берегу, по возможности на открытых местах, на возвышенностях и подальше от болот. А там, как говорят моряки, придется как-то выгребать, чтобы наладить жизнь для всех.
К несчастью, им предстояло лишиться своего самого главного помощника. Ангоссо выполнил все, что обещал. Он заговорил о том, что ему пора возвращаться в родную деревню, а поскольку пирога принадлежала ему, его отъезд был для наших друзей равносилен настоящей катастрофе. Нужно было убедить его пойти с ними и дальше, но это представлялось трудной задачей.
Наши бедные робинзоны, лишенные буквально всего, ничем не могли заинтересовать туземца. Тем более что в фактории Альбина он выменял целый комплект дешевых ножей, бус, разных блестящих побрякушек и разноцветных хлопчатобумажных тканей и чувствовал себя настоящим капиталистом, мечтая только о том, как он продемонстрирует все это богатство соплеменникам.
Ангоссо мягко, но непреклонно отклонял все уговоры, и Робену не без досады пришлось признать, что сломить его сопротивление, скорее всего, не удастся. Но вдруг совершенно неожиданно ситуацию спас Николя. Он не понимал ни слова из того, что говорил лесной негр, но по выражению лица своего патрона определил, что дела идут неважно.
– Что-то вы долго разговариваете, – сказал он, перебивая бони. – Послушай, ты хороший парень. Я тоже неплохой. А хорошие люди всегда могут договориться.
Ангоссо, невозмутимый, как идол, вырезанный из черного дерева, слушал его внимательно и тоже ничего не понимая.
– Будь мы в Париже, я бы в крайнем случае мог расплатиться векселем, но здесь этот номер не пройдет, поскольку, сдается мне, на Марони не часто встретишь индоссанта. Но если бы ты согласился принять плату наличными… Честное слово, я заплачу за твои услуги да еще прибавлю на чай…
– Николя, у вас что, есть деньги? – вмешался Робен.
– Право слово, да, несколько старых монет в сто су, которые завалялись в карманах… Гляди-ка, господин дикарь, – обратился он к бони, показывая ему пятифранковую монету, – знаешь такие медальки?
– О, муше, – просиял Ангоссо, вытаращив глаза, раздув ноздри и разинув рот. – Это столбик!
– Ну и ну, этот наивный сын природы знает, что такое серебро. Тем лучше. Он называет монету столбиком. Что ж, у нас на уличном жаргоне их называют задними колесами или даже бычьим глазом. Да, почтенный лодочник, вот один, два, три и даже четыре кругляша… Целое состояние в обмен на твою шаланду и твои услуги. Договорились?
– Муше, – сказал Казимир. – Твоя меченый су. Давай бони два столбики, он соглашайся.
– Помогите мне, патрон, вы же знаете язык этих островитян, объясните мне, пожалуйста, что означают их столбики и меченые су?
– Это очень просто. Денежная единица Гвианы – десим, но это не та большая монета в десять сантимов, которая в ходу в Европе, а старый французский медный лиар, который решили приравнять к двум су. Его и называют меченым су, потому что на старой монете сделали новую чеканку. Эти монеты обычно складывают в столбики по пятьдесят штук, как луидоры, поэтому Ангоссо и назвал ваш пятифранковик столбиком.
– Давай моя столбики, – сказал наконец бони, – я пойди.
– Ну конечно, дружище, я с радостью тебе их отдам. Только давай договоримся. Два ты получишь прямо сейчас, а два остальных – когда мы доберемся до места. Вот как я веду дела. Ну что, по рукам?
Робен перевел негру предложение Николя. Бони, конечно, хотел получить все четыре столбика авансом, но парижанин был непреклонен:
– Друг мой, когда я беру фиакр, то расплачиваюсь после поездки, а не до нее. И только так.
Ангоссо еще немного поторговался, поспорил для виду и согласился. Получив монеты, он радовался как ребенок, позвенел ими, покрутил, внимательно осмотрел и в конце концов увязал их где-то под своей набедренной повязкой – калимбе.
– Неглупо, приятель, – одобрил Николя, подводя итог. – Он использует купальный костюм в качестве бумажника.
Будем справедливы и отдадим должное Ангоссо: как только дело решилось, он немедленно приступил к выполнению своих обязанностей. Он быстро завернул всю рыбу в большие листья и уложил ее в середине лодки, затем накрыл этот импровизированный камбуз ветками, свернул свой гамак, взял в руки весло и устроился на задней скамье, беспрестанно проверяя узелок, где хранилось его сокровище.
– Можно уплывай? – спросил он.
– В путь, – ответил Робен, поудобнее устроив в пироге жену и детей.
Увы, имущество этого большого семейства было практически ничтожным, перечислять тут почти что нечего. В отличие от их собрата и предшественника, легендарного Робинзона Крузо, у них в распоряжении не было севшего на рифы судна, в котором бы оказались жизненно необходимые вещи. Корабль – это целый мир, где есть все. Содержимое его трюма – настоящая удача для потерпевших кораблекрушение.
Как ужасно по сравнению с последними положение тех, кто нуждается в самых элементарных вещах и оказывается куда беззащитнее людей доисторических времен, обладавших хотя бы примитивными орудиями и утварью. Не будем забывать, что из восьми беглецов четверо были совсем маленькими детьми. А еще – женщина и калека, бедный старый негр. На первое время у них была кое-какая одежда и немного белья, два мачете, топорик и мотыга без ручки – жалкие обломки, уцелевшие после пожара в хижине, да двуствольное ружье, подарок голландского капитана. Что до боеприпасов, то они свелись к двум килограммам пороха, что должно хватить примерно на четыреста зарядов, и небольшому количеству дроби.
Все придется делать самим, изобретать и справляться своими руками. Робен был полон надежд. А Николя и вовсе ни в чем не сомневался. Хотя в действительности ситуация оставляла желать лучшего.
Лодка резво скользила по спокойной воде ручья, который вился меж зеленых стен, как по дну пропасти. Время от времени вокруг вспархивали птицы: крупный тропический зимородок величиной с голубя бросился прочь с резким прерывистым криком; колибри, охотясь за насекомыми, жужжали, сверкая, как солнечные зайчики; птицы-дьяволы, крикливые и фамильярные, как сороки, но черные, как дрозды, летали вокруг с громким щебетанием. Вот большой пучок разноцветных перьев тяжело пролетел над прогалиной, испуская оглушительные крики: «Ара… Ара… Арра!» Полагаем, что нет необходимости приводить название этой птицы. Одинокая выпь в зарослях тянула свои четыре ноты – до, ми, соль, до – с невероятной верностью октаве. Кассик оглашал берега ручья жизнерадостной песней. Пересмешник разражался приступами саркастического хохота. Макаки и сапажу корчили рожи, уцепившись хвостами за ветви. И все это под сверлящие, скрипящие, пронзительные звуки, которые извлекали из своих надкрыльев миллионы цикад, кузнечиков, сверчков и саранчи.
Справа и слева расстилались все чудеса тропической флоры. Здесь было много света, достаточно воздуха и сколько угодно самых разных цветов. На фоне длинных и широких листьев барлуру, стебли которого покрывали берега, в глаза бросались восхитительные цветки геликонии с чередующимися лепестками, отливающими пурпуром; великолепная pachira aquatica, или дикое какао, названная так из-за сходства ее плодов с плодами культурного какао, возвышалась над здешней чуть солоноватой водой. Путешественники не могли налюбоваться восхитительными цветами со множеством тычинок тридцати и более сантиметров в длину, бархатистых, шелковистых, тонких, с легчайшим пушком, образующих султаны цвета серебра и коралла. А эти колоссы, как, например, вапа с красными цветами, собранными в метелки, пылающие, как плюмажи на шлеме кирасира; зеленый эбен, покрытый золотыми лепестками, скрывающими листья, как волосы баядерки прячутся под блестящими цехинами; кайеннский гваяк с ароматными бобами, минкуар с ажурным стволом, похожим на переплетение звеньев цепи, исикье с бальзамическими выделениями, куратари (couratari guyanensis) с изящно округленной кроной и крупными серебристыми цветами, окаймленными пурпуром, растущими целыми гроздьями, с деревянистыми плодами довольно странной формы, которая напоминает большой гвоздь, отсюда их народное название – гвоздь Иисуса Христа. Панакоко с гигантскими «аркабами», гвианские кедры, акажу, сассафрас, симаруба, гриньон, вакапу, розовое дерево, фиолетовое дерево, карапа, купи, курбариль, генипа, мао, боко, анжелик, буквенное дерево, сатиновое дерево, баго, мутуши, мария-конго, канари-макак и так далее и тому подобное… И кто знает, что еще!
Все эти великолепные растения, теснясь на земле, переплетались кронами, их опутали лианы и покрыли растения-паразиты. Казалось, они гнулись под весом захватившей их посторонней растительности. Орхидеи, бромелиевые и ароидные, цепляясь за ветви, карабкаясь по стволам, заполняя трещины коры, демонстрировали фантастические оттенки своей неисчерпаемой палитры. Ниспадающие пучки кориантесов, фиолетовые с голубыми оттенками цветки жинопеталонов, мелеагрия оплетали древесные стволы изящными обручами стеблей, развесив до самых корней цветы на длинных цветоножках, похожие на бесконечные хвосты райских птиц.
А еще гонгоры, стангопеи, брассии, максиллярии, брассаволы, соперничающие между собой в красоте, блеске и свежести. И бромелия каратас с листьями длиной более двух метров и длинными шипами в виде крючков, настоящими рогатками, висящими в воздухе, барбацения с разноцветными цветами, похожими на фейерверк, тилландсия с шипами, увенчанными красивыми розовыми прицветниками…
Беглый каторжник едва успевал называть очарованным и заинтересованным детям имена всех этих несравненных чудес природы. Каждую минуту он порывался сойти на берег и сорвать несколько цветов, но Казимир и Ангоссо были явно другого мнения. Налегая на весла, они гребли что есть силы, словно стремились оказаться как можно дальше от этого чарующего зрелища. Никакие вопросы и просьбы на них не действовали.
– Надо уходи, – проворчал Ангоссо, от кожи которого шел пар, как от печки.
– Уходи быстро, как кариаку, – подхватил прокаженный.
– Но что случилось? Почему? Мы что, в опасности? Говори же, старина!
– Ай, компе! Болей лихорадка, если не уходи. Это злая место. Здесь все умирай.
Робен содрогнулся. Ему было хорошо известно, что в некоторых местностях болотные испарения таковы, что довольно провести в них несколько часов, чтобы получить приступ злокачественной лихорадки.
Он вдруг действительно почувствовал, что вдыхает неимоверно удушливый, тошнотворный и сладковатый запах разлагающейся растительности. Тяжелый воздух, незнакомый со свежим бризом, был наполнен невидимыми испарениями прибрежного ила, атмосферой, где гибнут люди, но цветы блаженствуют. Эти гнилые земли, сочащиеся одновременно жуткими миазмами и чудесными ароматами, несли только смерть.
Пирога летела по сгустившейся воде, почти стоячей, как в битумном озере, к тому же насыщенной незаметными для человеческого глаза, неощутимыми частицами распада растений.
Как красноречиво выразился великолепный Мишле[10], нерешительность путешественника, вступающего под сень тропического леса, справедлива и закономерна, ведь именно здесь безжалостная природа ведет свой самый жестокий бой, принимая порой самые прекрасные формы.
Опасность, возможно, наиболее велика в девственных лесах, где все просто кричит о жизни, где вечно бурлит беспокойное горнило природы.
Их живой сумрак становится все гуще под тройным сводом растительности – кронами гигантских деревьев, переплетением лиан и высокими травами с великолепными широкими листьями. Местами эти травы утопают в древнем первобытном иле, в то время как ста футами выше, над великой тьмой, гордые прекрасные цветы ярко озарены палящим солнцем.
На полянах, в узких просветах, куда проникают его лучи, все переливается, мерцает и вечно жужжит: жуки, бабочки, птицы-мухи, они же колибри, словно ожившие драгоценные камни, создают беспокойную толчею. А по ночам здесь происходит нечто еще более удивительное, когда на арену выходят миллиарды миллионов светящихся мошек и начинается сказочная иллюминация с фантастическими арабесками, невероятными световыми эффектами и невообразимыми огненными узорами.
Но ниже, под всем этим великолепием, копошится темный народец, это мрачный мирок кайманов и водяных змей. Со стволов огромных деревьев свисают и даже, кажется, взлетают фантастические орхидеи, любимые дочери лихорадки, порождения нездорового воздуха, причудливые мотыльки растительного царства. В этом смертоносном безлюдье они словно наслаждаются, купаясь в миазмах гниения, пьют смерть, которая становится источником их жизни, и воплощают опьянение природы своими прихотливыми и невиданными красками.
Не поддавайтесь, защищайтесь, не позволяйте этим чарам завладеть вашей отяжелевшей головой. Подъем! Подъем! Опасность окружает вас в тысяче разных обличий. Под этими цветами таится желтая лихорадка с ее черной рвотой; у ваших ног кишат самые отвратительные рептилии. Если поддаться усталости, на вас мгновенно обрушится безмолвная армия неумолимых анатомов и миллионами ланцетов превратит вашу плоть в восхитительное кружево, марлю, пар, ничто…
Путешественники прибавили ходу. Нужно было любой ценой вырваться из этой болотистой местности до наступления ночи. Здесь было практически невозможно пристать к берегу и проложить дорогу сквозь заросли. От вязких и влажных почв, способных поглотить целый лагерь, по вечерам поднимался густой туман, смертельные испарения которого известны как «саван для европейцев».
Они смогли избежать встречи с людьми, теперь нужно было поскорее ускользнуть от миазмов. Как долго и мучительно тянется время в душном пространстве раскалившихся зеленых стен, на реке, которая почти что кипит, под небом, выжженным почти добела солнцем экватора. Рот пересыхает, как пергамент, в горле печет, легкие больше не могут вдыхать раскаленный воздух; начинается болезненная одышка, в ушах звенит, в глазах темнеет. Даже несмотря на полнейшую неподвижность, человек обливается невообразимым количеством пота. Он обволакивает все тело, потоком течет со лба в глаза, в рот, по позвоночнику, рукам и ногам, пропитывает одежду и падает каплями, которые тут же испаряются.
Даже самый опытный человек может лишь бессильно присутствовать при этом уничтожении, буквально испарении своего организма. Он чувствует, как его силы убывают. Все его существо просто тает на глазах. Черты лица заостряются, кожа становится бледной, уши желтеют, анемия наступает молниеносно. Попади он в эту минуту в невидимое облако спор, несущих лихорадку, он бы неминуемо стал для нее самой легкой добычей!
Но робинзоны, большие и маленькие, стойко переносили это испытание. Нет нужды говорить, что Ангоссо и Казимир, пользуясь особенным иммунитетом своей расы, явно не замечали жары; они продолжали делать дело в этой парильне, словно две саламандры в человеческом облике. Робену же пришлось бросить весло, несмотря на всю его силу. К счастью, внезапный проливной дождь немного освежил воздух, и дышать стало гораздо легче, ко всеобщему удовольствию.
Речушка по-прежнему текла с востока на запад. Характер местности менялся, как и тип растительности. Плоские, пологие берега, поросшие водными растениями, сменялись глинистыми почвами, железистыми песчаниками, гравиями, кое-где рассеченными скалами. Здесь воды ручья окрасились в ярко-красный цвет, благодаря присутствию в почве оксида железа. Из расщелин скал поднимались прямые, жесткие и длинные четырехугольные стебли кактусовидного молочая, ощетинившиеся шипами, и огромные веера агав с зеленовато-желтыми цветами, растущих из охапки широких, толстых, мясистых листьев длиной более двух метров, заостренных на концах, как копья. Рядом причудливо возвышались овальные плоские сегменты кактусов нопаль, в просторечии ракеток, покрытых сочными плодами, известными как берберский инжир или кактусовая груша. Несколько гигантских игуан с изумрудно-зелеными боками, разинув пасти, застыли в неподвижности на скалах, хмуро глядя на экипаж плывущей мимо пироги.
Ангоссо перестал грести, схватил лук, раздался резкий свист, и одна из этих безобидных ящериц повалилась набок, пронзенная тройным наконечником длинной стрелы из стебля особого тростника, который по-креольски так и называют – тростник-стрела.
Меткий выстрел ловкого охотника окончательно развеял болотную хмурь. Все вдруг оживились. Дети захлопали в ладоши, а Николя крикнул «браво!».
– Вот это я называю выстрелом! Лихо! И до чего же мерзкая зверюга!
– С виду да, но зато очень вкусная.
– Папа, – спросил Анри, – а разве крокодилов можно есть?
– Это не крокодил, сынок, это игуана – безобидная большая ящерица с очень вкусным мясом. Сегодня вечером мы устроим настоящий пир, так, Ангоссо?
– Да, муше, – ответил лесной негр, ловко выпрыгнув на скалу. – Эта зверь на угли очень вкусная.
– А что ты скажешь, если мы сделаем здесь привал?
– О, муше, ходи чуток сюда, – сказал тот, не ответив на вопрос.
Робен в свою очередь поднялся на скалу и посмотрел по сторонам. Речка здесь делала резкий поворот почти под прямым углом, и ее верховья терялись где-то на юге. С этой точки, возвышавшейся на несколько метров над поверхностью воды, беглец заметил за небольшим заливчиком, образованным изгибом течения, голубоватый холм на приличном расстоянии от них. Он прислушался, и ему показалось, что он различает отдаленный шум водопада.
– О, это было бы слишком хорошо! Я видел гору – ее вершина недоступна болотным испарениям, ее овевает свежий ветер, а у подножия бежит поток. Дети мои, мы спасены! Не пройдет и двух дней, как с нашими мучениями будет покончено.
Ручей снова стал шире, образуя озеро, более вытянутое по сравнению с тем, где была устроена чудесная рыбалка. Длинная полоса скал пересекала его по косой. Волны ручья с глухим шумом разбивались об острые уступы и перекатывались по черным валунам, неустанно омывая их. То тут, то там виднелись большие темные скопления камней, покрытые пеной, поросшие мхом и скользкими водорослями.
Эта полоса скал возвышалась непреодолимой стеной, не менее трехсот метров в ширину при средней высоте около четырех метров. По обе стороны от нее, на сколько хватало глаз, простирались припри, или затопленные саванны, илистые и бездонные, поросшие гигантскими травами, с подернутыми рябью водами, населенными водяными змеями, кайманами и электрическими угрями.
Любое сообщение между верховьями и низовьями ручья не представлялось возможным. Не важно, стена или водопад, но препятствие было непреодолимым, кроме разве что единственного места, небольшой бреши шириной не более одного метра, куда с неудержимой яростью устремлялась вода.
– Если бы нам удалось преодолеть эту преграду, мы были бы избавлены от любых нежданных гостей, – сказал Робен, внимательно осмотрев диспозицию и немного подумав. – Но сможем ли мы здесь пройти?
– Мы пройти шибко легко, – уверенно ответил бони. – Ангоссо пройти везде.
– Но как ты это сделаешь?
– Моя знай как. Муше пройти, мадам пройти, тот белый муше, – он указал на Николя, – и детки, и старый кокобе, все пройти. Я знай, что говори.
И чтобы операция выглядела максимально значительно, он потребовал тишины. Все замолчали. Такая авантюра выглядела действительно опасной. Возможно, среди всех жителей Марони Ангоссо был единственным, кто мог бы успешно осуществить такой маневр. Пирогу подвели поближе к водопаду, затем Робен, Николя и Казимир уцепились за выступы скал, чтобы удерживать ее у подножия гряды.
Ангоссо, не говоря ни слова, обмотал свой гамак вокруг тела и начал медленно карабкаться по скале с такой силой и ловкостью, что ему позавидовал бы любой гимнаст. Цепляясь за выступы и корни ногами, руками, ногтями, он добрался до вершины утеса после пятнадцати минут нечеловеческих усилий.
Не теряя ни минуты и даже не вытерев кровь, проступившую из царапин и ссадин на его теле и конечностях, он развернул гамак, почерневший от сока мани, закрепил на гребне скалы его длинные и прочные петли и сбросил полотно вниз.
– Давай лезай, – сказал он Николя, показывая на тяжелое и частое переплетение хлопковых веревок, чем-то напоминающее гигантскую пращу.
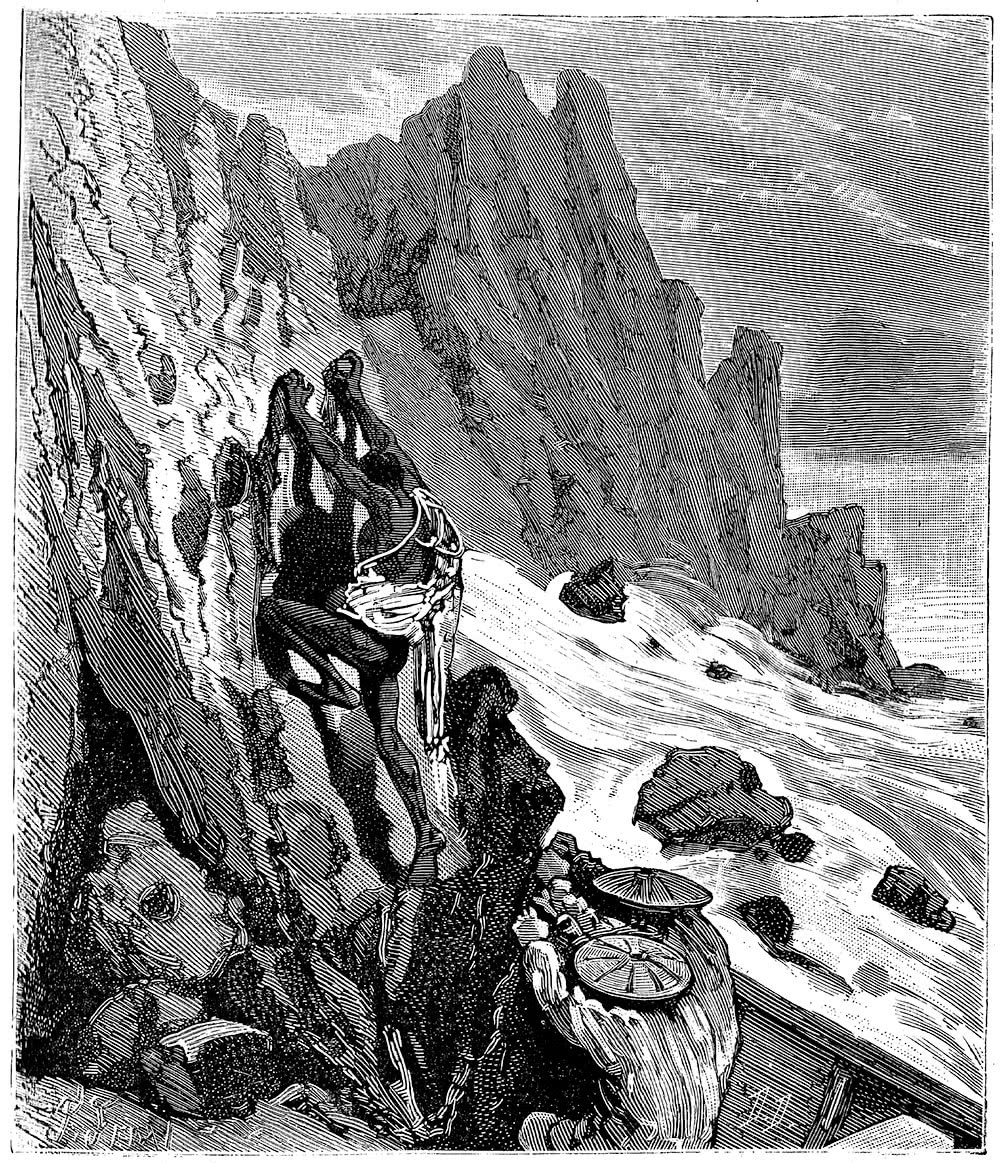
– Ага, значит, мне первому выпала честь испытать твое устройство, – ответил парижанин. – Ну что ж, годится. Раз и два, тихо-спокойно…
Он даже не успел закончить мысль и, к великому изумлению лесного негра, в три приема с ловкостью четверорукого взобрался на вершину скалы.
– Мы такие, – сказал он не без гордости, выпятив грудь. – С веревкой за два су мы бы и на башню Нотр-Дама забрались. Ваша очередь, патрон!
– Нет, белый тигр теперь не можно. Давай на гамак мадам. Вот так, шибко хорошо…
Двое мужчин, объединив усилия, аккуратно подняли мадам Робен, и через полминуты она уже была на утесе. Потом тем же манером по очереди подняли мальчиков. Робен пока не мог последовать за ними. Он с Казимиром с огромным трудом удерживал у скал тяжело груженную лодку, которую каждую минуту могло снести течением. Ангоссо наконец спустился, занял его место в передней части лодки и попросил Робена подняться к остальным, а затем втащить наверх старика.
Теперь они все оказались на тесной площадке, окруженные бешено гремящей водой, с тревогой наблюдая за действиями бони. Он же, держась одной рукой за борт пироги, ухватившись другой за какой-то корень, боролся с течением.
– Бросай моя веревка от гамак, – крикнул Ангоссо.
Робен понял, что ему нужно, вытянул из гамака две веревки с петлями, связал их в одну, бросил негру один конец, а другой крепко ухватил руками и подозвал Николя:
– Держи крепче, Николя, дело жизни и смерти!
– Не переживайте, патрон, мне скорее руки оторвет, чем я выпущу веревку.
Ангоссо мгновенно закрепил свой конец на лодке и повел хрупкую скорлупку в узкую протоку. Белые мужчины, стоя на самом краю обрыва, слегка подались назад, в то время как туземец, совершенно бесстрастный, погрузил свой шест-такари в бурлящие воды, грозившие поглотить его в любой момент. Одно неверное движение, колебание в долю секунды – и все было бы кончено. Веревка, натянутая до предела, трещала… Бони осознавал, как это опасно. Но пусть его грудь не выдержит удара такари и напора воды, он все равно пройдет. И смелый парень, собрав все свои могучие силы в последнем невероятном порыве, выгнулся назад и бросился всем телом на деревянный шест, который изогнулся, как лук в руке охотника.
От этого резкого рывка веревка едва не порвалась, Николя и Робен с трудом устояли на ногах. Такари выпрямился, грудь Ангоссо не пострадала, а пирога, брошенная вперед неудержимым толчком, пронеслась по волне, на мгновение скрывшись в вихре пены, и тут же появилась снова, словно пронзив водопад насквозь.
Через пять секунд отважный бони пристал к скале, где толпились все остальные, под собственный победный клич. Он только что совершил один из подвигов, на которые способны только негры Верхней Гвианы. Чтобы понять практически непреодолимую сложность этого маневра, достаточно будет сказать читателю, что ширина скальной гряды была около пяти метров, а высота водопада – более трех.
Солнце садилось. Путешественники решили провести ночь на скалах, нашли ровное открытое место, разложили там лиственную подстилку, соорудив ее из навеса пироги, и заснули после того, как подкрепились ужином из копченой рыбы.
На следующий день уже на заре пирога взяла курс на гору, замеченную накануне в отдаленной дымке, пересекла проточное озеро, причем близость намеченной цели придала робинзонам дополнительных сил.
Интересно, что растительность по берегам претерпела новую удивительную метаморфозу. В глубине маленькой бухточки росли высокие пальмы, явно кокосовые. Несколько банановых деревьев демонстрировали свои шлейфы из огромных листьев, а рядом с ними росли другие, совсем не те, что привычны для здешних лесов. Их ветки склонились до самой земли, а стволы были невысокими и толстыми, очень похожие на деревья манго.
Невероятное изобилие растений-паразитов, гигантских трав, спутанных лиан, зелени, плотной как стена, и жесткого сухостоя, похожего на стебли пшеницы, покрывало землю, оставляя доступными для глаза путешественников лишь вершины деревьев.
Но вот перед ними показалось обширное открытое пространство, удивительным образом представлявшее равнобедренный треугольник с вершиной на макушке невысокого холма и основанием на берегу маленькой бухты, где остановилась пирога. Здесь явно потрудились человеческие руки, расчистив участок среди вековых гигантских деревьев девственного леса. Растения, вид которых было невозможно определить издалека, покрывали этот склон сплошным ковром всех оттенков зелени, от бледно-зеленого, свойственного сахарному тростнику, до густой темной зелени, напомнившей о маниоке.
– О боже, – сказал Робен, – я боюсь ошибиться… Но эти деревья в здешних лесах могли появиться, только если их посадили люди… эти сорняки, которые выросли на некогда расчищенной земле, этот участок вырубленного леса… Все это явно говорит о том, что здесь не всегда было так пустынно. Казимир, я прав? Это похоже на старый участок?
– Да, компе, она самый, старый участок.
– Дорогая моя женушка, дорогие дети, значит, я вчера не ошибся, рискнув перейти водопад. Этот затерянный уголок прежде был обитаем, несомненно довольно давно, причем здесь жили люди, которые превосходно разбирались в земледелии. Теперь он заброшен, но мы еще можем извлечь пользу из его богатств.
Вскоре пирога пристала к берегу маленького пляжа, осененного тенью великолепных кокосовых пальм и, по счастью, свободного от многолетних растений.
Ангоссо с помощью Робена и Николя тут же соорудил две временные хижины – одну жилую, а другую под склад провизии. Сложив туда запасы рыбы, путешественники собрались на совет, чтобы решить, что нужно сделать в первую очередь. И начался он с вопроса Анри:
– Папа, а что такое вырубка?
– Раз уж ты теперь настоящий робинзон и смелый лесной разведчик, думаю, ты заметил, сынок, что ни на одном из этих больших и красивых лесных деревьев не растут съедобные плоды, а на земле у их подножия невозможно посадить или посеять что бы то ни было.
– Да, папа, потому что растениям, если их посадить внизу, будет недоставать солнца.
– Совершенно верно. Но что делает человек, которому постоянно необходима пища? Он берет топор и срубает эти гиганты, одним словом, расчищает нужное ему место. Через три месяца, когда поваленные стволы высыхают, он их сжигает, и, как только почва остынет, здесь можно сажать фруктовые деревья или сеять злаки.
– Теперь я понял! Эти поляны называют вырубками, потому что сначала нужно вырубить деревья, которые на них растут.
– Да, все так просто. Действие, обозначенное глаголом, стало служить обозначением не только расчищенного участка, но и засеянной и засаженной плодовыми деревьями плантации.
– Если хотите знать мое мнение, патрон, – вмешался Николя, – здешнее земледелие не кажется мне особенно сложным. Сдается мне, что тут не требуется ни плуга, ни бороны, ни удобрений, ни даже заступа. Можно обойтись заостренной палкой и дыркой в земле, остальное сделают дождь и солнце.
– Вы забываете, что срубить деревья – тяжелый труд…
– Пффф! С хорошим топором свалить их не сложнее, чем кегли, покатятся как миленькие!
– Хорошо, посмотрим, что вы скажете через несколько дней. И заметьте, что нам предстоит относительно пустяковое дело – всего лишь отвоевать у дикой поросли вырубку, покинутую как минимум десять лет назад. Обратите внимание, друзья, наше новое владение прекрасно расположено и засажено самым правильным образом, – продолжил инженер, быстро осмотрев доставшиеся им посадки.
– А хлебное дерево здесь есть? – спросил Николя, который, как мы помним, имел особое пристрастие к его необыкновенным плодам, представляющим целое блюдо без каких бы то ни было дополнений.
– Есть несколько, – с улыбкой ответил Робен. – Кроме того, я заметил гуайявы, четырехгранные страстоцветы, они же гигантские гранадиллы или барбадиновые деревья; кумье, или гвианские груши; саподиллы, перечные лианы и мускатник, яблоко Цитеры, апельсиновые и лимонные деревья…
– Да это настоящий рай, рай на земле! – восторженно вскричал молодой человек.
– Ты забыл о хлопчатнике, – сказала мужу мадам Робен, теребя пальцами шелковистый пучок, снятый с куста высотой семь-восемь футов, на котором росли бледно-желтые цветы с пурпурными пятнышками у основания лепестков.
– Хлопок! Да это настоящее сокровище. Теперь мы можем быть уверены в том, что не останемся без одежды. Лучше этого образца и желать нельзя. Он называется gossypium herbaceum, хлопчатник травянистый, один из самых выносливых и быстрорастущих видов. Но не будем терять время и воспользуемся тем, что Ангоссо пока еще с нами. Мы с ним и Казимиром отправимся на разведку. Вы, Николя, останетесь с детьми и их матерью. Хотя здесь, кажется, им не грозит никакой опасности, все же не оставляйте их одних ни на минуту. Впрочем, у вас есть ружье. А вы, мои хорошие, никуда не ходите. Возможно, где-то неподалеку спряталась злая змея, встреча с которой не принесет ничего хорошего.
– Патрон, положитесь на меня. Я буду на посту до тех пор, пока вы меня не смените.
Трое мужчин вооружились мачете, вдобавок бони прихватил свой топор. Робен поцеловал жену и детей, пожал руку парижанину, и маленький отряд быстро углубился в лесные заросли, расчищая путь ударами мачете.
День прошел спокойно, солнце уже почти село, когда все трое вернулись, падая от усталости, с исцарапанными руками и лицами, но счастливые. Нет нужды говорить, что возвращение экспедиции отпраздновали копченой рыбой, а также бананами, бататами и ямсом, которые разведчики принесли с собой. Николя наконец смог насладиться плодами хлебного дерева. Правда, славный парень был скорее разочарован. Он ожидал большего. Нельзя сказать, что они ему совсем не понравились, но вкус все-таки на любителя…
– Ну что, как себя вели наши маленькие робинзоны? – спросил Робен, немного утолив голод.
– Наши робинзоны были очаровательны, – ответила их мать. – Они учились. Да, мой друг, учились. Они не хотят быть невежами, маленькими белыми дикарями.
– И что же делали наши маленькие ученые?
– Они «делали» географию.
– Изучали географию, ты хочешь сказать?
– Нет, друг мой, именно «делали», я настаиваю. По месту и почет. Это все придумал Анри, так что пусть сам и расскажет. Анри, как называется ручей, в который мы вышли после порогов Эрмина?
– Он называется ручей Нику в честь растения робиния нику.
– Эдмон, как ты окрестил озеро, которое он пересекает?
– Озеро Балата, в память о вкусном молоке, которое мы там пили.
– У Эдмона очень благодарный желудок.
– А я, – вмешался маленький Эжен, – придумал, как назвать злые скалы…
– Это водопад, пороги… – начала его мать с серьезным видом.
– Водопад Игуаны, вот как! Мама, я правильно сказал, игуана, так ведь?
– Да, мой дорогой сын. Что касается этого места, где все мы сейчас находимся, то мы единодушно назвали его Кокосовой заводью. Видишь, мой друг, мы все приняли участие в придумывании названий, у которых по меньшей мере два достоинства: они очень просты, а заодно увековечивают наши воспоминания.
– Но это замечательно, просто великолепно! – радостно воскликнул растроганный отец. – А ты, малыш Шарль, ты как-нибудь помог в этом важном деле?
– Я… я еще маленький, а вот когда я вырасту, тогда другое дело, – ответил ребенок, вытянувшись на цыпочках.
– А вы где побывали? – спросила мадам Робен. – Вы что-нибудь нашли? Вы довольны? Результат оправдал ваши ожидания? Мне кажется, судя по следам от колючек, вам пришлось брать заросли приступом.
– Битва была жестокой, но завершилась полной победой. Но мы решили пока что держать все в секрете, так что никаких расспросов, прошу тебя.
– Значит, это будет сюрприз.
– И я хотел бы как следует им насладиться.
Ожидание оказалось недолгим. Беглец и его спутники уходили еще дважды, всякий раз возвращаясь примерно в одно и то же время. Наконец, на третий день вечером, обитатели Кокосовой заводи едва смогли сдержать радость, услышав простые слова:
– Выходим завтра утром.
Расстояние было не особенно значительным, но дорога! Если вообще можно так назвать тропу, едва намеченную ударами мачете среди непроходимых зарослей самой разнородной зелени, ощетинившейся стеблями, срезанными наискосок на уровне коленей, и усеянной петлями корней, похожих на стремена, которые местные называют «собачьи уши». Эта изобретательная природная ловушка превосходным образом устроена так, чтобы путешественник падал на каждом шагу. Если он не будет всякий раз с осторожностью поднимать ноги, то его ступня угодит прямо в петлю, и он повалится лицом на землю с силой, прямо пропорциональной его скорости.
Нельзя было забывать и о змеях. Поэтому Казимир шел впереди и что есть силы колотил по зарослям справа и слева длинной палкой, напоминающей метлу. За ним шел Николя с маленьким Шарлем на руках. Дальше следовала мадам Робен, опираясь на посох из пальмы кунана, за ней Робен, неся на своих могучих плечах Эжена и Эдмона, а за ним Анри, который шел самостоятельно, как взрослый мужчина. Замыкал процессию Ангоссо с ружьем на плече.
Тропа, проложенная по прямой, все время шла вверх, поднимаясь на высоту около трехсот метров. Хотя подъем был очень плавным, но идти от этого было не легче. Но как бы ни было невыносимо, никто не сказал ни слова, даже дети ни разу не пожаловались.
Наконец, после двухчасового марша с одной остановкой, небольшой отряд вышел на большую поляну на полпути к вершине холма, располагавшуюся на ровном уступе шириной более двухсот метров.
При виде большой хижины, которая кокетливо возвышалась прямо в середине открытого пространства, у мадам Робен вырвался радостный возглас. Дети позабыли об усталости и бросились к новому дому с криками восторга.
– Моя дорогая отважная жена, – с чувством произнес Робен чуть дрожащим от волнения голосом, – я тоже немного «делал» географию, когда был здесь. Я назвал это жилище «Добрая Матушка». Нравится тебе такое название?
– О, мой милый друг, как я счастлива, благодарю тебя!
– Ну что же, войдем под крышу «Доброй Матушки».
Трое мужчин сумели совершить настоящий подвиг. Справедливости ради стоит заметить, что бони оказался истинным мастером колониальной архитектуры, что пальцы бедного прокаженного еще обладали несравненным проворством, а инженера каторжные работы, увы, превратили в превосходного плотника. Так что эта хижина, построенная без единого гвоздя и паза, выглядела как настоящее чудо. Не менее пятнадцати метров в длину, пять в ширину и три с половиной в высоту. В легких стенах, сделанных из тонких плетней, не препятствующих доступу воздуха, но непроницаемых для дождя, устроили четыре окна и дверь.

Хижина была способна противостоять любому урагану, так как ее опорные столбы, образующие основу всей конструкции, представляли собой четыре мощных дерева, крепко и глубоко укоренившиеся в земле, но срубленные на уровне крыши. Эти стволы соединили четырьмя балками, связав их волокнами арумы и лианами ползучей бигнонии. Гвозди иногда не выдерживают, пазы могут треснуть, но эти неразрушимые лианы прочнее стальной проволоки.
Это прямоугольное сооружение было покрыто крышей из листьев пальмы ваи, настеленных на стропила из очень легкого трубного дерева, прикрепленных к балкам тем же манером. Мы уже упоминали о ваи, это очень красивая пальма с чрезвычайно коротким стволом, больше похожая на букет, чем на дерево. Ее листья перистые. Центральная жилка часто достигает четырех метров в длину, а листовые пластинки вырастают до пятидесяти-шестидесяти сантиметров и направлены в обе стороны, как бородки птичьего пера. Строитель, который хочет сделать крышу, сгибает лист точно пополам и переплетает жилки обеих сторон на манер соломенных покрытий, которые делают наши огородники, чтобы укрыть деревья от мороза. Теперь у него есть плоская плетенка четырех метров в длину и пятидесяти сантиметров в ширину, которую он укладывает на стропила и закрепляет, как и балки, с помощью волокон арумы. Сложенные и сплетенные таким образом листья, уложенные вроде черепицы внахлест друг на друга поперек стропил, составляют совершенно непромокаемую крышу, способную прослужить все пятнадцать лет, не подвластную ни ветру, ни солнцу, ни дождю. Листья, поначалу нежно-зеленые, со временем приобретают очень приятный желтый цвет, похожий на оттенок кукурузного початка.
Стропила выступали над каждой стеной дома примерно на два метра, сформировав широкую крытую галерею. Сама же хижина была разделена на три части. В одной устроили спальню для матери с детьми; средняя должна была служить общей столовой, здесь же повесили гамаки Робена и Николя. В третьей устроили склад, поручив его заботе Казимира.
Пол хижины, очищенный огнем, более не был прибежищем неприятных гостей, которые прежде привольно расселились здесь среди корней и трав. Место вокруг дома тоже расчистили, чтобы дать доступ воздуху и свету. Два великолепных дерева манго, два хлебных дерева и несколько калебасовых деревьев давали приятную тень, а за хижиной, позади площадки, отведенной для детских игр, как живая изгородь, протянулись густые заросли с торчащими шипами, но буквально усеянные крошечными гвианскими лимонами с коркой не толще ногтя.
Робен не без гордости продемонстрировал это прекрасное жилье вновь пришедшим. Дети и их мать сияли от счастья. У Николя же радость смешалась с изрядной долей удивления.
– Скажу вам, патрон, мы здесь устроимся, как настоящие послы.
– Умерьте ваш пыл, мой мальчик. У послов есть столы, кровати, другая мебель, кухонная утварь, посуда, а у нас нет ни тарелки, ни бутылки.
– И то правда, – ответил парижанин, слегка поостыв. – Мы будем спать на земле, есть руками, пить из листьев, свернутых в рожок. Это все, конечно, весело на какое-то время, но, между нами, я был бы не против поесть иногда из обычной посуды.
– У нас она будет, Николя, мы сами ее сделаем. Спокойствие, друг мой. Прежде всего я должен вам сказать, что у нас есть деревья, на которых растут целые посудные сервизы.
– Кому другому, патрон, я бы ответил: что за шутки? Но раз вы так утверждаете… К тому же я здесь уже всякого навидался.
– А увидите еще больше, мой дорогой. Что касается вашего желания поесть из тарелки, то его можно удовлетворить довольно быстро. Это, конечно, не будет столовое серебро, но в настоящий момент нам придется ограничиться тем, что есть. Видите это дерево, на котором растут большие зеленые плоды, похожие на тыквы?
– Я их с самого начала приметил, да еще подумал, что если бы крестьянину из басни на нос свалилась такая дуля, он бы не вернулся домой, полагая, что все, что ни делается, к лучшему.
– Тем лучше! Вот наши тарелки и блюда.
– Верно! Здесь их называют «куи», если я не ошибаюсь.
– Именно так. Приступим же к делу!
– Думаю, это не слишком сложно.
– Попробуйте. Но должен предупредить, что сначала у вас ничего не получится, если только вам не известны особенности производства.
– Увидим!
И славный юноша, не откладывая дело в долгий ящик, приподнялся на цыпочки и схватил обеими руками тыкву величиной с человеческую голову, висящую на ветке не толще держателя для пера, с виду готовой сломаться под ее тяжестью. Он вооружился ножом и попытался надрезать блестящую, словно отполированную, корку. Напрасный труд, лезвие лишь скользило по нему, едва царапая зеленую поверхность. Николя решил разделаться с плодом одним ударом и с силой вонзил в него нож, словно собирался нарезать дыню.
Крак!.. И калебаса разлетелась на пять или шесть бесформенных кусков. Все, естественно, расхохотались. Вторая попытка привела к такому же результату, третья тоже грозила неминуемым поражением, но тут вмешалась мадам Робен:
– Послушайте, Николя, я припоминаю, что когда-то читала о том, что дикари очень ловко разделяют калебасы на две равные части, крепко перетягивая их веревкой. Может быть, вам стоит попробовать сделать то же самое с помощью лианы?
– Спасибо, мадам, за ваш совет, думаю, он хорош. Но я так неловок, что вряд ли у меня получится, даже пробовать не стану.
– В таком случае мой черед, – заявил Робен. Пока молодой парижанин орудовал ножом, он уже приступил к операции, хорошо ему знакомой.
Под его нажимом лиана оставила тонкую бороздку поперек поверхности плода, инженеру осталось лишь легко пройтись по ней кончиком ножа и получить две полусферы без единой трещины.
– Вот видите, это довольно просто.
– Какой же я глупец, – сконфуженно пробормотал молодой человек. – Это все равно как если бы я попытался разрезать стекло без алмаза.
– Ваше сравнение абсолютно справедливо, друг мой. Теперь нам нужно разделить таким же образом еще дюжину калебас, а затем выскрести их изнутри…
– А потом высушить их на солнце и…
– …и они полопаются, если вы предварительно не наполните их очень сухим песком. Таким же образом мы сможем обзавестись и дюжиной ложек. Что касается вилок, ими займемся позже.
– Сказать по чести, патрон, уверяю вас, несколько дней назад, когда у нас совсем ничего не было, я даже не смел надеяться на такие скорые перемены. Это настоящее чудо. Но больше всего меня изумляет то, что здесь все необходимые для жизни вещи растут на деревьях. Нужно всего лишь нагнуться и подобрать их.
– Вы хотите сказать, подняться повыше и сорвать… Да, если бы такие деревья росли рощами, если бы они встречались в лесах в диком состоянии, то, конечно, экваториальная зона была бы, как вы давеча заметили, земным раем. Но, увы, это далеко не так. Кто знает, ценой каких усилий была устроена эта плантация, которую мы обнаружили лишь по воле случая? Сколько терпеливых поисков, руководимых чудесным колонизаторским чутьем, потребовалось, чтобы собрать на этом клочке земли большинство полезных растений, местных и тех, что были ввезены сюда после открытия Нового Света? Не устану повторять: жестокая судьба вдруг смилостивилась и решила побаловать нас, как детей. Иначе что бы с нами стало в этой беспредельной пустыне с бесплодными растениями, без жилья, без пропитания, без инструментов? Дичи здесь немного, да и для охоты необходимо оружие и совершенно особые навыки. Рыбалка?.. Мы узнали о нику лишь несколько дней назад. Так что земля остается нашим главным ресурсом. У нас будет обильная и здоровая пища – ее дадут нам деревья плантации и ее почва.
– Да, деревья… – мечтательно сказал Николя как бы про себя. – Если повезет, на здешних деревьях можно найти все, что угодно.
– Я недавно говорил, что вам еще многое предстоит здесь увидеть. И это произойдет совсем скоро, как только мы как следует устроимся и обеспечим себя самым необходимым. За несколько часов я обнаружил бесценные сокровища. На вершине холма растут деревья какао и кофейные кусты. Это важнейшее открытие. А что вы скажете о масляном дереве? О свечном? О мыльном?
Николя, который хотел познакомиться со всеми деревьями с необычными свойствами, перешел от удивления к совершенному потрясению.
– Это не все, я еще не сказал вам о помадном дереве руку, о коричном, гвоздичном, мускатном и перечном, это вам на первое время. А вот еще адвокатово дерево, оно точно достойно вашего внимания.
– Дерево, на котором растут адвокаты?
– Ну да, адвокаты.
– И их едят?
– Едят.
– Ох, – только и смог вымолвить ошеломленный Николя.
– Пропустим, если вы не возражаете, ипекакуану, каучук и клещевину и перейдем к сырному дереву.
– Месье Робен, я считаю вас человеком серьезным, вы же не станете насмехаться над бедным парнем вроде меня. Признайте, хотя бы между нами, что это уже слишком. Не хватало нам дерева, на котором растет грюйер, мондор, рокфор или камамбер…
– Нет, конечно, вы не угадали. На сырном дереве сыр не растет.
– Зачем же тогда давать ему имя, от которого у меня слюнки ручьем потекли?
– Затем, что древесина дерева bombax – это его научное название – белая, мягкая, пористая и очень похожая на сыр. Но его плоды и камедь не имеют для нас никакой пользы. Зато на нем растут шипы, твердые как железо, и мы можем использовать их вместо гвоздей. Кроме того, тонкий нежный пух, который окружает его семена, годится на трут. Ну что, вы довольны нашим беглым уроком по экваториальной ботанике?
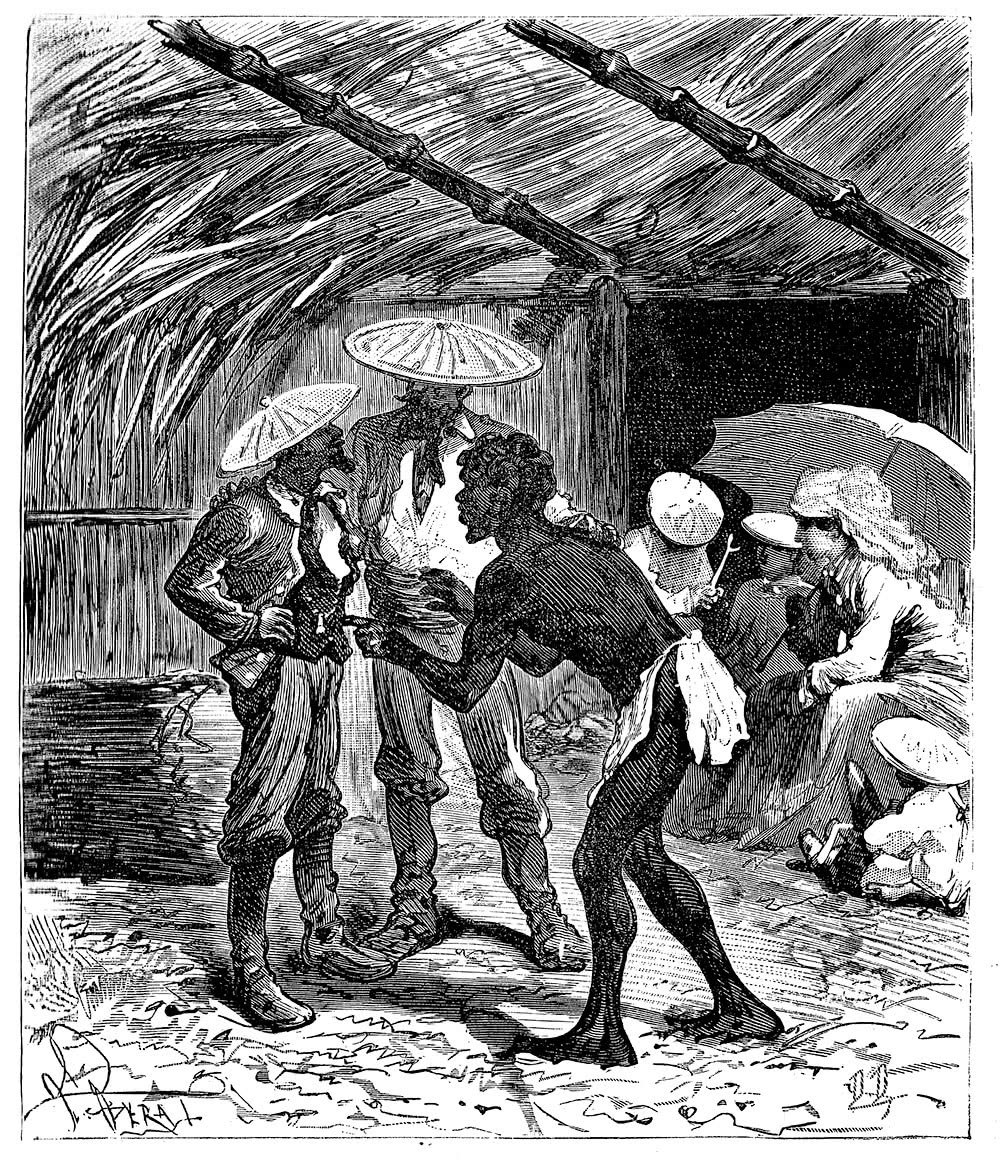
– Я просто счастлив, нет, очарован. Раз уж матушка-природа так хорошо выполняет свою функцию кормилицы, то мне нужно пользоваться ее плодами…
– Вы хотите сказать, нам, мой дорогой мальчик.
– Ну конечно, месье Робен, это я к слову. Я, видите ли, собираюсь работать за четверых, с пользой расходовать все свое время, привести все в порядок, научиться делать инструменты, собирать урожай и в конце концов стать настоящим робинзоном, таким, про каких даже в книжках не пишут.
– Я не сомневаюсь в ваших добрых намерениях, мой друг. Мне известна ваша отвага. С завтрашнего дня нам предстоит тяжелый труд. Дети пока не смогут сколько-нибудь значительно помогать нам в работе. А нам нужно обеспечить их существование, так же как и их матери. Мой старый Казимир, несмотря на его храбрость, довольно слаб из-за болезни и возраста. Так что забота о пропитании ложится почти исключительно на нас двоих. Ангоссо вскоре нас покинет.
– Верно. Наш добрый дикарь… Когда я говорю «дикарь», я не имею в виду ничего дурного, дикарь – это такой человек, который никогда в жизни не видел Июльской колонны. Я очень привязался к нему, да что там, он стал среди нас своим. Прежде негры производили на меня довольно странное впечатление, но теперь я вижу, что среди них встречаются достойные люди. Кстати, вы мне напомнили о деньгах, которые я должен ему заплатить. Пускай подходит к кассе… Эй, Ангоссо! Ангоссо!
– Что хоти, муше? – отозвался чернокожий.
– Что хоти, что хоти… Я хочу отдать тебе две твоих монеты по сто су, твои меченые су, ну, столбики.
– О да. Ангоссо довольный.
– Я тоже очень доволен. Мы все в восторге от твоей помощи. Вот твои деньги, дружище, – закончил он, отдав ему обе пятифранковые монеты.
Лесной негр, получив оплату, на мгновение застыл перед парижанином с разинутым ртом. Его круглые глаза с фарфорово-белыми зрачками не могли оторваться от серебряной цепочки с зеленым нефритовым скользящим кольцом, к которой были прикреплены карманные часы Николя.
– О, – с вожделением бормотал он, – он красивый.
– Двадцать три франка тридцать сантимов, куплено на пряничной ярмарке, считай, даром достались.
– Слишком много красивый!
– Пф-ф! Обычная парижская безделушка. Послушай-ка, господин бони, если они тебе по нраву, то они твои. Ты был так любезен с нами, я тоже хочу доставить тебе небольшое удовольствие. Вот тебе, почтенный лодочник, – сказал он, снимая цепочку.
Ангоссо даже побледнел от счастья, взяв часы кончиками пальцев с какой-то опасливой радостью.
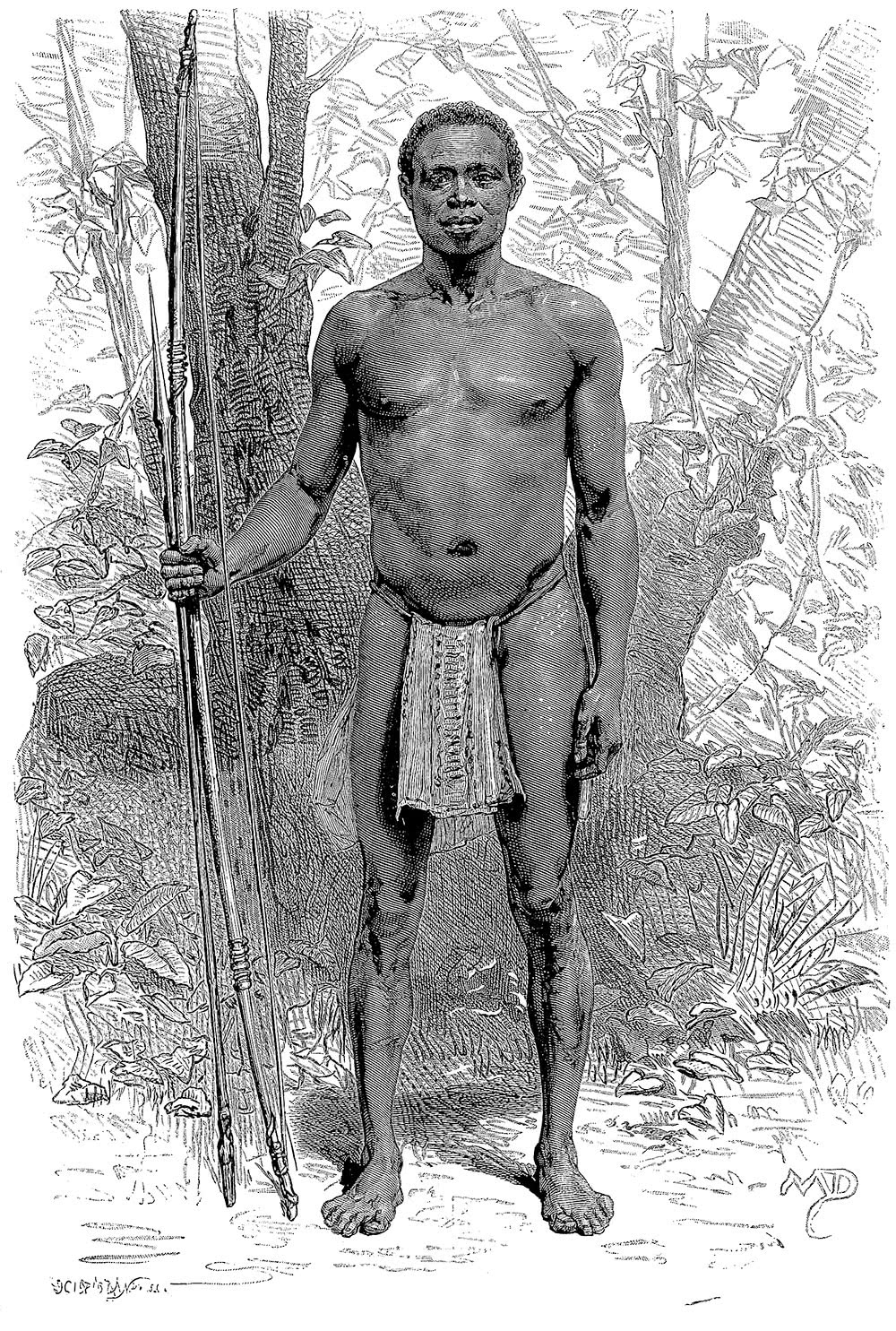
– Этот штука для моя? – с тревогой спросил он.
– Этот штука для твоя, – ответил Николя, в восторге оттого, что смог выразиться по-креольски.
На мгновение бони остолбенел, словно раздавленный нежданным счастьем.
Затем, не говоря ни слова, он бросился к высокой корзине, называемой здесь «пагара», где хранился его свернутый гамак из великолепной ткани, с большим мастерством сотканной местными женщинами, развернул его и принес Николя со словами:
– Твоя – компе Ангоссо. Ангоссо шибко довольный, бон-бон. Моя давай гамак для белые детки, моя давай сабля для белый компе.
– Ну уж нет, это ни к чему. Какого черта, я сделал тебе подарок просто так, без всякого интереса.
– Примите подарки, мой дорогой Николя, – вмешался Робен. – Если вы откажетесь, он будет очень огорчен, поверьте мне. А теперь, мой храбрый Ангоссо, ступай, возвращайся к своей семье. Если когда-нибудь ты не сможешь ее прокормить, если тебе будет грозить голод, приходи сюда со всеми своими родственниками, мы примем тебя с открытыми объятиями. Ты сможешь построить себе хижину рядом с моей и разделить с нами все, что у нас есть.
– Да, муше. Ангоссо прийти к белый тигр, когда не быть маниок, когда не поймать рыба.
Лесной негр попрощался с робинзонами, как это принято у его народа, то есть лично подойдя к каждому из них:
– Прощай, белый тигр, прощай, мадам, прощай, компе, прощай, белый детки, прощай, Казимир. Моя уходи домой!
В последний раз пожимая ему руку, Робен сказал:
– Особо хочу тебя попросить, Ангоссо: никогда никому не говори о том, что здесь живут белые люди. И не забывай, что вы всегда здесь желанные гости, ты и все бони.
– Да, муше. Ангоссо – компе для вся твоя семья. Моя не говори ничего все равно как рыба.
Глава VIII
Пропитание прежде всего. – Первые труды. – Нужна пластина. – Опыты с керамикой. – Трубное дерево. – Ленивец. – Заядлый соня. – Первый постоялец зверинца. – Дурные предчувствия. – Si vis pacem, para bellum[11]. – Импровизированная крепость. – Казимир – начальник инженерного штаба. – Гарнизон передовой заставы. – Кочующие муравьи. – Завтрак гигантского муравьеда. – Поединок ягуара и муравьеда. – И бой кончается, затем что нет бойцов. – Сирота. – Еще один сирота. – Усыновление. – Новые постояльцы. – Месье Мишо и его подруга Кэт.

Существование гвианских робинзонов было прежде всего материальным, если, конечно, можно так охарактеризовать почти исключительное подчинение интеллектуальных способностей поддержанию физических сил организма.
Если, с одной стороны, решение этой проблемы очень непросто дается даже в условиях нашей современной цивилизации, то, с другой стороны, вознаграждение за какой-либо труд, за использование человеческих сил, приложенных к той или иной задаче, может полностью или частично удовлетворить многочисленные потребности работника. Заработной платы теоретически должно хватать на то, чтобы человек мог естественным образом обеспечить себя и близких предметами, необходимыми для существования.
Само собой разумеется, что глава семьи, обеспечивающий свою жену и детей хлебом насущным, не может одновременно шить им одежду из предварительно сотканной им ткани, тачать обувь, строить жилье, обучать и так далее.
Нет, он просто тратит свое вознаграждение за выполненную им работу на приобретение различных промышленных и ремесленных товаров и таким образом обеспечивает своей семье более или менее сносную жизнь. Именно на этой солидарности, обусловленной взаимными и схожими потребностями, основано современное общество. Производить для потребления и обмена. То есть постоянное усилие тела и разума одного человека, сосредоточенное на одном виде деятельности, способно обеспечить существование многих.
Изгнанники же, напротив, испытывали нужду решительно во всем, начиная с самых примитивных инструментов, и должны были создавать предметы, необходимые для жизни, с нуля. Им нужно было есть и одеваться, одним словом, создавать из природных подручных средств все нужные для жизни вещи. Шляпа, игла, болт, лист бумаги, нож – все эти предметы в цивилизованном обществе можно раздобыть где угодно и задешево. Но если человек одинок и затерян в безбрежных пустошах, с какими почти непреодолимыми трудностями он столкнется, когда ему придется изготовить такие мелочи самостоятельно? А инструменты для их производства? Для них потребовалось бы предварительно построить несколько промышленных предприятий.
Робен вовсе не собирался отчаиваться. К тому же у него был Николя, надежный, сообразительный и упорный помощник. Что касается прокаженного, то, к счастью, его многолетний опыт жизни в лесах представлял для маленькой колонии бесценное подспорье. После отплытия Ангоссо трое мужчин немедленно приступили к работе.
Невероятная, несравненная плодородность экваториальной почвы такова, что заброшенную вырубку за несколько лет захватывают непроходимые заросли лиан, деревьев и гигантских трав. Культурные растения смешиваются с зелеными паразитами. Они сплетаются в одно целое, при этом не причиняя друг другу ни малейшего вреда, достигают гигантских размеров и растут так густо, что человек, оказавшийся в этом море стеблей, листьев и цветов, не может ни шагу ступить, не говоря уже о том, чтобы сорвать плод.
Поэтому здесь необходимо действовать методично, вырубать, обрезать, косить, прореживать, удалять не только сорняки, но и выбирать из полезных растений самые крепкие и здоровые и приносить в жертву их более слабых сородичей, чтобы переизбыток не привел к недороду.
По сути, колонистам предстояло вновь расчистить участок. Пусть это куда менее утомительно, чем вырубка девственного леса, но для этого требуется столько же терпения, сколько и навыка. Так что двое белых и чернокожий начали вовсю «раскорчевывать». Мы намеренно сохраняем это слово, означающее «вырубать кустарник», так говорят гвианские поселенцы, и оно идеально отражает идею повторного завоевания земли, захваченной зарослями.
Маленькая колония не могла бесконечно существовать на копченой рыбе, жареных бананах или плодах хлебного дерева. Слишком частое употребление бананов нередко приводит к расстройству пищеварения, вздутию живота и, как следствие, к быстрой потере сил. Единственный продукт, способный заменить пшеничный хлеб, – это маниок.
К счастью, Казимир нашел на склоне холма большой участок с посадками этого растения. Его расположение и особенности были таковы, что он зарос не так сильно, как другие места плантации. Лишь трубные деревья, cecropia peltata, известные любители расчищенных земель, тянули к небу свои жадные ветви. Их гладкие, ослепительно-белые стволы, полые внутри, точнее с очень мягкой податливой сердцевиной (отсюда их народное название, трубное дерево), возвышались как серебряные колонны на фоне темно-зеленого ковра из листьев маниока.
За несколько часов мужчинам удалось собрать внушительное количество клубней. Терку-граж быстро сделали из подручных средств, «змею» тоже сплели, но перед колонистами возникло новое препятствие, на первый взгляд практически непреодолимое. У них не было металлического листа, «пластины», чтобы приготовить муку и выпарить из мякоти маниока ядовитый сок, который остается в ней даже после основательной сушки на солнце.
Казимир не отличался особой изобретательностью. Он считал, что ничто на свете не может заменить листа железа, на котором он прежде готовил куак и кассаву. Николя повторял, что охотно отдал бы один глаз за сковородку… Робен погрузился в размышления.
Длинной заостренной палкой он машинально ворошил хворост в костре, на котором готовился ужин, как вдруг заметил среди углей какой-то красновато-коричневый предмет, с виду довольно крепкий.
– Смотрите-ка, – воскликнул он удивленно. – Что это такое?
Мадам Робен подошла поближе. Дети собрались в кружок вокруг отца. Инженер палкой вытолкнул предмет из очага. Это была грубая глиняная фигурка, вылепленная рукой художника, явно вдохновленного, но, безусловно, совершенно незнакомого с законами ваяния. Но Робена не интересовала форма, материал был гораздо важнее.
– Ну и ну, это же терракота!
– Да, папа, – отозвался юный Эжен. – Я слепил человечка и положил его в костер подсушиться… Я хотел поиграть им с Шарлем.
– А где ты нашел такую землю, мой дорогой скульптор?
– Да там, прямо в доме. Вот, посмотри. Я немного раскопал ее палкой, добавил воды, а потом слепил человечка.
Робен склонился пониже, осмотрел небольшую ямку, порылся в ней своим мачете и достал кусок жирной на ощупь земли, влажной и красноватой, несомненно, благодаря оксиду железа.
Это была глина.
– Дети мои, – сказал он радостно, – завтра на обед каждый из вас получит отличную лепешку кассавы.
– О, вот это да, кассава! – закричали хором четверо ребятишек, в восторге оттого, что им больше не придется есть бананы.
– А как ты ее сделаешь, папа? – спросил Эжен с некоторым недоверием. – Мой человечек ее приготовит?
– Конечно нет, сынок, но он станет непосредственной причиной улучшения нашего питания. А теперь смотри.
И беглец немедленно вырыл яму поглубже, достал оттуда большой кусок чистой глины, помял его, немного смочил водой, еще раз размял и мокрыми руками придал глине форму диска, постаравшись сделать его как можно более ровным и плоским.
– А теперь нужно побольше дров, да разогреть их пожарче. Я бы предпочел высушить мою пластину на солнце, потому что она может не выдержать жара костра, но, если это произойдет, мы попробуем еще раз завтра.
– Я догадался! Патрон, я догадался! – вскричал Николя, свалив в двух шагах от хижины несколько вязанок хвороста. – Вы сделали пластину из глины, так?
– Верно, и она прекрасно справится с назначенной задачей. Воистину, я удивлен, что лесные негры и краснокожие не додумались до столь простого способа и не заменили глиной металлические пластины, которые крайне трудно добыть.
Изумленный Казимир вытаращил свой единственный глаз, пробормотав:
– О, эта белый всегда придумай выход… всегда найти затычка для любой дырка.
После двенадцати часов сушки сначала на очень слабом огне, постепенно увеличивая жар, колонисты получили покрытую легкими трещинками пластину, может менее ровную, чем гладь стоячего озера, но очень твердую и прочную. И незамедлительно напекли на ней аппетитных горячих лепешек.
Эта первая победа, одержанная над нуждой, была воспринята со всей радостью, какую только можно вообразить. Это было настоящее открытие, способное дать начало изготовлению самых разных вещей первой необходимости, сперва, безусловно, не слишком удачных, но с перспективой улучшить их по мере приобретения опыта.
Вскоре из этой превосходной глины можно будет сделать горшки, кирпичи, сложить печь… и кто знает, что еще? А пока мадам Робен вместе со старшим сыном приступила под руководством Казимира, почетного мастера-пекаря, к изготовлению куака и кассавы, этой манны небесной, что составляет главный пищевой ресурс народов тропических областей.
Мужчины тем временем ревностно продолжали расчищать участок. Подступы к дому были уже совершенно свободны. Зашла речь о том, чтобы собрать немного какао и кофе. Заговорили даже о том, чтобы огородить небольшой участок, примыкающий к дому, где можно было бы держать несколько птиц и четвероногих, поддающихся одомашниванию, и Казимир пообещал вскоре заняться их поимкой.
Но первый постоялец будущего скотного двора обнаружился еще до того, как был забит хотя бы один столб для ограды. Никто не ожидал появления столь необычного животного, не имеющего ровно никакой ценности, но такого удивительного вида и с такими невероятными повадками, что дети с криками потребовали дать ему убежище в колонии. Как легко можно догадаться, это невинное желание было удовлетворено сию минуту без малейших возражений.
Вот как произошло это новое открытие, героем которого стал Николя. Утром он отправился в одиночку на маниоковое поле. Робен остался в хижине, занятый плетением заплечного короба из волокон арумы, в котором они будут приносить продовольствие, пока не придумают более удобного приспособления.
Николя по своей всегдашней привычке внимательно разглядывал доступный глазу ландшафт и вдруг заметил на верхушке одного из трубных деревьев неподвижную серую массу.

– Это не обезьяна, та бы уже давно удрала. Оно не шелохнется, застыло, как чучело. Ну и ну! Но все же это какое-то животное, – пробормотал он, подходя ближе.
Трубное дерево едва достигало семи-восьми метров в высоту, его крона из редких больших листьев, белесых с нижней стороны, не превышала в диаметре двух метров, так что он отчетливо смог разглядеть зверька. Тот крепко обхватил ствол дерева всеми четырьмя лапками и выглядел спящим. Николя легонько потряс гибкий ствол толщиной примерно с его руку. Животное не шелохнулось. Он тряхнул сильнее, затем принялся раскачивать дерево так, что его макушка выписывала широкие круги, но завзятый соня, казалось, даже не подозревал о его присутствии.
– Ну это уже чересчур, – сказал себе парижанин. – Оно что там, набито соломой и привязано проволокой? Хорошо, погоди-ка!
Нескольких сильных ударов мачете по стволу дерева оказалось достаточно, чтобы оно рухнуло на землю, причем загадочное четвероногое даже не думало ослабить хватку. Николя подскочил к нему одним прыжком, готовый его оглушить или в крайнем случае не дать ему убежать. Но об этом можно было не волноваться. Заметив наконец человека, бедное животное лишь испустило жалобное «а-ии… а-ии» и вцепилось в ветку еще крепче.
Тогда Николя попросту обрубил ветку цекропии, соорудил из нее волокушу, впрягся в нее и немедленно направился к дому. Зверек время от времени издавал тот же жалобный крик, но держался за ветку с еще большим упорством. Как только юноша заметил своих маленьких друзей, он крикнул:
– Анри! Эдмон! Эжен! Скорее сюда! Только посмотрите, какую странную зверюшку я нашел!
Дети встретили зверька радостными криками и взрывами смеха. Робен на минуту оставил работу и в сопровождении Казимира подошел к веселой компании.
– Что за чудо вы нам раздобыли, Николя? – спросил он.
– Это баран-ленивка, – сказал чернокожий.
– Действительно, это знаменитый ленивец, или аи, который питается только листьями трубного дерева, причем для того, чтобы забраться на дерево, ему требуется не меньше целого дня. А потом он будет сидеть на нем, пока не съест все, включая кору.
– Оно так.
– Ага! – воскликнул Николя, гордый своей добычей. – Так этот тип называется ленивцем. Уверяю вас, что он заслуженно носит это имя. Вот уж кто не любит перемену мест!
– Папа, расскажи нам про ленивца! – хором закричали дети.
– Охотно, тем более что этот урок естественной истории будет вам очень полезен. Это особенное животное принадлежит к отряду неполнозубых, семейству брадиподов. Последнее слово составлено из двух греческих, означающих «медленный» и «нога».
Николя тоже слушал не отрываясь.
– Скажу я вам, патрон, что эти натуралисты, которые, похоже, очень любят сложные названия, попали в точку, описывая медлительность нашего ленивца!
– Этот отряд включает два вида – трехпалых и двупалых ленивцев, аи и унау, – продолжал Робен, не обращая внимания на это замечание, сколь справедливое, столь и непосредственное. – У последних на передних лапах два когтя и нет никакого намека на хвост.
– Значит, – сказал Анри, – у нас тут аи, потому что у него на всех лапах по три когтя и есть совсем маленький хвостик, хоть его почти не видно.
– Очень хорошо, мой мальчик. Он также отличается более мелкими размерами, около семидесяти сантиметров в длину, тогда как унау вырастает до метра и даже больше. Другая его особая примета – это черное пятно десяти сантиметров в длину, видите, вот оно, похоже на восклицательный знак, окаймленный желтым, вот тут, между плечами. Смотрите, оно выглядит как впадина посреди длинной коричневато-серой шерсти, сухой и грубой, как пырей. Давай-ка, потрогай: это пятно совсем другое, мех здесь мягкий, нежный и очень густой, на ощупь как шелк.
– А он не сделает мне больно?
– Конечно нет! Этот бедняга – самое безобидное животное. А впрочем, пока он соберется совершить какое-нибудь движение, за это время ты успеешь добраться, пожалуй, до края света.
Славный ленивец, осознав, что его больше не трясут и не тащат куда-то на ветке, зашевелился, к огромной радости колонистов. Он отпустил свою точку опоры и, медленно соскользнув с ветки, распростерся рядом с ней на спине. В этом положении он очень напомнил черепаху, только без панциря. Ленивец с тревогой засучил лапами в воздухе, то скрещивая, то сгибая их в поисках опоры. Его передние лапы намного длиннее задних, все четыре снабжены тремя огромными когтями, желтоватыми и изогнутыми, не меньше пяти сантиметров в длину.
А какая у него голова! Что за блаженная маска, застывшая в бестолковой улыбке… Эта голова больше похожа на грушу, ни лба, ни подбородка, на приплюснутой мордочке выделяется лишь ее кончик. Глаза – маленькие круглые точки, словно пробуравленные сверлом, испуганные и глупые, с таким выражением, которое делает эту физиономию, покрытую желтоватым пухом, еще более бессмысленной. На уши нет ни намека. Рот с черными, тонкими, нитевидными губами время от времени приоткрывается. Сквозь потемневшие зубы вырывается слабое хриплое шипение. Глаза медленно моргают, как будто веки не справляются со своей работой.
Николя перевернул его и поставил на все четыре лапы. Ленивец распластался на земле, словно лапы не могли выдержать вес его тела, и пополз на брюхе, вытягивая конечности вперед. Он совершил настоящее путешествие в целый метр, добравшись до дверного проема хижины. Медленно и осторожно он зацепился одним из когтей за столб и подтянулся сантиметра на два. Теперь настала очередь другой лапы, которая поднималась широким, неуверенным, но бесконечно долгим движением и зацепилась немного выше первой. Это было похоже на домкрат, поднимающийся со скоростью одного оборота рукоятки в минуту.
При виде такой выдающейся медлительности дети в нетерпении топали ногами. За четверть часа ленивец забрался на высоту полутора метров.
– Давай, ленивец, ползи! – кричали они. – Аи… аи!
– Справедливости ради стоит отметить, – сказал отец, возвращаясь к своему докладу, – что если ленивец ухватится за что-нибудь, то никакая сила не сможет его оторвать. Николя, попробуйте-ка снять его со столба.
Парижанин взялся обеими руками за плечи аи и потянул что было сил, но тот даже не шелохнулся. Тогда он буквально повис на нем – безрезультатно. Казалось, что брадипод буквально слился со столбом, цепляясь за него с отчаянной энергией утопающего.
– Какая хватка, дети мои, какая хватка! И это еще не все, – продолжил Робен. – У ленивцев до такой степени развит инстинкт самосохранения, что он заменяет им разум. Если охотники застигнут его на середине поляны, то он даст изрешетить себя пулями, но не двинется с места, поэтому он не зря предпочитает селиться на деревьях, склоненных над водой. Когда он чувствует опасность, то резко ослабляет хватку, падает в воду и обычно спасается, пускаясь вплавь саженками.
– А мы можем оставить его себе и приручить? – спросил Эжен.
– Конечно, мой дорогой мальчик. Он вполне поддается приручению, правда многому научить его не получится. Во всяком случае, я могу утверждать, что если ты каждый день будешь приносить ему немного свежих листьев трубного дерева, то он совсем скоро начнет тебя узнавать. Это нетрудно, его умеренность в еде равна его лени. Пять или шесть листиков в день ему вполне достаточно.
– В таком случае – чур он мой.
– Конечно твой, если только Николя не заявит на него свои права, ведь это он его нашел.
– О, да вы шутите, месье Робен. Я буду счастлив доставить удовольствие Эжену.
– Сейчас я накормлю его, – заявил мальчик, срывая несколько листьев с той самой ветки, на которой ленивца доставили в лагерь.
– Держи, аи!.. Ну же, поешь…
Но ленивец, без сомнения обессиленный от волнений и перипетий прошедшего дня, крепко спал, зацепившись лапой за одно из стропил галереи.
Благодаря упорному труду всех обитателей колонии от мала до велика жизнь здесь обещала стать вполне безоблачной. Хотя начиналось все совсем непросто. Глава семьи и его отважная спутница не без содрогания вспоминали ужасные обстоятельств, которые предшествовали их воссоединению. Полное изобилие пока не наступило, но самые насущные потребности уже были удовлетворены. Робен, в общем-то, был бы вполне счастлив, если бы мрачные воспоминания о прошлом время от времени не тревожили его разум и не становились источником дурных предчувствий.
Он обрел свободу совсем недавно, так что еще не забыл о кошмарах каторжного быта, об изнурительном труде на лесосеке, о непереносимой, отвратительной скученности в тюремных бараках. Он сумел вернуть свою свободу, обеспечить жизнь своей семьи на сегодняшний и завтрашний день. Теперь нужно было немедленно позаботиться о том, чтобы обезопасить колонию от внезапного нападения, если враги вдруг наткнутся на них по какой-то случайности.
Робен с крайней бережливостью расходовал боеприпасы, подаренные Николя капитаном голландского судна, и если время от времени позволял «заговорить пулям», то лишь для того, чтобы добыть немного свежего мяса к столу европейцев, которые только-только начали привыкать к здешним условиям. Двустволка прежде всего была орудием защиты, он бы воспользовался ею лишь в минуту крайней опасности, но без малейших колебаний, чтобы сохранить свою свободу, главное условие для всеобщего блага. Но Робен также понимал, не без оснований, что одного ружья будет недостаточно для того, чтобы вступить в борьбу с хорошо вооруженным противником, и предпочел бы вовсе не идти на такой риск.
Куда целесообразнее было сделать плантацию неприступной и укрепить единственное слабое место, через которое мог бы ворваться враг. Разумеется, речь не шла о системах обороны, используемых в цивилизованных странах, поскольку эта стратегия бесполезна для лесных жителей и, более того, совершенно неприменима в здешних условиях.
«Добрая Матушка», расположенная на середине заросшего лесом холма, была совершенно неприступна с восточной стороны. С севера и юга простирались бесконечные болота припри с топкими трясинами, непроходимые для человека. Открытым оставался лишь запад, где от Кокосовой заводи до хижины можно было добраться без особых трудов. Это и было то самое слабое место.

Инженер, который в обычных условиях легко смог бы защитить нужную ему позицию, никак не мог придумать способ закрыть проход, идущий от ручья. Водопад Игуаны представлялся ему недостаточно надежной защитой. Он поделился своими опасениями с Казимиром и попросил у него совета. Добрый старик, не подозревавший о существовании бастионов, куртин, реданов и равелинов, мгновенно нашел изумительно простое решение проблемы.
На его бедном добром черном лице появилась гримаса, выполняющая по необходимости роль улыбки. Старому негру явно нравилась мысль о том, какую шутку он сможет сыграть с плохими белыми, если им взбредет в голову фантазия напасть на его компе, его дорогих деток и добрую мадам.
– Моя знай. Давай делай шибко быстро. Моя идти с твоя и Николя.
– Но что ты собираешься делать?
– Чуток жди, потом узнай.
И больше из него не удалось вытянуть ни слова. Трое мужчин, вооружившись мачете, немедленно отправились к Кокосовой заводи. Расстояние, которое нужно было перегородить, составляло около шестидесяти метров. Старику удалось сделать проход неприступным меньше чем за три часа.
– Смотри моя и делай так, – сказал он на своем наречии, выкопав в земле ямку сантиметров пятнадцать в глубину.
Николя и Робену хватило трех секунд, чтобы проделать в мягкой почве такие же лунки, отстоящие друг от друга примерно на тридцать сантиметров.
– Еще… теперь там… так, давай…
Первая линия лунок была готова через четверть часа, затем вторая и третья, практически параллельно друг другу, но перпендикулярно направлению, ведущему к хижине.
– Какого дьявола он собрался тут сажать, капусту или артишоки? – спросил Николя, обливаясь потом, притом что работа, в общем-то, была совсем не тяжелой.
– Нет же, – ответил Робен, – кажется, я догадался. И это совсем не глупо. Конечно, мы посадим не капусту, но алоэ, кактусы, агавы и молочай.
– Оно так, – подтвердил старик. – Твоя все понимай.
– Это же так просто! Мы нарежем черенков всех колючих растений, что растут здесь в огромных количествах, посадим в лунки штук двести пятьдесят, а лучше триста, и через два месяца у нас будет великолепный колючий заслон, сплошные шипы и рогатки, способные заставить отступить целую армию. Такие изгороди используют испанцы на Кубе, французы в Алжире и бразильцы.
– Не стану утверждать, что это плохо, – заметил Николя, – но в один прекрасный день они могут догадаться прорубить себе дорогу мачете.
– Никогда белый тут не пройти, – угрожающим тоном заявил прокаженный. – Этот штука вырастай, тут живи куча ай-ай, куча гражи, куча боисиненга.
– Но в таком случае мы тоже никогда не сможем отсюда выйти.
Казимир снова улыбнулся:
– Старый негр знай, как позови змеи. Он говори змея «приходи», она приходи. Он говори змея «уходи», она уходи.
Николя с недоверчивым видом покачал головой, тихонько пробормотав:
– Я не говорю, что они не придут, но соседство, как по мне, будет не из приятных.
Робен успокоил своего молодого друга, рассказав ему о том, как пресмыкающиеся союзники Казимира заставили спасаться бегством тюремную стражу.
– Патрон, неужели вы в это верите?
– Я верю в то, что я слышал и видел.
– Не хочу показаться дерзким, но у меня есть кое-какие сомнения, по-моему, это уж слишком… Хотя здесь в самом деле происходят удивительные вещи!
Три товарища пустились в обратный путь к «Доброй Матушке», решив в установленное время вернуться сюда, чтобы убедиться, что зеленое укрепление взошло и в нем поселился долгожданный змеиный гарнизон.
Они шли не спеша, как всегда гуськом, по-индейски, и негромко разговаривали. Но внезапный шум заставил их остановиться.
В этих лесах, населенных причудливыми и страшными животными, хищниками и рептилиями, где в зеленых зарослях устраивают засады огромные существа, чьи когти рвут на части, а кольца ломают кости, а под листвой таятся крохотные создания, чьи невидимые жала убивают на месте, смертельные опасности грозят путешественнику во всякое время и в разных обличьях. Поэтому-то здесь все чувства, постоянно обостренные, приобретают невероятную тонкость. Не только дикарь, уроженец этих вечнозеленых краев, но и европеец быстро овладевает искусством различать все звуки, производимые природой, понимать их причину, устанавливать направление и предвидеть возможные последствия.
Несмотря на свой опыт, Робен застыл на месте, не понимая, что делать и что сказать Николя, невежественному, как истый парижанин из Батиньоля, во всем, что касалось дикой жизни. Казимир молчал, сконцентрировав в слухе все свои способности лесного жителя.
Звук между тем не стихал, смутный, негромкий и непрерывный, как шелест мелких капель дождя по листве, к которому примешивалось еле слышное потрескивание. Это не было похоже ни на шорох змеиной чешуи в траве, ни на журчание воды в ручье, ни на отдаленное хрюканье стада патир. Этот шум чем-то напоминал гул летящей стаи саранчи, да, пожалуй, что так. С той лишь разницей, что звучал он более сухо и резко, будто бы к шуршанию миллиардов ног миллионов насекомых добавился едва уловимый треск бесчисленных микроскопических ножниц.
– Это муравьи, – сказал наконец старый негр, явно очень встревоженный.
– Кочующие муравьи! – воскликнул не менее взволнованный Робен. – Если они пойдут в сторону хижины!.. Мои дети, моя жена… О боже, поспешим!
– Да что тут такого? Это всего лишь муравьи, не слоны же! – выдал Николя. – Да пусть ползут десятками и даже сотнями, наступил на них ногой, и все дела.
Не удостоив ни словом это замечание, выдавшее полное непонимание опасности его автором, Робен и Казимир поспешили подойти поближе к источнику шума. По мере приближения он становился все более отчетливым. Мужчины теперь находились на полдороге от хижины. Прокаженный, шедший впереди, вдруг остановился и облегченно выдохнул:
– Плохая зверь ходи другой дорога, не ходи на хижина.
В самом деле, муравьи пересекали тропу, по которой шли друзья, примерно в тридцати метрах от них, под прямым углом, двигаясь, таким образом, параллельно расположению дома. Склон холма здесь был довольно крут, так что рельеф местности позволял им во всех подробностях рассмотреть армию перепончатокрылых, которая двигалась как ураган, не видя препятствий. Черная плотная блестящая масса панцирей и брюшек двигалась причудливыми медленными волнами, словно расплавленная лава. И подобно ей, была столь же разрушительной. Миллиарды крошечных челюстей-мандибул прокалывали, дырявили, кусали, щипали большие и малые растения, оказавшиеся на пути колонны. Травы исчезали на глазах, кустарники редели, даже стволы деревьев как будто таяли. Теперь звук, исходивший от орды маленьких ненасытных варваров, стал еще более четким. Шуршание стало громче, а треск – выразительнее. Эти кочевники относились к разновидности фламандских муравьев. Укус именно такого муравья использовал Казимир, чтобы спасти умирающего беглеца с помощью нарыва.
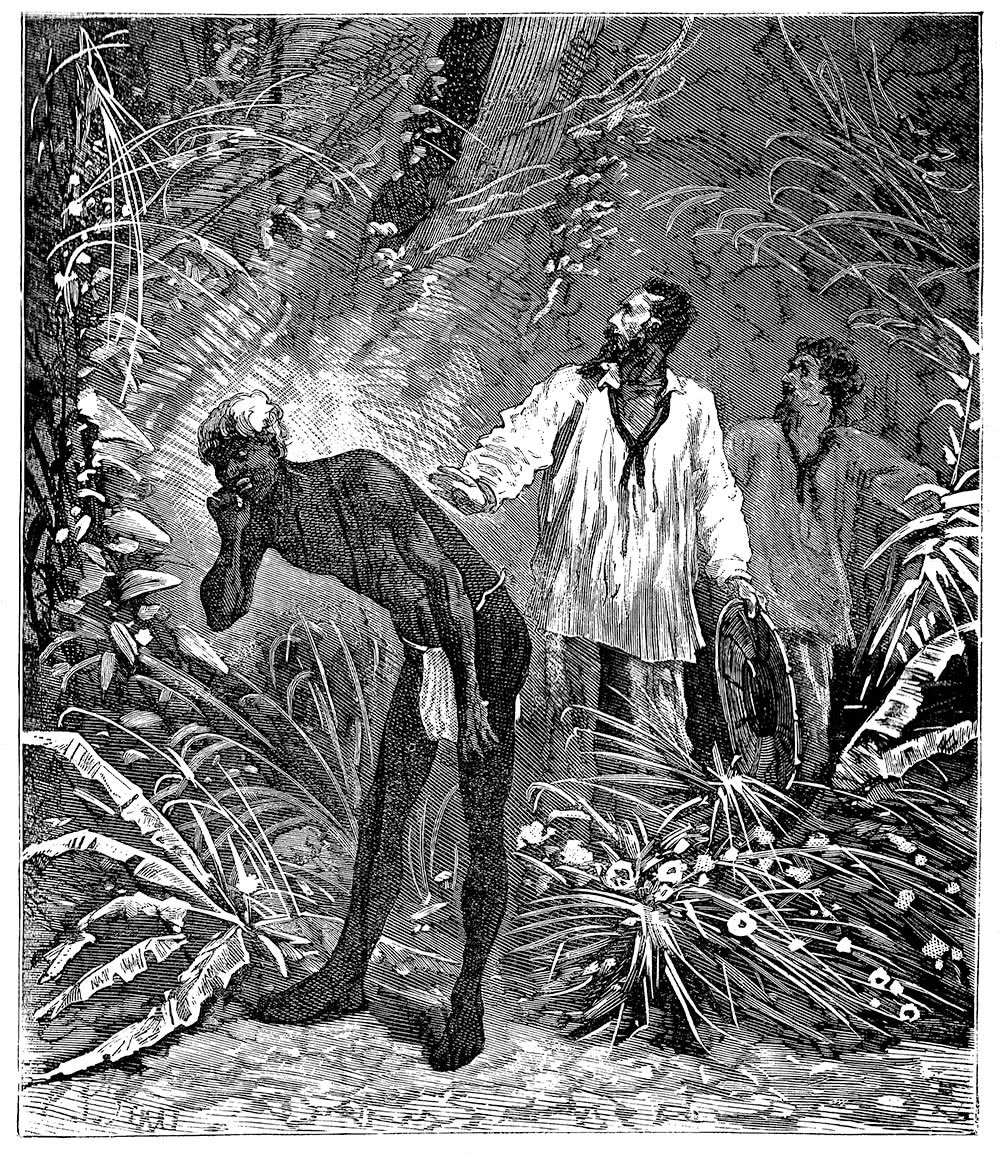
Николя при виде подобного опустошения выглядел куда менее уверенно. Он задрожал, обратив внимание на огромные деревья, в мгновение ока очищенные от коры, выставившие напоказ оголенные несокрушимые стволы, лишенные покрова, как кости без плоти и кожи. Возвращение домой откладывалось более или менее надолго. Они решили подождать, и если муравьи не поторопятся, то поджечь траву, чтобы разделить их полки. Друзья уже были готовы приступить к исполнению этого плана, как вдруг их внимание привлекла необычная сцена. Робен уже некоторое время смотрел на нечто большое и коричневое, распластавшееся на середине тропинки таким образом, чтобы едва соприкасаться с пространством, захваченным насекомыми. Время от времени над ней поднималось нечто вроде султана того же бурого цвета, затем конвульсивно опадало, чтобы подняться снова. С другой стороны этой массы то и дело появлялось нечто красновато-фиолетовое трудноопределимого свойства, длинное, прямое и жесткое. Затем оно возвращалось на место, как поршень паровой машины, вонзалось прямо в колонну муравьев, исчезало и появлялось снова. Впрочем, здесь не было ничего загадочного, и бывший каторжник сразу это понял. Этим бурым существом был всего-навсего честный муравьед, устроивший себе обильное пиршество. Красноватым предметом был его влажный липкий язык, который он запускал в гущу насекомых, а султаном – его огромный пышный хвост, чьи движения вверх и вниз выдавали восторг его счастливого обладателя.
Целиком погруженное в гастрономический экстаз, животное не замечало трех человек, с любопытством наблюдавших за его упражнениями. Увы, этому мирному блаженству было не суждено продлиться долго. За трапезой муравьеда наблюдал и четвертый свидетель, который, очевидно, испытывал настоящие танталовы муки. Не станем томить читателя, это был ягуар самого великолепного и свирепого вида, настоящий разбойник дождевых лесов. Двух четвероногих разделяла армия муравьев, протянувшаяся между ними лентой около двадцати метров в ширину. Тщетно ягуар заносил над ней лапу осторожным движением, все равно что кот, который хочет поймать лягушку, но до смерти боится малейшего контакта с водой. Муравьи с задранными в воздух челюстями двигались плечом к плечу, как солдаты македонской фаланги, готовые мгновенно укусить, представляя непреодолимую преграду между ним и объектом его вожделения.
Нужно было решиться, сделать, возможно, отчаянную попытку, и обезумевший от голода ягуар более не мешкал. Примерно посередине фаланги возвышалось уже обглоданное дерево. Оставалось лишь добраться до него, совершив прыжок в десять метров. Большая кошка без колебаний бросилась вперед и удачно оказалась на стволе дерева, словно умелый гимнаст. Половина дела сделана, теперь нужно лишь рассчитать следующий прыжок так, чтобы навалиться сверху на ничего не подозревающего муравьеда и не оказаться в гуще копошащейся орды, из которой он устроил себе ужин.
Но тот заметил вражеский маневр и, следя одним глазом за движениями ягуара, не переставал работать языком и быстро набивал рот насекомыми, словно чувствуя, что конец трапезы близок.
Казимир захохотал своим особенным раскатистым негритянским смехом, Николя вытаращил глаза, Робен не сводил глаз со сцены. Эта битва диких зверей обещала быть драматичным зрелищем. У хищника крепкие острые когти, а челюсти усажены громадными клыками. У любителя муравьев есть только когти, но какие! Это настоящие крюки по десять сантиметров в длину, столь же твердые, как лучшая закаленная сталь!
Ягуар, решив, что момент настал, снова прыгнул, ощерив огромную пасть, вытянув когти и выпрямив хвост. Он описал головокружительную параболу и обрушился… прямо на то место, где секунду назад обедал невозмутимый едок.
Муравьед, сохраняя хладнокровие, просто немного отступил в сторону и теперь находился напротив своего жестокого врага, стоя на задних лапах и подняв передние на уровень головы, в позе боксера.
Этот прием пришелся ягуару не по вкусу, он тяжело задышал и перешел на свирепый рык. Исходя из известного принципа дуэлянтов и драчунов, который заключается в том, что в драке важно нанести удар первым, он сделал быстрое обманное движение и попытался нанести удар в нижнюю часть тела муравьеда, которая выглядела наименее защищенной.
Но храбрец тут же ответил ему чудовищной оплеухой, так мастерски проведенной, что с левой стороны кошачьей морды вся шкура была содрана одним ударом. Раненый зверь издал вопль ярости и боли, хладнокровие окончательно покинуло его, он утратил всякую сдержанность. Кровь из раны ослепляла его и ручьем лилась на траву. Он очертя голову ринулся на противника, который без сопротивления повалился навзничь, подобрав голову и выставив вверх все четыре лапы.
В одно мгновение ягуар оказался в захвате, как говорят борцы. Когти муравьеда как вилки вонзились в его тело, трещавшее в мощных объятиях. Огромная кошка напрасно пыталась вырваться. Два сплетенных тела, извиваясь, покатились по земле. Трое свидетелей этой сцены уже не различали, где ягуар, а где муравьед. Бой длился еще две бесконечные минуты. Затем раздался треск ломающихся костей и предсмертный хрип. Муравьед ослабил свою хватку, но более не двигался, распростершись со сломанным позвоночником рядом с ягуаром, испускавшим дух в последних конвульсиях с распоротым брюхом.
Робен, Казимир и Николя, под впечатлением от исхода схватки, осторожно подошли к еще трепещущим телам.
– Все хорошо, что хорошо кончается, – многозначительно изрек Николя, – этот замечательный муравьед, как вы его называете, патрон, оказался здесь очень кстати. Подумайте только, что ягуару могло бы взбрести в голову наброситься на нас!
Изгнанник улыбнулся и взмахнул мачете.
– Что же, он был бы не первым, – спокойно сказал он. – А теперь у нас тут два молодца, которых неплохо бы раздеть. Из их шкур выйдет два великолепных ковра для хижины. Поспешим, иначе муравьи оставят от них только кости.
– Смотрите-ка, – перебил его парижанин, показывая на зверька величиной с кролика, который испуганно жался между аркабами, – а это что еще такое?
– Это детка таманду (муравьеда), – сказал Казимир.
– Не может быть! О, бедный малыш, какой у него несчастный вид. Патрон, у меня идея. Раз он теперь сирота, можно я возьму его в хижину, для мальчиков… что скажете?
– С удовольствием, мой дорогой! Мы его приручим, и он станет им отличным товарищем.
Пока Робен споро свежевал ягуара, юноша привязал к дереву детеныша муравьеда, который, впрочем, совсем не сопротивлялся, продемонстрировав необыкновенно покладистый и мягкий нрав.
– Какое странное животное, – заявил Николя, внимательно осмотрев мертвого муравьеда. – Что у него за голова такая? Где его рот?
– Что значит – где его рот?
– То есть я хочу сказать, что вижу на кончике его морды только маленькое отверстие, из которого еще высовывается кончик его языка… Это что, и есть его рот?
– Другого у него нет. К тому же муравьеду он и не требуется, если принять в расчет, чем тот питается. Его челюсти срослись вместе, образовав нечто вроде трубки, где помещается, как вы только что видели, длинный липкий язык, который он запускает в кучу муравьев, а затем втягивает и снова выпускает.
– И такой еды ему хватает?
– Более чем. Именно поэтому натуралисты дали ему название myrmecophaga, что в переводе с греческого означает «поедатель муравьев». Его также называют тамануар.
– Это правда удивительно, как такое огромное животное может нормально существовать на подобной диете.
– Меня это тоже удивляет. Если его строение в точности соответствует тому, что мне приходилось читать про муравьедов прежде, то по части размеров он превосходит те, которые ему принято приписывать. Этот экземпляр от морды до кончика хвоста будет не меньше двух метров двадцати сантиметров. Хотя, возможно, перед нами один из гигантов своего рода. Что ты об этом скажешь, Казимир?
– Моя видай много таманду больше эта[12].
– Его голова, тонкая, узкая, изогнутая, вытянутая, закругленная и лишенная шерсти, больше напоминает птичий клюв, чем морду млекопитающего. Что до его хвоста с густой, грубой и жесткой шерстью, это настоящее волосяное буйство. Длинная треугольная лента, черная с белой каймой, которая тянется наискосок от грудины до позвоночника, тоже очень любопытна.
– А когти, патрон, поговорим о его когтях. Черт возьми, неудивительно, что он просто распорол ягуара по швам. Боже, какие они острые! Конечно, он не смог бы втягивать их, как кошка, они же не меньше восьми или девяти сантиметров в длину.
– А все потому, что муравьед о них очень заботится. При ходьбе он не опирается ими о землю, а подворачивает внутрь, под ступню.
– О, прекрасно, я понял, это как клинок складного ножа.
– Вы заметили, что на передних лапах у него только четыре когтя, в то время как на задних – по пять. Впрочем, последние довольно тупые, потому что от них нет никакой пользы ни в смысле защиты, ни для того, чтобы разорять муравейники.
– Кстати, о муравейниках и о муравьиной армии! В последние полчаса мы были так заняты, что совсем забыли о них.
– Муравьи уйти совсем далеко, – сказал Казимир.
– И правда, путь свободен. Идем же домой, да не забудьте шкуры и нашего нового постояльца.
Но нашим друзьям не удалось вернуться в хижину без новых приключений. Едва они успели пройти несколько шагов, как в зарослях густой травы послышалось жалобное мяуканье, и грациозное животное размером не больше домашней кошки уткнулось в ноги Николя с наивной детской доверчивостью.
Парижанин занес мачете, но Робен остановил его.
– Еще один сирота, который нуждается в родителях, – пошутил он. – Этого я возьму себе и займусь его воспитанием. Со временем я сделаю из него товарища по охоте, его умения нам очень пригодятся.
– Это котенок ягуара? – спросил Николя.
– Все верно. Он еще совсем маленький, надеюсь, у меня получится его приручить. Но поскольку он может по неосторожности случайно оцарапать детей, придется поначалу подрезать ему когти. Увидите, каким он станет другом.
Взрывы смеха и радостные крики встретили путешественников. Им пришлось рассказать до мельчайших подробностей о драматических событиях, в результате которых в колонии появилось два новых члена. Маленькие сироты не выглядели слишком несчастными. Едва их освободили, как они принялись играть вместе и носиться повсюду со счастливым видом, который свидетельствовал об их полном неведении касательно взаимной ненависти их родителей и катастрофы, за ней последовавшей.
Шкуры развернули, натерли золой и растянули на стволах деревьев, пришпилив их иглами сырного дерева. В тот момент, когда Робен заканчивал с ними, Анри, который следил за работой отца, вдруг безудержно расхохотался:
– О, папа, знаешь… Он такой забавный, твой муравьед! Но знаешь, на кого он похож? Мама, посмотри… Если на него надеть очки?
– Что ты хочешь сказать, проказник?
– Он вылитый мой учитель правописания месье Мишо!..
И мальчуган расхохотался еще громче, вслед за ним начали смеяться и его братья, и все, даже самый младший, без конца повторяли: месье Мишо, месье Мишо! Так что ничего не оставалось, как назвать маленького муравьеда именем учителя.
Что же до юного ягуара, он тоже вскоре обрел права гражданства. Из-за того, что он до крайности напоминал домашнюю кошку, ему пришлось согласиться на кличку Кэт, которую тоже придумал Анри.
Глава IX
Трудности акклиматизации. – Анемия. – Удары солнечные и… лунные. – Робинзоны платят дань Гвиане. – Гокко на птичьем дворе. – Свежее мясо на будущее. – Оклеветанный и оправданный гокко. – Сигареты для парижанина. – «Бумажное дерево». – Убийство матери семейства. – Перья и чернила. – Сероспинный трубач. – Почему агами можно также назвать птицей-собакой. – Первая запись курса естественной истории. – Экваториальный рай. – Малыш Шарль хочет обезьянку. – Кассик и кинжальная муха. – Проделки макаки.

Без предварительной акклиматизации житель умеренных широт не может благополучно существовать ни в вечной мерзлоте, ни под беспощадным солнцем тропиков. Рано или поздно человеческая природа, оказавшись в чуждых для нее условиях, берет свое, и в организме зачастую происходят опасные изменения, которые становятся весьма болезненным уроком. Если бы пришлось сравнивать способность адаптации европейского темперамента к экстремальной жаре или чрезмерному холоду, то победа, несомненно, оказалась бы на стороне последнего.
Нет необходимости доказывать, что европейцы куда легче переносят холод, чем жару. Мороз – не такой уж опасный враг. Правильное питание, теплая одежда, физическая активность и, наконец, огонь с легкостью его побеждают. Тут важно в первую очередь контролировать расход тепла и обеспечить постоянные запасы провизии. Эта двойная задача легко решаема, тем более что в холодных краях воздух, как правило, свеж и чист.
Жара же, напротив, страшный враг. В самом деле, как бороться с температурой, при которой днем и ночью корчатся, хрипят, задыхаются люди и животные? Как укрыться от лучей неумолимого светила, которые убивают столь же беспощадно, как когти хищника или зубы ядовитой рептилии?
Солнце для европейца – такой же опасный враг, как и голод. Если от нападения диких зверей можно уберечься, как и справиться с капризами погоды или приспособиться к жизни среди нездоровых испарений, то безнаказанно противостоять солнцу не получится. Тень, какой бы густой она ни казалась, не дает никакой прохлады. Под огромными деревьями вечно царит та же невыносимая тепличная духота без единого дуновения свежего ветерка. По ночам здесь едва ли прохладнее, чем днем, поскольку после захода солнца земля возвращает в атмосферу тепло, накопленное за день. Небо затянуто тучами? Жара становится еще более удушливой, а солнечное излучение, возможно, еще более опасным.
Со временем легкие, устав вдыхать этот горячий воздух, начинают работать вполсилы, словно против воли, подобно желудку, который принуждают постоянно поглощать горячую воду. К этому следует прибавить еще одну причину упадка сил – сильнейшее потоотделение, обильность которого невозможно преувеличить. Это непрерывный поток, стекающий от корней волос на макушке до самых пяток, погружающий все тело в подобие постоянной парилки. Одежда промокает насквозь, хоть постоянно выжимай ее, с рук и лица беспрерывно стекают крупные капли пота, которые ручьями катятся по коже и падают на землю.
В отличие от холодных стран, где человеку энергичному выжить гораздо легче, в тропиках такому организму приходится особенно худо, словно чем организм крепче, тем больше опасностей ему угрожает. На европейца, обладающего цветущим здоровьем, все болезни во главе с желтой лихорадкой обрушиваются в первую очередь. Не будем забывать о фурункулах и язвах, буквально покрывающих все тело, о лихорадках, вызывающих приливы крови и возникающих при малейшем переутомлении, о стойкой болезненной сыпи, что сопровождается невыносимым зудом и хорошо известна колонистам под названием «бурбуй».
Бурбуй покрывает все тело наподобие сыпи, характерной для кори или, если еще точнее, потницы. Эти мелкие рассеянные красные пузырьки возникают вследствие слишком высокой полноты крови, и только анемия или возвращение в Европу способны их устранить. Словом, акклиматизация для европейца наступает лишь после того, как у него больше не останется сил, его лицо станет анемично бледным, а мускулы, переполненные горячей кровью, потеряют изначальную силу.
Чтобы существовать на экваторе, необходимо привыкнуть к тому, чтобы жить и действовать вполсилы, и усвоить, как там говорят, «колониальный шаг».
Поэтому, когда человек из метрополии начинает жаловаться на свои несчастья, он всякий раз слышит от местных креолов или тех, кто живет здесь достаточно давно, чтобы суметь приспособиться к такому раздражающему существованию: «О, это все из-за вашего полнокровия! Подождите несколько месяцев: когда наступит анемия, все будет в порядке».
Стоит ли после этого удивляться слабой производительности труда в колониях, где каждый стремится как можно скорее обзавестись собственной анемией, чтобы потом бороться с ней огромными дозами тонизирующих напитков!
Еще несколько слов о воздействии солнца, чтобы завершить этот краткий, но далеко не полный очерк о трудностях акклиматизации. Солнечный удар, почти всегда смертельный в Индокитае, в Гвиане тоже чрезвычайно опасен. Он не так яростен, как в Сайгоне[13], но урон, который он способен нанести, не менее ужасен. Здесь всегда следует помнить о том, что если окажешься с непокрытой головой на полуденном солнце даже на пятнадцать или двадцать секунд, это неизменно приведет к немедленному кровоизлиянию и часто – к смерти.