Глава 2 Предреволюция
Попытка Калонна
Франция втягивалась в Революцию постепенно. Бурным событиям 1789 года предшествовали три года упорных попыток монархии сломить сопротивление привилегированных сословий и провести реформы, необходимые для преодоления финансового кризиса. В историографии этот период определяется как Предреволюция. Некоторые же исследователи и вовсе включают его в рамки самой Революции, называя «революцией аристократии». Да-да, именно аристократия, светская и духовная, начала раскачивать политическую ситуацию в своих сугубо корыстных целях и делала это до тех пор, пока в поток антиправительственного движения не включились другие слои населения – и он не смыл ее саму.
Точкой отсчета тут можно считать август 1786 года, когда возглавлявший правительство Шарль-Александр де Калонн познакомил короля с планом реформы, предполагавшей распространение поземельного налога на привилегированные сословия. Потомственный дворянин мантии, Калонн прекрасно проявил себя на различных административных постах, благодаря чему и получил в 1783 году должность генерального контролера финансов – высшую в министерской иерархии того времени. Первое время он, стараясь не раздражать короля, шел по протоптанной Неккером дорожке и покрывал дефицит финансов за счет государственных займов. Людовик XVI, вялый, апатичный и тяготившийся любыми мало-мальски конфликтными ситуациями, опасался резких действий после того, как в 1774–1776 годах финансовые реформы его министра Тюрго вызвали активное сопротивление аристократии с Парижским парламентом во главе. Однако зияющая дыра в бюджете вынуждала Калонна идти на решительные шаги, даже рискуя навлечь на себя ненависть привилегированных сословий.

Калонн предложил Людовику XVI ввести вместо двадцатины бессословный и бессрочный поземельный налог. Согласно его замыслу, со всех возделываемых земель, независимо от статуса их владельцев, следовало ежегодно взимать в пользу государства от 2 до 5 % урожая в натуральной форме: с более плодородных больше, с менее плодородных меньше. Чтобы подсластить эту пилюлю дворянам, их освобождали от подушного налога.
Разумеется, не было и речи о том, чтобы провести подобный закон через Парижский парламент и 12 местных парламентов, а без регистрации в них ни один нормативный акт, как мы помним, не мог вступить в действие. Однако в богатой правовой практике Старого порядка Калонн нашел способ обойтись без их одобрения. Он посоветовал королю созвать собрание нотаблей, то есть наиболее влиятельных лиц из всех трех сословий. Этот государственный институт являл собой уменьшенное подобие Генеральных штатов – высшего органа сословного представительства в период Средних веков и раннего Нового времени. Однако, в отличие от избираемых депутатов Генеральных штатов, члены собрания нотаблей назначались королем, что теоретически должно было бы сделать их более сговорчивыми. Правда, исторический опыт показывал: когда речь заходит о необходимости поступиться собственной выгодой, воспротивиться могут даже назначенные королем лица. В 1627 году собрание нотаблей не захотело принять план финансовой реформы, внесенный всесильным кардиналом Ришелье, и с тех пор больше не созывалось. Но выбор у Калонна был невелик: либо продираться сквозь процедурные тернии парламентской регистрации, либо попытаться обеспечить максимально лояльный состав собрания нотаблей и договариваться уже с ними.
Отбор нотаблей велся тщательно. Однако, поскольку в такое собрание традиционно привлекали наиболее богатых и влиятельных людей каждого из трех сословий, туда вошли как раз те, кому предстояло больше остальных пострадать от ликвидации налоговых привилегий. От первого сословия пригласили высших иерархов церкви, от второго – членов наиболее родовитых фамилий, от третьего – верхушку судейской аристократии. Неудивительно, что открывшееся 22 февраля 1787 года в Версале собрание нотаблей встретило план Калонна в штыки. Правда, времена по сравнению с периодом реформы Машо д’Арнувиля изменились, и открыто защищать привилегии теперь уже никто не решался, учитывая негативное отношение к ним общественного мнения. Не оспаривая сам принцип фискального равенства, участники собрания возражали против нового налога из-за того, что его предлагалось взимать в натуральной форме. А еще они требовали финансового отчета правительства и созыва Генеральных штатов.
День шел за днем, а нотабли, вместо того чтобы утвердить реформу, для чего их, собственно, и собрали, проводили время в непрестанных спорах друг с другом и с правительством. Чтобы преодолеть столь откровенный саботаж, Калонн решил заручиться поддержкой общественного мнения, напрямую обратившись к населению. 30 марта королевская типография напечатала отдельной брошюрой его план реформ с комментарием, в котором говорилось о необходимости покончить с фискальными привилегиями, дабы облегчить налоговое бремя народа. Текст подлежал всенародному оглашению принятым тогда способом: приходские кюре во всех церквях Франции должны были зачитать его после проповеди.
Действия Калонна вызвали взрыв возмущения нотаблей. Вынеся внутренний раздор в верхах на суд широкой общественности, министр нарушил устоявшийся порядок взаимоотношений между правительством и аристократией, все конфликты между которыми традиционно считались своего рода «семейными ссорами» и решались в узком кругу избранных. Даже популярный среди просвещенной элиты маркиз Лафайет, ранее воевавший добровольцем на стороне американских колонистов против англичан, осудил действия Калонна как подстрекательство. Под давлением придворных кругов Людовик XVI счел за благо отправить 8 апреля 1787 года Калонна в отставку.
Попытка Ломени де Бриенна
Вместо Калонна король поставил во главе правительства одного из главных его критиков – председателя собрания нотаблей, архиепископа Тулузы Этьена Шарля де Ломени де Бриенна. Выходец из старинного дворянского рода, Ломени де Бриенн избрал в юности духовную карьеру и теперь, в свои шестьдесят лет, принадлежал к числу высших иерархов католической церкви Франции. Это, впрочем, ничуть не мешало ему дружить с философами Просвещения и быть сторонником веротерпимости. Не принимая предложенный Калонном план преобразований, Ломени де Бриенн тем не менее прекрасно понимал, что фискальная система государства нуждается в серьезной модернизации. Отказавшись от идеи натурального налога, вызывавшей наибольшую критику, он предложил собранию нотаблей одобрить всесословный поземельный налог в денежной форме. Нотабли новый налог не приняли, сослались на свою некомпетентность и посоветовали королю созвать Генеральные штаты, после чего и были распущены.
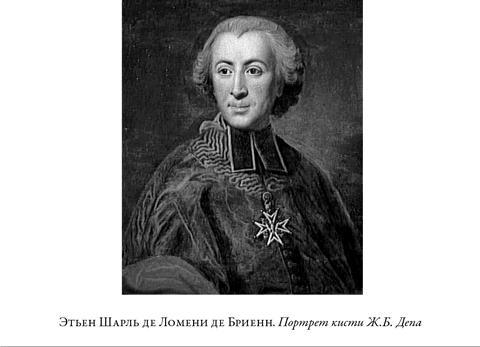
Ломени де Бриенну не оставалось ничего иного, как идти со своим реформаторским проектом в Парижский парламент. Тот, разумеется, отклонил закон о едином поземельном налоге, предполагавший ликвидацию фискальных привилегий первых двух сословий, и тоже посоветовал монарху созвать Генеральные штаты. Чтобы сломить сопротивление судейской аристократии, правительство назначило на 6 августа 1787 года заседание парламента с участием Людовика XVI. В присутствии короля, как мы знаем, любой акт подлежал регистрации без возражений. В ответ парламент принял постановление, которым заранее дезавуировал всякую регистрацию, произведенную под давлением. Его поддержали провинциальные парламенты и прочие суды разных инстанций.
Ломени де Бриенн вынужден был прибегнуть к жесткому и ранее не раз опробованному средству, которое прежде позволяло преодолеть сопротивление судейских. В ночь с 14 на 15 августа Парижский парламент был сослан в Труа. Прежде такое помогало. Лишившись в глуши привычной обстановки своих роскошных особняков и столичных развлечений, советники парламента, тяготясь скромностью провинциального быта, быстро впадали в тоску. Продолжительная ссылка обычно делала их более покладистыми. Увы, теперь власть не могла ждать, так как на нее неумолимо надвигался финансовый кризис. Ссыльные же члены парламента, ощущая мощную поддержку со стороны общественного мнения, превозносившего их как «борцов против тирании министров», проявляли чудеса стойкости. В результате месяц спустя Ломени де Бриенн вынужден был вернуть парламент в столицу, получив от него в обмен ряд уступок по частным вопросам. От закона о всесословном поземельном налоге правительству пришлось отказаться.
Реформа Ламуаньона
Это был тупик. Спасти монархию от надвигающегося банкротства могла только реформа по перераспределению налогов. Однако в рамках существующей правовой процедуры не имелось никакой возможности провести такую реформу без согласия парламентов. Людовику XVI оставалось только сожалеть о своем безрассудном отказе от плодов «революции Мопу» и об опрометчивом восстановлении парламентов. Это побудило короля попытаться второй раз войти в ту же реку. По его распоряжению Кретьен-Франсуа де Ламуаньон, отвечавший в правительстве за вопросы юстиции, начал подготовку реформы, способной подорвать позиции парламентов.
8 мая 1788 года Парижский парламент в присутствии короля, то есть без возражений, вынужден был зарегистрировать подготовленные Ламуаньоном законы, согласно которым деятельность всех парламентов приостанавливалась на неопределенное время, их состав сокращался, а бóльшая часть полномочий передавалась 47 новым окружным судам. Право регистрации отныне получал только вновь учреждаемый Пленарный суд, куда вошли наиболее сговорчивые советники Парижского парламента, верхушка аристократии и высшие церковные иерархи.
Если в Париже регистрация законов Ламуаньона прошла относительно гладко, то в провинции они встретили ожесточенное сопротивление. Между тем законы могли вступить в силу только после регистрации их во всех 12 провинциальных парламентах. А вот с этим вышла незадача. Парламенты не только отказывались регистрировать эти акты и засыпали короля протестами, но и провоцировали антиправительственные выступления, инициаторами которых, как правило, выступали служащие судов. Во многих местах оппозиционное движение активно поддерживалось дворянством, которое было раздражено тем, что реформа ограничила юрисдикцию сеньориальных трибуналов. В Бретани солидарность с парламентом выразило также и духовенство. Ситуацию усугублял экономический кризис, который подогревал социальную напряженность и тем самым способствовал вовлечению в протесты все более широких слоев населения.
«День черепиц»
Наиболее драматичный оборот события приняли в Гренобле. Служащие парламента Дофинэ (советники, адвокаты, прокуроры, клерки, секретари, писцы и прочие), а также члены их семей составляли в этом городе значительную часть его 20-тысячного населения. Остальные горожане зарабатывали себе на хлеб, обслуживая самих судейских и участников тяжб, приезжавших сюда со всей провинции. Неудивительно, что законы Ламуаньона, которые местный парламент все же зарегистрировал под угрозой применения к нему военной силы, вызвали в Гренобле широкое недовольство. Прекращение работы парламента означало исчезновение источника доходов для слишком многих семей. 12 мая муниципалитет Гренобля осудил использование военной силы против судейских, а 20 мая городские власти и советники парламента выступили с совместным заявлением о незаконности произошедшего. Узнав о протесте, Ломени де Бриенн распорядился сослать непокорных судейских в их сельские имения.
7 июня начались первые высылки. Была суббота, рыночный день. Вышедший за покупками народ заполнил узкие улочки города, стесненного кольцом крепостных стен. Недовольство горожан уже было изрядно подогрето ходившей по рукам антиправительственной брошюрой, которую накануне анонимно выпустил молодой адвокат парламента Антуан Барнав. Известие же о высылке членов парламента и вовсе стало той искрой, что вызвала взрыв. Лавки немедленно закрылись. Возбужденные жители блокировали городские ворота, чтобы не позволить судейским уехать. Тех советников парламента, кто уже сел в кареты, горожане заставили вернуться домой, внесли следом их вещи и распрягли лошадей. Женщины ударили в набат. Не понимая, что случилось, крестьяне из соседних деревень поспешили по сигналу бедствия в город, где влились в толпу, охваченную мятежными настроениями. Группа восставших попыталась прорваться во дворец губернатора. В стычке с охранявшими здание солдатами одного из мятежников ранили штыком. Вид крови разъярил бунтовщиков, которые принялась забрасывать солдат камнями и черепицей с крыш, из-за чего эти события и вошли в историю как «День черепиц». Атаке также подверглись находившиеся в городе военные патрули. Многие из солдат получили серьезные ранения, в том числе сержант Жан-Батист Бернадот, будущий наполеоновский маршал и король Швеции. Защищаясь, военные открыли огонь, убив и ранив нескольких бунтовщиков. Видя, что дело зашло слишком далеко, представители городской власти попытались успокоить толпу, но сами подверглись побоям и оскорблениям.
Опасаясь дальнейшего обострения ситуации, командующий гарнизоном отвел солдат в казармы и отложил высылку судейских. Ликующие горожане силой препроводили последних в здание парламента, заставив облачиться там в мантии и занять свои привычные места. После этого на рыночной площади начался стихийный народный праздник. Ярость сменилась буйным весельем. Жители Гренобля пустились в пляс, распевая: «Да здравствует наш дорогой парламент! Боже, храни короля! Черт побери Бриенна и Ламуаньона!»
Пять дней спустя опальные судейские все же потихоньку сами покинули город и добровольно отправились к месту ссылки – в свои загородные дома. Однако уже 21 июля представители всех трех сословий Дофинэ, по инициативе молодых адвокатов Жана Жозефа Мунье и все того же неугомонного Барнава, собрались неподалеку от Гренобля в замке Визиль. Там они объявили о восстановлении давно закрытых Штатов провинции Дофинэ – старого сословно-представительного органа, который, однако, теперь должен был строиться на принципиально иной основе, чем ранее. Третье сословие отныне получало право иметь там столько же депутатов, сколько первые два вместе взятые. Голосование решено было производить индивидуально: один человек – один голос.
Поражение министров-реформаторов
Хотя в других городах до таких эксцессов, как гренобльский «День черепиц», дело не дошло, судейские везде так или иначе оказывали сопротивление правительственным инициативам. Акты неповиновения центральным властям стали повседневностью. Ломени де Бриенн попытался сбить волну оппозиционных настроений, призвав всех желающих открыто высказывать свои соображения относительно будущего созыва Генеральных штатов. Это, по сути, означало признание свободы слова. Однако антиправительственные волнения продолжались по всей стране. Брожение проникло даже в армию.
Министрам пришлось признать свое поражение. 8 августа реформу Ламуаньона отменили. Было объявлено, что 1 мая 1789 года соберутся Генеральные штаты, созыва которых требовали и собрание нотаблей, и парламенты, и пресса. Вместе с тем, поскольку решение финансового вопроса так и не было найдено, монархия 15 августа приостановила платежи по государственному долгу. Сегодня такой шаг назвали бы техническим дефолтом. Расписавшись в неспособности исправить ситуацию, Ломени де Бриенн 25 августа ушел в отставку, а 14 сентября его примеру последовал Ламуаньон.
Прислушиваясь к общественному мнению, Людовик XVI назначил популярного Неккера новым главой правительства. Широкая публика, и особенно держатели государственных ценных бумаг, с одобрением восприняли возвращение во власть «финансового гения», не подозревая, что на самом деле бюджетный кризис во многом был делом именно его рук.
Спор об организации Генеральных штатов
Впрочем, общественное мнение уже мало интересовалось чехардой министров: оно переключилось на предстоявший созыв Генеральных штатов. Вопрос о порядке их работы расколол антиправительственную оппозицию. Парижский парламент, восстановивший в сентябре 1788 года свои позиции, заявил, что организация Генеральных штатов должна быть такой же, как в 1614 году, когда их созывали в последний раз. Тогда все сословия имели поровну депутатов, а голосование проходило по принципу «одно сословие – один голос». Другие парламенты поддержали точку зрения Парижского, так же поступило и большинство дворян. Тем самым лидеры аристократической оппозиции открыто признали, что пытались ограничить власть монарха исключительно ради усиления собственного влияния и упрочения своих привилегий. Эгоистические устремления аристократии вошли в противоречие с популярной в обществе идеей удвоить число представителей третьего сословия по сравнению с двумя первыми и ввести индивидуальное голосование, как было сделано в недавно восстановленных Штатах Дофинэ. Удвоить число депутатов третьего сословия предлагал и Неккер.
Парламенты и лидеры аристократической оппозиции, выступив за традиционную форму деятельности Генеральных штатов, в одночасье утратили былую популярность. С осени 1788 года лидерство в оппозиционном движении перешло к просвещенной элите. Это внесословное, политически активное меньшинство исповедовало идеалы Просвещения – принципы народного суверенитета, естественных прав человека, ответственности властей перед народом, установления политических и гражданских свобод, секуляризации общественной жизни и т. д. Именно просвещенная элита и дала Революции ее главных лидеров.

Эта новая оппозиция, отличная от прежней, аристократической, получила у современников название «патриотической партии». Ее неформальным координирующим центром стал так называемый Комитет тридцати, куда вошла целая плеяда ярких личностей, которые сыграют в Революции ведущие роли. «Герой Старого и Нового света», маркиз Лафайет, как уже отмечалось, завоевал огромную популярность, сражаясь добровольцем на стороне американских колонистов против Англии. Аббат Эммануэль Жозеф Сийес к тому времени уже проявил себя способным публицистом. Бонвиван и любимец либеральных салонов, епископ города Отён Шарль Морис Талейран был хорошо известен в свете как вольнодумец и тонкий политик. Советник Парижского парламента Адриен Дюпор проявил себя одним из наиболее активных противников правительства в борьбе судейской корпорации против министров.
Однако даже в столь ярком созвездии талантов фигура Оноре Габриэля Рикетти, графа де Мирабо, выделялась своей неординарностью и скандальной репутацией. Сын известного философа Просвещения, маркиза де Мирабо, молодой граф по воле отца был отправлен в тюрьму за безнравственное поведение. Однако в заключении он соблазнил жену коменданта замка, в котором был заточен, и бежал с ней за границу. Схваченный полицейскими агентами и возвращенный во Францию, Мирабо был приговорен к смерти «за похищение чужой супруги». Впрочем, до казни дело не дошло, и граф отделался тремя с лишним годами тюремного заключения. За это время он написал ряд сочинений – политических, художественных и эротических. Выйдя на свободу, Мирабо провел ряд громких судебных процессов против аристократического семейства своей жены, продемонстрировав в ходе них великолепный дар оратора. Затем, по заданию французского правительства, он выполнял секретную миссию в Пруссии. И, наконец, проявив себя талантливым и плодовитым публицистом, Мирабо оказался одним из немногих, кто еще в 1786 году осмелился пойти против течения и подверг критике финансовую политику Неккера, находившегося тогда на пике популярности.
Каждый из членов Комитета тридцати был плотно интегрирован в те или иные социальные сети – литературные, академические, масонские, светские, которые пронизывали общество Старого порядка и объединяли приверженцев новых, просветительских ценностей. Комитет использовал все эти связи для того, чтобы развернуть агитацию в поддержку требования удвоить представительство третьего сословия и ввести индивидуальное голосование депутатов.
Активную роль в организации этой памфлетной кампании играло также окружение герцога Филиппа Орлеанского. Этот принц крови имел одно из самых больших состояний во Франции. Принадлежность к правящей династии и богатство обеспечивали ему достаточно высокую степень независимости, чем он и пользовался, открыто фрондируя по отношению к короне. При Людовике XV герцог вслух порицал «революцию Мопу», за что был сослан в свое поместье. При Людовике XVI он в собрании нотаблей обрушился с критикой на Калонна и ратовал за созыв Генеральных штатов, за что опять отправился в ссылку. С 1771 года Филипп Орлеанский возглавлял «Великий Восток» – конфедерацию масонских лож Франции. Кроме того, вокруг него всегда в поисках заработка крутились многочисленные журналисты и памфлетисты. Через масонские ложи и прессу он мог исподволь оказывать серьезное влияние на общественное мнение. Осенью 1788 года «Орлеанская клика», как недруги обычно называли его окружение, активно агитировала в пользу организации Генеральных штатов на новых принципах.

Для решения вопроса о порядке работы Генеральных штатов король в ноябре 1788 года вновь созвал собрание нотаблей. На сей раз их поведение диаметральным образом отличалось от того, что имело место полутора годами ранее. Некогда смелые критики правительства теперь приутихли, почувствовав реальную угрозу своему прежнему привилегированному положению. В конце концов, подавляющее большинство участников собрания смиренно попросило монарха сохранить сословные привилегии и традиционную форму организации Штатов.
Тем не менее Людовик XVI поддался уговорам Неккера и согласился пойти навстречу общественному мнению, которое активно подогревалось агитацией «патриотической партии». 27 декабря 1788 года было объявлено, что третье сословие в Генеральных штатах получит двойное представительство. Однако, сказав «а», король не решился сказать «б», а именно сразу же оговорить и порядок голосования в Генеральных штатах. В итоге непроясненным остался важнейший вопрос о том, останется ли все как раньше («одно сословие – один голос»), или же восторжествуют новые веяния («один депутат – один голос»). Выбранный монархом третий вариант оказался наихудшим из возможных: Людовик вообще никак не оговорил будущий порядок голосования, оставив принятие этого решения на потом. Тем самым он, сам того не ведая, заложил мину замедленного действия под весь институт Генеральных штатов – мину, взрыв которой позже приведет не только к их ликвидации, но и к множеству других далеко идущих и заранее никем не предвиденных последствий.
«День лямок»
Избирательная кампания в январе – апреле 1789 года проходила в беспокойной обстановке. Низы города и деревни, страдая от экономического кризиса и растущей дороговизны, находились в возбужденном состоянии. В разных местах то и дело вспыхивали голодные бунты. При этом беднякам, плохо разбиравшимся в сути разногласий между «аристократами» (сторонниками Старого порядка) и «патриотами» (приверженцами реформ), достаточно было любого малозначительного повода, чтобы выплеснуть недовольство на представителей верхов вне зависимости от того, к какой «партии» те принадлежали. Враждующие же элиты старались (тогда еще только эпизодически) направить гнев низов на своих политических противников. В данном отношении весьма показательны события в Бретани конца января 1789 года.
26 января в Ренне, столице провинции, состоялась манифестация наемных работников, занятых физическим трудом, – слуг, носильщиков портшезов[1], водоносов, грузчиков и других. Многие из них, работая, использовали для переноски тяжестей широкие кожаные ремни, из-за чего последующие события были названы потом «Днем лямок». Причиной протеста стала растущая дороговизна хлеба – основной пищи бедняков. Перед собравшимися выступил некий консьерж, заявивший, что снизить цены мешает конфликт в провинциальных Штатах между депутатами от дворянства, коих поддерживает парламент, и депутатами от третьего сословия, на чьей стороне муниципалитет. С криками «Да здравствует дворянство!» манифестанты направилась к парламенту, чтобы выразить ему свою поддержку. Сидевшие в близлежащем кафе студенты-юристы, сторонники «патриотической партии», враждебно встретили протестующих, полагая (возможно, небезосновательно), что на тех повлияли дворяне-«аристократы». Ссора переросла в стычку, и мускулистые работяги намяли бока задиристым школярам. На другой день те, взяв сабли и пистолеты, собрались вновь, вынашивая планы отмщения. От намерений молодые «патриоты» быстро перешли к действиям, после того как к ним прибежал окровавленный ремесленник-красильщик, тоже «патриот», крича, что его пырнул ножом в руку лакей дворянина. Главный студенческий заводила Жан-Виктор Моро повел школяров разбираться с дворянами. Моро уже восьмой год никак не мог закончить образование, но во всем, что не касалось учебы, пользовался большим авторитетом среди студентов. В будущем Революция сделает из него знаменитого генерала.
К возбужденным школярам по пути примкнули и другие горожане: кто-то из них симпатизировал «патриотической партии», кто-то просто не любил дворян с их привилегиями. Когда Моро постучался в двери монастыря кордельеров, за которой заседали депутаты провинциальных Штатов от дворянства, позади него уже теснилась толпа в несколько сот человек. Ничего хорошего дворянам этот визит не сулил, но у них тоже имелось оружие. Как только дверь открылась, с обеих сторон грянули выстрелы. Сомкнув ряды, дворяне, возглавляемые маркизом де ла Руёри, боевым офицером и героем войны в Северной Америке, со шпагами в руках ринулись сквозь толпу. В их числе был и Франсуа-Рене де Шатобриан, в будущем знаменитый писатель и политик, а тогда еще совсем молодой человек. В позднейших мемуарах он весьма красочно опишет этот отчаянный прорыв: «Народ встретил нас улюлюканьем, градом камней, ударами железных палок и пистолетными выстрелами. Мы пробились сквозь окружавшую нас человеческую массу. Нескольких дворян ранили, их хватали, рвали, награждали синяками и ушибами». В свалке погибли два дворянина и молодой мясник. Тем не менее прорыв увенчался успехом.
На другой день стычки возобновились. Военный комендант города тщетно призывал враждующие стороны сложить оружие. Однако, когда в город прибыли четыре сотни студентов из Нанта, чья репутация была еще хуже, чем у их реннских собратьев, дворяне почли за благо замириться. Вместе с тем они поклялись, что не отправят своих депутатов в Генеральные штаты до тех пор, пока те не будут организованы традиционным образом. Это была политическая ошибка. Дворянство Бретани, таким образом, оставалось без депутатов в общенациональном представительном органе, добровольно уступив парламентскую трибуну своим противникам.
«Аристократический заговор»
«Патриотическая партия» тоже пыталась сыграть на социальном недовольстве и направить его против правительства и старых элит. В январе 1789 года вышел в свет и немедленно получил широчайшую известность памфлет члена Комитета тридцати, аббата Сийеса, «Что такое третье сословие?». На вынесенный в заголовок вопрос автор отвечал: «Всё!» – и далее продолжал: «А чем оно до сих пор было? – Ничем! – А чего оно требует? – Стать хоть чем-то». Несмотря на, казалось бы, скромные претензии, Сийес фактически противопоставил дворян всей остальной нации, отказав им в праве считаться ее частью. Подхватив и развив эту идею, публицистика «патриотов» принялась формировать в общественном сознании образ врага – аристократии, якобы виновной во всех бедах народа и плетущей против него заговор.

Идея «аристократического заговора» витала над избирательными собраниями третьего сословия. Она служила универсальным объяснением для всего чего угодно: дороговизны («аристократы морят народ голодом»), выступлений крестьян и плебса против имущей части третьего же сословия («аристократы натравливают народ на патриотов»), нерешительности короля в проведении реформ («аристократы морочат ему голову») и т. д. и т. п. Идея заговора не требовала доказательств и воспринималась как самоочевидная. Вот, к примеру, зарисовка с избирательного собрания в парижском дистрикте Сен-Рок, сделанная современником – Жаком Демишелем, служившим тогда гувернером у юного барона Григория Строганова: «Один из собравшихся заявил, что он уверен в существовании заговора, участники которого намерены добиться отставки Неккера, и предложил вынести постановление от имени коммуны Парижа, умоляя короля сохранить столь дорогого нации министра. Он предложил также сообщить об этом постановлении всем дистриктам города. Об этом заговоре известили депутацию от дворянства, так же как и о вынесенном по данному поводу постановлении». Характерно, что никто даже не попросил у гражданина каких-либо доказательств, – одного только «он уверен» оказалось достаточно, чтобы перейти к практическим действиям.
Благодаря точно такой же уверенности провинциальный адвокат Максимилиан Робеспьер выиграл выборы в городе Аррасе и стал депутатом Генеральных штатов. До того времени он являлся достаточно ординарным представителем просвещенной элиты, который, как все, читал модных философов, обсуждал с друзьями их идеи, а порой и сам выносил свои сочинения на суд местного литературного общества. От многих других его отличало, пожалуй, только гипертрофированное честолюбие – ощущение себя непризнанным гением. Ухаживая за женщинами, он отправлял им в любовных письмах тексты своих многословных и тяжеловесных выступлений в суде, очевидно полагая подобную демонстрацию собственных достоинств наиболее надежным средством завоевать сердце дамы. И это в галантный век, высоко ценивший искусство легкой и остроумной светской беседы! Надо ли удивляться, что с женщинами ему не везло? Не удалось ему снискать и литературных лавров. Да и в профессии адвоката он проявил себя не более чем крепким середняком. Следуй Робеспьер и далее своим обычным путем, ему, конечно, не достался бы первый приз в том состязании честолюбий, в которое вылились многоступенчатые выборы в Генеральные штаты. На всех промежуточных финишах он находился лишь в середине проходившей на следующий уровень группы. Однако перед решающим этапом Робеспьер объявил в печати о существовании антинародного заговора, с которым, дескать, только он и знает, как справиться. Сработало. Робеспьер получил «первый приз» – депутатский мандат – и отправился в столицу бороться с «заговором» в масштабах всей страны.
«Дело Ревельона»
Чем дальше страна погружалась в эпоху перемен, тем больше нарастали экономические трудности. Множество одновременных локальных конфликтов политического характера серьезно ослабили государство, и оно уже не могло выполнять свои социальные и регулирующие функции как прежде. В условиях экономического кризиса это особенно болезненно сказывалось на малоимущих. В марте голодные бунты произошли в Реймсе, Марселе и Эксе. Однако апогеем подобных выступлений в период Предреволюции стали парижские события 27–29 апреля 1789 года, известные как «дело Ревельона».
Жан-Батист Ревельон владел обойной мануфактурой в Сент-Антуанском предместье. Успешный предприниматель, он использовал новые технологии, дружил с изобретателями и учеными. Из произведенной на его предприятии бумаги братья Монгольфье склеили свой первый воздушный шар и в благодарность позднее назвали «Ревельоном» монгольфьер, предназначенный для первого пилотируемого полета. За успешную работу мануфактуре Ревельона присвоили статус королевской, наградив целым рядом сопутствующих привилегий. Благодаря им, он смог установить рабочим достаточно высокое жалование, компенсировать за свой счет их вынужденные из-за кризиса простои и платить их семьям пособия по утрате кормильца. Неудивительно, что столь прогрессивного во всех отношениях человека избиратели от третьего сословия сделали одним из 300 парижских выборщиков, которым предстояло избрать в столице 20 депутатов Генеральных штатов. С этого-то и начались его злоключения.
Порядок выборов каждая из французских провинций определяла самостоятельно. В Париже правом голоса обладали мужчины не моложе 25 лет, имевшие здесь постоянное место жительства и платившие в год не менее 6 ливров подушного налога. А значит, огромное множество безработных, наводнивших парижские предместья в поисках заработка, осталось вне избирательного процесса. По свидетельству современников, они толпились у церквей, где шло голосование, и спрашивали у выходящих: «Занимаются ли нами? Думают ли о том, чтобы понизить цену на хлеб? Мы голодаем».
Их беды и в самом деле не остались без внимания. Прогрессивный предприниматель и филантроп Ревельон 23 апреля заявил на собрании выборщиков своего дистрикта, что при такой дороговизне рабочему невозможно прожить на дневной заработок в 15 су. Его возмущение разделил еще один прогрессивный предприниматель и филантроп – владелец фабрики по производству селитры Анрио. Лучше бы они этого не делали.
Дневной заработок в 15 су считался нищенским. При дороговизне тех дней прожить на него действительно было невозможно. Своим рабочим Ревельон, несмотря на кризис, платил в три с лишним раза больше. Однако кто-то что-то не расслышал или не понял. Возможно, стоявшим у дверей церкви вообще было плохо слышно то, что говорится внутри. Но в тот же день по Парижу пополз слух, что донельзя обнаглевшие богачи Ревельон и Анрио предлагают снизить заработки рабочих до 15 су в день.
Два дня ушло на то, чтобы это известие из уст в уста разошлось по рабочим предместьям и те хорошенько «прогрелись». 27 апреля возмущение выплеснулось на улицы. Собравшаяся у Бастилии трехтысячная толпа (позднее следствие установило, что в ней не было ни одного рабочего с фабрики самого Ревельона) направилась к Ратуше с возгласами: «Смерть богачам! Смерть аристократам! Смерть спекулянтам! Утопить чертовых попов!» Собственно, к Ревельону и Анрио можно было отнести лишь первое требование. Хлебом ни тот ни другой не спекулировали. «Аристократы» же и «чертовы попы» для них обоих, принадлежавших по своим взглядам скорее к «патриотической партии», и вовсе являлись политическими оппонентами. Однако беднота в нюансах политической жизни не разбиралась. На Королевской площади манифестанты зачитали «приговор», осудив «именем третьего сословия» Ревельона и Анрио на смерть. На Гревской площади чучела обоих были вздернуты на виселицы. Вернувшись в Сент-Антуанское предместье, толпа направилась к дому Ревельона. Встретив здесь солдат, она повернула к особняку Анрио, который разгромила самым беспощадным образом. Вся внутренняя обстановка была выброшена из окон и сожжена. Сам Анрио остался жив только потому, что бежал с семьей в Венсенский замок и укрылся в его донжоне.
Утром 28 апреля бунт возобновился. На сей раз дом Ревельона не спасли даже защищавшие его солдаты. Этот особняк тоже подвергся тотальному разгрому с сожжением или разграблением всего имущества. Фабриканту и его семье пришлось укрыться в Бастилии. Для усмирения разбушевавшейся не на шутку толпы власти направили войска, которым восставшие оказали ожесточенное сопротивление. Двенадцать солдат были убиты, несколько десятков ранены. Точное число убитых мятежников установить не удалось: по разным оценкам, оно колебалось от нескольких десятков до нескольких сотен. 29 апреля были осуждены и повешены два бунтовщика, найденные мертвецки пьяными в разоренном доме Ревельона. Власти объявили их зачинщиками беспорядков.
Бунт в Сент-Антуанском предместье, случившийся всего за неделю до открытия Генеральных штатов, стал своего рода предостережением для элит, занятых борьбой друг с другом и не слишком обращавших внимание на происходившее в низах. Между тем «дело Ревельона» показало, что суровые мужчины в длинных брюках и темных блузах из грубой ткани – так выглядел тогда городской плебс – имели свою собственную повестку дня, далекую от той, которую ему предлагали просвещенные «патриоты» в шелковых чулках и бархатных камзолах. Однако этот сигнал услышан не был.