
Раздел I.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Акулькин муж
Рассказ из «Записок из Мёртвого дома» (Ч. 2, гл. IV). Вр, 1862, № 3. (IV)
Основные персонажи: Акулина Анкудимовна (Кудимовна);
Анкудим Трофимыч;
Морозов Филька;
Шишков.
Повествователь «Записок из Мёртвого дома» в душную бессонную ночь в палате острожного госпиталя невольно подслушал эту исповедь арестанта Шишкова, который рассказывал соседу по койкам, как и почему попал он на каторгу. Это была одна из тех историй, о которых в 1-й главе «Записок» сказано: «А между тем у всякого была своя повесть, смутная и тяжёлая, как угар от вчерашнего хмеля…» Муж, горячо любящий жену, из-за ревности начал бить её смертным боем, а затем и вовсе зарезал… Это – реальная история, которую Достоевский кратко записал на полях «Сибирской тетради». Рассказ стилизован под чужой сказовый тон.
Атеизм
Неосущ. замысел, 1868.
За границей, заканчивая работу над романом «Идиот», Достоевский задумывает ряд сюжетов-замыслов, в том числе и – большого произведения под таким названием. Впервые о нём упоминается в письме к А. Н. Майкову из Флоренции (11 /23/ дек. 1868 г.): «Здесь же у меня на уме теперь 1) огромный роман, название ему «Атеизм» (ради Бога, между нами), но прежде чем приняться за который, мне нужно прочесть чуть не целую библиотеку атеистов, католиков и православных. Он поспеет, даже при полном обеспечении в работе, не раньше как через два года. Лицо есть: русский человек нашего общества, и в летах, не очень образованный, но и не необразованный, не без чинов, – вдруг, уже в летах, теряет веру в Бога. Всю жизнь он занимался одной только службой, из колеи не выходил и до 45 лет ничем не отличился. (Разгадка психологическая; глубокое чувство, человек и русский человек). Потеря веры в Бога действует на него колоссально. (Собственно действие в романе, обстановка – очень большие). Он шныряет по новым поколениям, по атеистам, по славянам и европейцам, по русским изуверам и пустынножителям, по священникам; сильно, между прочим, попадается на крючок иезуиту, пропагатору, поляку; спускается от него в глубину хлыстовщины – и под конец обретает и Христа и русскую землю, русского Христа и русскую землю. (Ради Бога, не говорите никому; а для меня так: написать этот последний роман, да хоть бы и умереть – весь выскажусь) <…> Но покамест нужно жить! “Атеизм” на продажу не потащу…»
Об «Атеизме» писатель будет упоминать ещё не раз (в письмах к тому же А. Н. Майкову и племяннице С. А. Ивановой), но срочная работа над подготовкой «Идиота» к отдельному изданию и над повестью (рассказом) «Вечный муж» мешала приступить к осуществлению замысла. К тому же, как подчёркивал Достоевский, мысль его могла быть осуществлена только в России, ибо нужны были свежие впечатления русской жизни. Однако ж он продолжал разрабатывать сюжет, замысел расширялся, претерпевал изменения и, в конце концов, к лету 1869 г. перерос в новый, под названием – «Житие Великого грешника», из которого, в свою очередь, «выросли» отдельные сюжетные линии трёх последних романов Достоевского – «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы».
Бедные люди
Роман. «Петербургский сборник», 1846. (I)
Основные персонажи:
Анна Фёдоровна;
Быков;
Горшков;
Девушкин Макар Алексеевич;
Добросёлова Варвара Алексеевна;
Емельян Иванович;
Емельян Ильич (Емеля);
Марков;
Покровский Захар Петрович;
Покровский Пётр;
Ратазяев;
Саша;
Снегирёв;
Федора.

Ф. М. Достоевский. Художник К. А. Трутовский, 1847 г.
Роману предпослан эпиграф – фрагмент рассказа В. Ф. Одоевского «Живой мертвец»: «Ох уж эти мне сказочники! Нет чтобы написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное, а то всю подноготную в земле вырывают!.. Вот уж запретил бы им писать! Ну, на что это похоже: читаешь… невольно задумываешься, – а там всякая дребедень и пойдет в голову; право бы, запретил им писать; так-таки просто вовсе бы запретил» (у Одоевского вместо «запретил» – «запретить»).
Первое произведение Достоевского имеет эпистолярную форму. Оно составлено из переписки Девушкина и Вареньки Добросёловой. Перу первого принадлежит 31 письмо, перу второй – 24. Кроме того, в роман включена вставная повесть о студенте Покровском, которую написала Варенька. Действие длится в течение полугода – с начала апреля по конец сентября.
Читателю остаётся неизвестным, как и когда познакомились герои романа, в момент начала действия они живут в соседних домах, из окна Девушкина видно окно квартиры, которую снимает Варенька. Выясняется, что Макар Алексеевич осмеливается, несмотря на пересуды, изредка навещать Вареньку (которая по возрасту ему в дочери годится), они встречаются в церкви, даже, бывает, гуляют за городом, но главный способ их общения – переписка. Из неё читатели и узнают всю жизнь героев, а особенно – жизнь-судьбу Вареньки, которая пересылает Девушкину с одним из писем автобиографическую повесть о своей юности и первой любви.
Название романа, конечно, двузначно. С одной стороны, герои романа в прямом смысле бедные (нищие) люди, с другой, – обделённые счастьем, достойные сожаления и, по Далю, возбуждающие сострадание. Хотя, в общем-то, именно в эти полгода они были как раз счастливы – жили друг для друга, любили друг друга, хотя и не решались сами себе и друг другу в этом признаться до конца. Да и то! Любовь их была обречена с самого начала, их нищета, беззащитность и смиренность тому причиной. И хотя наивный Макар Алексеевич надеется, что их любовь-дружба и жизнь по соседству будут продолжаться вечно, появляется некий богатый господин Быков, который и ранее уже имел виды на Вареньку, делает ей предложение, и бедная девушка вынуждена дать согласие, пойти замуж как на каторгу, а Макар Алексеевич Девушкин остаётся в своём убогом углу доживать-погибать в нищете и одиночестве…
Сам Достоевский на склоне лет в «Дневнике писателя» дважды (январь и ноябрь 1877 г.) свидетельствовал, что «Бедные люди» он начал «вдруг» в январе 1844 г., сразу после окончания перевода «Евгении Гранде» О. де Бальзака. Но только 30 сентября начинающий писатель признаётся в письме к брату М. М. Достоевскому: «У меня есть надежда. Я кончаю роман в объёме ”Eugenie Grandet”. Роман довольно оригинальный. Я его уже переписываю, к 14-му я наверно уже и ответ получу за него. Отдам в “О<течественные> з<аписки>”. (Я моей работой доволен)…»
Но в указанные сроки Достоевскому уложиться не удалось, он продолжал дорабатывать и переписывать «Бедных людей» снова и снова, и в результате роман был закончен только в мае 1845 г. Сотоварищ его по Инженерному училищу и будущий писатель Д. В. Григорович, поселившийся с Достоевским как раз в конце сентября 1844 г. на одной квартире, вспоминал о том, как Достоевский работал над первым своим романом: «Достоевский между тем просиживал целые дни и часть ночи за письменным столом. Он словом не говорил о том, что пишет; на мои вопросы он отвечал неохотно и лаконически; зная его замкнутость, я перестал спрашивать. Я мог только видеть множество листов, исписанных тем почерком, который отличал Достоевского: буквы сыпались у него из-под пера точно бисер, точно нарисованные…» [Д. в восп., т. 1, с. 207]
Григоровичу и посчастливилось стать первым слушателем дебютного произведения никому ещё не известного писателя. Между прочим, к тому времени Григорович уже опубликовал свой первый большой очерк «Петербургские шарманщики» в программном сборнике литераторов «натуральной школы» – альманахе Н. А. Некрасова «Физиология Петербурга», имевшем большой успех, имя его в литературных кругах было уже известно. Автор «Шарманщиков» сразу понял-осознал, какую талантливую вещь написал Достоевский и немедленно отнёс её Некрасову, собиравшему материалы для нового сборника. А дальше произошло то, о чём сам Достоевский с нескрываемой гордостью и внутренним восторгом вспоминал через много лет – в том же ДП (1877, янв.): «Вечером того же дня, как я отдал рукопись, я пошёл куда-то далеко к одному из прежних товарищей; мы всю ночь проговорили с ним о “Мёртвых душах” и читали их, в который раз не помню. <…> Воротился я домой уже в четыре часа, в белую, светлую как днём петербургскую ночь. Стояло прекрасное тёплое время, и, войдя к себе в квартиру, я спать не лёг, отворил окно и сел у окна. Вдруг звонок, чрезвычайно меня удививший, и вот Григорович и Некрасов бросаются обнимать меня, в совершенном восторге, и оба чуть сами не плачут. Они накануне вечером воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать, на пробу: “С десяти страниц видно будет”. Но, прочтя десять страниц, решили прочесть ещё десять, а затем, не отрываясь, просидели уже всю ночь до утра, читая вслух и чередуясь, когда один уставал. <…> Когда они кончили (семь печатных листов!), то в один голос решили идти ко мне немедленно: “Что ж такое что спит, мы разбудим его, это выше сна!” <…> Они пробыли у меня тогда с полчаса, в полчаса мы Бог знает сколько переговорили, с полслова понимая друг друга, с восклицаниями, торопясь; говорили и о поэзии, и о правде, и о “тогдашнем положении”, разумеется, и о Гоголе, цитуя из “Ревизора” и из “Мёртвых душ”, но, главное, о Белинском. “Я ему сегодня же снесу вашу повесть, и вы увидите, – да ведь человек-то, человек-то какой! Вот вы познакомитесь, увидите, какая это душа!” – восторженно говорил Некрасов, тряся меня за плечи обеими руками. “Ну, теперь спите, спите, мы уходим, а завтра к нам!” Точно я мог заснуть после них! Какой восторг, какой успех, а главное – чувство было дорого, помню ясно: “У иного успех, ну хвалят, встречают, поздравляют, а ведь эти прибежали со слезами, в четыре часа, разбудить, потому что это выше сна… Ах хорошо!” Вот что я думал, какой тут сон!..»
Некрасов, передавая на следующий день рукопись «Бедных людей» В. Г. Белинскому, восторженно воскликнул: «Новый Гоголь явился!», – на что суровый критик укоризненно сказал: «У вас Гоголи-то как грибы растут!» Но по прочтении рукописи «неистовый Виссарион» сам пришёл в восхищение, и именно он уже в первом разговоре с молодым автором очень точно объяснил своеобразие и глубину как таланта самого Достоевского, так и его первого произведения: «А эта оторвавшаяся пуговица, а эта минута целования генеральской ручки, – да ведь тут уж не сожаление к этому несчастному, а ужас, ужас! В этой благодарности-то его ужас! Это трагедия! Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали. Мы, публицисты и критики, только рассуждаем, мы словами стараемся разъяснить это, а вы, художник, одною чертой, разом в образе выставляете самую суть, чтоб ощупать можно было рукой, чтоб самому нерассуждающему читателю стало вдруг всё понятно! Вот тайна художественности, вот правда в искусстве! Вот служение художника истине! Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!..» А рекомендуя П. В. Анненкову произведение ещё не известного автора, Белинский подчеркнул: «…роман открывает такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него и не снились никому <…>. Это первая попытка у нас социального романа, и сделанная притом так, как делают обыкновенно художники, то есть не подозревая и сами, что у них выходит…» [Д. в восп., т. 1, с. 214] Позже В. Н. Майков в статье «Нечто о русской литературе в 1846 г.» (ОЗ, 1847, № 1), определяя своеобразие таланта автора «Бедных людей», как бы поправит Белинского: «И Гоголь и г-н Достоевский изображают действительное общество. Но Гоголь – поэт по преимуществу социальный, а г-н Достоевский – по преимуществу психологический…» И уже сам Достоевский в письме к брату, отвергая упрёк в растянутости «Бедных людей», пояснял, что в романе «слова лишнего нет», так как каждое из них по отдельности и все они вместе служат для анализа душевных состояний персонажей изнутри.
Уже в этом первом произведении Достоевского появилась «героиня», которая во всём творчестве писателя будет играть одну из главных ролей – Литература. Макар Девушкин и Варенька Добросёлова, по существу, являются литераторами, ибо из их писем составлено художественное произведение, среди персонажей есть и «настоящий» почти профессиональный сочинитель Ратазяев, кроме того, герои романа читают книги, обсуждают их, в текст «Бедных людей» искусно вплетены пародийные отрывки.
21 января 1846 г. вышел в свет «Петербургский сборник» с «Бедными людьми», которые его открывали. И сам сборник, и роман Достоевского успех имели необыкновенный. Но ещё до выхода некрасовского альманаха начинающий писатель успел уже вкусить сладкие плоды литературной славы. В письмах той поры к старшему брату Михаилу Достоевский просто задыхается от счастья: «Я бываю весьма часто у Белинского. Он ко мне донельзя расположен <…> о “Бедных людях” говорит уже пол-Петербурга…» (8 октября 1845 г.); «Ну, брат, никогда, я думаю, слава моя не дойдёт до такой апогеи, как теперь. Всюду почтение неимоверное, любопытство насчёт меня страшное. Я познакомился с бездной народу самого порядочного. Князь Одоевский просит меня осчастливить его своим посещением, а граф Соллогуб рвёт на себе волосы от отчаяния. Панаев объявил ему, что есть талант, который их всех в грязь втопчет. <…> Все меня принимают как чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли, что Достоев<ский> то-то сказал, Достоев<ский> то-то хочет сделать. Белинский любит меня как нельзя более. А днях воротился из Парижа поэт Тургенев <…> и с первого раза привязался ко мне такою привязанностию, такою дружбой, что Белинский объясняет её тем, что Тургенев влюбился в меня. <…> я откровенно тебе скажу, что я теперь упоён собствен<ной> славой своей…» (16 ноября 1845 г.)
Однако отзывы критиков были полярно противоположны. Если Белинский несколько раз (ОЗ, 1846, № 2, 3) и (С, 1847, № 1, 11; 1848, № 1) неизменно высоко оценивал первое произведение Достоевского, если А. А. Григорьев («Ведомости С.-Петербургской городской полиции», 1846, № 33; «Финский вестник», 1846, № 9), В. Н. Майков (ОЗ, 1847, № 1) считали появление «Бедных людей» событием в русской литературе, то со страниц, к примеру, «Иллюстрации» и «Северной пчелы» на автора и его роман вылились потоки ругани и злобных насмешек. Ещё бы! Издателем «Иллюстрации» был Н. В. Кукольник, а «Северной пчелы», соответственно, – Ф. В. Булгарин, произведения которых в романе Достоевского стали объектами язвительной пародии. Но дело даже не в пародии (она была следствием), а в том, что Кукольник с Булгариным отлично понимали: с появлением «Бедных людей» их творчество становится вчерашним днём, неактуальным, невостребованным, а «натуральная школа» (термин Булгарина), наоборот, выдвигается в первый ряд, завоёвывает умы и сердца читателей.
Достоевский обиду маститых литераторов вполне понимал и, судя по всему, не обижался. Тем более, цену себе он уже знал как никто другой. В письме всё к тому же главному своему конфиденту Михаилу он пишет (1 фев. 1846 г.): «Ну, брат! <…> В “Иллюстрации” я читал не критику, а ругательство. В “Северной пчеле” было чёрт знает что такое. Но я помню, как встречали Гоголя, и все мы знаем, как встречали Пушкина…» Можно было бы посчитать такое заявление нескромным, но молодой писатель в данном случае почти дословно цитирует начало статьи-рецензии Белинского на «Петербургский сборник», а чуть далее в своём письме Достоевский и вовсе как бы передаёт слово авторитетному критику: «Зато какие похвалы слышу я, брат! Представь себе, что наши все и даже Белинский нашли, что я даже далеко ушёл от Гоголя…»
К сожалению, последующие произведения Достоевского («Двойник», «Роман в девяти письмах», «Господин Прохарчин», «Хозяйка») уже не вызовут восторга ни у «наших» (то есть – Некрасова, Тургенева, Григоровича, Панаева), ни у Белинского, который в своих последних отзывах о «Бедных людях» всё строже указывал на недостатки произведения, в первую очередь – в языке и стиле. В 1847 г., подготавливая роман к отдельному изданию, Достоевский в свете этих замечаний-советов сократил длинноты, сделал стилистическую правку текста. Затем ещё дважды, при подготовке своих собраний сочинений в 1860 и 1865 гг., писатель вносил правку в текст романа.
«Бедные люди» по праву занимают самое значительное место в творчестве «раннего» Достоевского. Белинский подчеркнул в рецензии на «Петербургский сборник», что «так ещё никто не начинал из русских писателей». Сегодня можно смело добавить – и после Достоевского не начал!

Белые ночи
Сентиментальный роман (Из воспоминаний мечтателя). Повесть. ОЗ, 1848, № 12. (II)
Основные персонажи:
Бабушка;
Жилец;
Мечтатель;
Настенька.
Повести предпослан эпиграф – неточная цитата из стихотворения И. С. Тургенева «Цветок»: «…Иль был он создан для того, / Чтобы побыть хотя мгновенье / В соседстве сердца твоего?..» В журнальном варианте имелось посвящение поэту А. Н. Плещееву.
Произведение состоит из четырёх глав-ночей (Ночь первая. Ночь вторая…), вставного небольшого рассказа «История Настеньки» и завершается главкой-заключением «Утро».
Герой повести, молодой бедный совершенно одинокий человек, который уже восемь лет живёт в Петербурге, но так и не нажил знакомых. Он поэт по натуре, мечтатель, он способен, как ему кажется, быть счастливым и в одиночестве, но… так хочется порой поделиться с кем-нибудь своими радостями и горестями! Однажды, возвращаясь поздно вечером после загородной прогулки домой, в свой закоптелый угол, Мечтатель видит стоящую у перил канала девушку. Никогда не решился бы он подойти к ней (а так хотелось-мечталось!), если б не случай: прохожий нетрезвый господин проявил к девушке недвусмысленное внимание, Мечтатель бросается на защиту…
И вот, так случайно познакомившись, Мечтатель и Настенька ещё в течение трёх вечеров встречаются, общаются, исповедуются друг перед другом и – расстаются. Дело в том, что у Настеньки есть жених, который год назад уехал по делам в Москву, обещав ровно через год вернуться и жениться на Настеньке. И вот, как ей стало известно, жених уже три дня в Петербурге, но вестей о себе не подаёт. Мечтателю и выпадает роль конфидента и утешителя бедной девушки. Он, разумеется, влюбляется в Настеньку всем сердцем, но даже и мечтать боится о взаимности, хотя и видит, что она с ним чрезвычайно ласкова… Увы, пропавший было жених объявляется, счастливая Настенька кидается ему в объятия, а бедный Мечтатель остаётся в своём углу опять со своим неизбывным одиночеством, грёзами и чýдными воспоминаниями об этих нескольких белых ночах. Он счастлив воспоминаниями, он благодарит и благословляет Настеньку за дарованное ею счастье: «Да будет ясно твоё небо, да будет светла и безмятежна милая улыбка твоя, да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастия, которое ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу!
Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую?..»
«Белые ночи» Достоевский написал в сентябре-ноябре 1848 г. Произведение это стоит несколько особняком в его творчестве. По светлости и поэтичности тона его можно сопоставить, разве что, только с рассказом «Маленький герой» («Детская сказка»), который писатель позже создаст-напишет в заключении. По существу это – поэма, большое стихотворение в прозе, посвящённое теме мечтательства как образа жизни, как способа существования и выживания.
Герои-мечтатели появляются уже в первом же произведении писателя, та же Варенька Добросёлова, к примеру, так сама себя характеризует: «Я была слишком мечтательна…» Чуть позже, в фельетоне «Петербургская летопись» (1847), Достоевский обозначит эту одну из самых кардинальных тем и этот один из самых главных типов во всём его последующем творчестве так: «В характерах, жадных деятельности, жадных непосредственной жизни, жадных действительности, но слабых, женственных, нежных мало-помалу зарождается то, что называют мечтательностию, и человек делается не человеком, а каким-то странным существом среднего рода – мечтателем». Впоследствии мечтателями станут и Неточка Незванова, и Иван Петрович, и Подпольный человек, и Игрок, и Раскольников, и князь Мышкин, и многие, многие другие герои в мире Достоевского.
Уже современники писателя оценили «Белые ночи» практически единодушно высоко. Такие авторитетные критики, как А. В. Дружинин (С, 1849, № 1), С. С. Дудышкин (ОЗ, 1849, № 1), А. А. Григорьев (РСл, 1859. № 5), Е. Тур («Русская речь», 1861, № 89) и ряд других особо подчёркивали, что это лучшее произведение в русской литературе за весь 1848-й год и что оно несравненно выше предыдущих произведений самого Достоевского – «Двойника», «Слабого сердца», «Хозяйки»…
Бесы
Роман в трёх частях. Впервые (без главы «У Тихона»): РВ, 1871, № 1, 2, 4, 7, 9—11; 1872, № 11, 12. (X, XI, XII)
Основные персонажи:
Алексей Егорович;
Алёна Фроловна;
Блюм Андрей Антонович (фон Блюм);
Верховенский Пётр Степанович (Петруша);
Верховенский Степан Трофимович;
Виргинская (девица Виргинская);
Виргинская Арина Прохоровна;
Виргинский;
Гаганов Артемий Павлович;
Гаганов Павел Павлович;
Г—в Антон Лаврентьевич;
Гимназист;
Дроздова (Тушина) Прасковья Ивановна;
Иван Осипович;
Иванов Анисим;
Капитон Максимович;
Кармазинов Семён Егорович;
Кириллов Алексей Нилыч;
Лебядкин Игнат Тимофеевич (капитан Лебядкин);
Лебядкина Марья Тимофеевна (Хромоножка);
Лембке Андрей Антонович, фон;
Лембке Юлия Михайловна, фон;
Липутин Сергей Васильевич;
Лямшин;
Матрёша;
Настасья;
Семён Яковлевич;
Ставрогин Николай Всеволодович;
Ставрогина Варвара Петровна;
Телятников Алексей;
Тихон (отец Тихон);
Толкаченко;
Тушина Лизавета Николаевна (Лиза);
Улитина Софья Матвеевна;
Федька Каторжный;
Флибустьеров Василий Иванович;
Хромой;
Шатов Иван Павлович;
Шатова Дарья Павловна;
Шатова Мария Игнатьевна (Marie);
Шигалев;
Эркель.

Роману предпосланы два эпиграфа: две строфы из «Бесов» А. С. Пушкина («Хоть убей, следа не видно, / Сбились мы, что делать нам? / В поле бес нас водит, видно, / Да кружит по сторонам. / … / Сколько их, куда их гонят, / что так жалобно поют? / Домового ли хоронят, / Ведьму ль замуж выдают?») и стихи 32—36 главы VIII Евангелия от Луки («Тут на горе паслось большое стадо свиней, и они просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидя случившееся, побежали и рассказали в городе и по деревням. И вышли жители смотреть случившееся и, пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся.»).
Сам автор объяснял смысл заглавия романа, эпиграфов, его идейно-философской концепции в письме к А. Н. Майкову (9 /21/ окт. 1870 г.): «Точь-в-точь случилось так и у нас. Бесы вышли из русского человека и вошли в стадо свиней, то есть в Нечаевых, в Серно-Соловьевичей и проч. Те потонули или потонут наверно, а исцелившийся человек, из которого вышли бесы, сидит у ног Иисусовых. Так и должно было быть. Россия выблевала вон эту пакость, которою её окормили, и, уж конечно, в этих выблеванных мерзавцах не осталось ничего русского. И заметьте себе, дорогой друг: кто теряет свой народ и народность, тот теряет и веру отеческую и Бога. Ну, если хотите знать, – вот эта-то и есть тема моего романа. Он называется “Бесы”, и это описание того, как эти бесы вошли в стадо свиней…»
Место действия в романе – тихий провинциальный город центральной России. Хотя он и не назван ни разу по имени, вполне определённо можно сказать, что это – Тверь, где Достоевскому довелось жить несколько месяцев после Сибири. Подобно Твери, губернский город в «Бесах» разделён на две части рекой, через которую перекинут понтонный мост. Заречье в романе, где жили брат и сестра Лебядкины, напоминает реальное Заволжье, фабрика Шпигулина напоминает текстильную фабрику Каулина; некоторые реальные лица, связанные с Тверью, послужили прототипами героев романа – Тихон Задонский, М. А. Бакунин, тверской губернатор П. Т. Баранов, его супруга, чиновник при губернаторе Н. Г. Левенталь…
Повествование ведётся от имени хроникёра Антона Лаврентьевича Г—ва. Начинает он его «несколькими подробностями из биографии многочтимого Степана Трофимовича Верховенского». И эта предыстория основного действия занимает 20 лет – с 1849 по 1869 г. В это двадцатилетие сам Степан Трофимович из передового профессора, либерала, «человека 40-х годов» превратился постепенно в простого домашнего учителя и, практически, в обыкновенного приживальщика в доме генеральши Ставрогиной. Весьма характерно, что он воспитывал сына хозяйки дома, Николая Ставрогина, и совершенно не занимался воспитанием родного сына Петруши – в результате из обоих выросли-получились «бесы».
И вот в реальном романном времени, буквально всего за месяц, с 12 сентября по 11 октября 1869 г., тихий до этого, полусонный городок, где текла своя привычная жизнь, сотрясают одна за другой цепь катастроф и смертей. Раньше за события здесь считались балы и пикники, местный бомонд развлекался сплетнями. Некоторое разнообразие в эту жизнь-существование вносила борьба за негласную власть над обществом между губернаторшей фон Лембке и генеральшей Ставрогиной. Обывателю казалось, что драматичнее и напряжённее этой борьбы ничего и быть не может. Но вот незадолго до начала действительно роковых событий в этот губернский город начинают съезжаться участники драмы. Года за полтора до этого возвращается из-за границы Шатов; за два месяца – въехал новый губернатор фон Лембке, с ним вместе чиновник Блюм; приблизительно в это же время вернулась из Швейцарии Варвара Петровна Ставрогина и появился мрачный философ Шигалев; менее чем за месяц – объявились в городе Лебядкин с сестрой и беглый Федька Каторжный; за две недели – Дроздовы и Дарья Шатова; за неделю – супруга губернатора и её родственник писатель Кармазинов; за пять дней до «открытия занавеса» приехал будущий самоубийца инженер Кириллов; ну и, наконец, 12 сентября, в день начала хроники-трагедии, прибыли в город главный герой спектакля Nicolas Ставрогин и главный режиссёр Петруша Верховенский.
Благодаря усиленным действиям и хитросплетениям последнего и начался в конце сентября апокалипсис местного значения в этом городе: пожар на Шпигулинской фабрике – убийство брата и сестры Лебядкиных – смерть Лизы Тушиной – убийство Шатова – самоубийство Кириллова – смерть Степана Трофимовича Верховенского – самоубийство Ставрогина…
В основе сюжета романа лежат реальные события. 21 ноября 1869 г. пять членов тайного общества «Народная расправа» во главе с С. Г. Нечаевым убили студента Петровской земледельческой академии И. И. Иванова, заподозренного ими в предательстве. «Бесы» задумывались поначалу как роман-памфлет на западников и нигилистов, но в итоге получился роман-трагедия о «болезни» всего русского общества. Задуман он был и частично написан за границей. Закончив в конце 1868 г. работу над «Идиотом», писатель весь следующий год посвятил разработке нескольких сюжетных замыслов, среди которых самый значительный – «Житие великого грешника», и написанию повести «Вечный муж». Началом создания непосредственно «Бесов» можно считать план романа «Зависть», который появился в рабочих тетрадях Достоевского в начале 1870 г.: в намеченных действующих лицах уже можно угадать будущих героев «Бесов»: Князь А. Б. – Ставрогин, Учитель – Шатов, мать А. Б. – Варвара Петровна Ставрогина, Воспитанница – Дарья Шатова, Красавица – Лиза Тушина, Картузов – Лебядкин. На данном этапе предполагался чисто психологический роман с «романтическим» сюжетом. Злободневностью, памфлетностью и тенденциозностью замысел наполняется, когда автор решил во главу угла поставить «нечаевское дело».

Страница черновика «Бесов».
Современники восприняли «Бесов» в одном ряду с романами В. П. Клюшникова «Марево» (1864), В. В. Крестовского «Панургово стадо» (1869), А. Ф. Писемского «Взбаламученное море» (1863), Н. С. Лескова «Некуда» (1864), «На ножах» (1871) и другими «антинигилистическими» произведениями того времени. Достоевский, находясь за границей, внимательно следил за всеми более менее значительными новинками русской литературы. Чрезвычайно интересен в этом плане его отзыв на новый роман Лескова «На ножах» из письма к А. Н. Майкову от 18 /30/ января 1871 г.: «Много вранья, много чёрт знает чего, точно на луне происходит. Нигилисты искажены до бездельничества…» В своём произведении Достоевский именно и показывает, что «нигилисты» 60-х годов вроде Нечаева не с Луны свалились. Посылая наследнику престола А. А. Романову отдельное издание «Бесов», автор в сопроводительном письме от 10 февраля 1873 г. разъясняет: «Это – почти исторический этюд, которым я желал объяснить возможность в нашем странном обществе таких чудовищных явлений, как нечаевское преступление. Взгляд мой состоит в том, что эти явления не случайность, не единичны, а потому и в романе моём нет ни списанных событий, ни списанных лиц. Эти явления – прямое последствие вековой оторванности всего просвещения русского от родных и самобытных начал русской жизни. Даже самые талантливые представители нашего псевдоевропейского развития давным-давно уже пришли к убеждению о совершенной преступности для нас, русских, мечтать о своей самобытности. Всего ужаснее то, что они совершенно правы; ибо, раз с гордостию назвав себя европейцами, мы тем самым отреклись быть русскими. В смущении и страхе перед тем, что мы так далеко отстали от Европы в умственном и научном развитии, мы забыли, что сами, в глубине и задачах русского духа, заключаем в себе, как русские, способность, может быть, принести новый свет миру, при условии самобытности нашего развития. Мы забыли, в восторге от собственного унижения нашего, непреложнейший закон исторический, состоящий в том, что без подобного высокомерия о собственном мировом значении, как нации, никогда мы не можем быть великою нациею и оставить по себе хоть что-нибудь самобытное для пользы всего человечества. Мы забыли, что все великие нации тем и проявили свои великие силы, что были так “высокомерны” в своем самомнении и тем-то именно и пригодились миру, тем-то и внесли в него, каждая, хоть один луч света, что оставались сами, гордо и неуклонно, всегда и высокомерно самостоятельными.
Так думать у нас теперь и высказывать такие мысли значит обречь себя на роль пария. А между тем главнейшие проповедники нашей национальной несамобытности с ужасом и первые отвернулись бы от нечаевского дела. Наши Белинские и Грановские не поверили бы, если б им сказали, что они прямые отцы Нечаева. Вот эту родственность и преемственность мысли, развившейся от отцов к детям, я и хотел выразить в произведении моем. Далеко не успел, но работал совестливо…»
Именно в период работы над «Бесами» обострилось и без того резко отрицательное отношение писателя к современной буржуазной Европе – длительное пребывание за границей и тоска по России немало этому способствовали. И в этот период достигло пика враждебное отношение Достоевского к русским западникам вроде покойного В. Г. Белинского и здравствующего И. С. Тургенева, на которых он и возлагал ответственность за порождение Нечаевых. А Нечаевы – это бесы, которые не только не понимают истинного пути развития России, но и губят её, разрушают изнутри. В нечаевском деле Достоевского особенно заинтересовал «Катехизис революционера» – один из программных документов этой революционной организации. В сюжете романа теоретические пункты «Катехизиса» как бы воплощаются в жизнь, реализуются на самом деле. Пётр Верховенский со своими «бесами» создаёт беспорядки в городе, наводит смуту – сплетни, интриги, поджоги, скандалы, богохульство, в своих целях он использует власть в лице играющих в либералов и заигрывающих с «передовой» молодёжью супругов Лембке. «Катехизис» Нечаева предписывал, чтобы революционер задавил в себе все личные чувства – «родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести» – ради общего революционного дела. В соответствии с этим предписанием и действует Верховенский-младший со своими сообщниками-подручными.
Рецензенты того времени упрекали Достоевского за то, что он слишком много и подробно использовал в «Бесах» судебную хронику. Но к моменту начала процесса над нечаевцами роман в основных чертах уже сложился, и начавшийся процесс, подробности судебного разбирательства лишь уточняли концепцию автора, добавляли характерные детали в повествование. Произведение становилось всё злободневнее – объектами художественного переосмысления стали теория и тактика конкретной революционно-террористической организации. Но вместе с тем в литературе о Достоевском сложилось мнение, что «Бесы» в психологическом плане – автобиографический роман, в нём отразились воспоминания автора о собственной «революционной» молодости. Памфлетно изображая деятельность нечаевцев, он вводил в текст идеи и отдельные черты-детали, характерные не столько для радикальной молодёжи 1860-х, сколько для петрашевцев.
Критики с самого начала отмечали сложность поэтики романа Достоевского, определяемой памфлетностью, с одной стороны, и сложной философско-идеологической проблематикой, с другой. Карикатура, пародия соседствуют в романе с трагедией, уголовная газетная хроника – с философскими диалогами. В сюжетном и композиционном отношении «Бесы» поначалу производят впечатление хаоса, особенно по сравнению с двумя предыдущими романами – «Преступление и наказание» и «Идиот». Но на самом деле и в «Бесах» проявилась гениальная сюжетная изобретательность Достоевского, его поразительное умение создавать в повествовании интригу, увлечь читателя. Практически все фабульные линии в романе устремлены к центральному событию – убийству Шатова. Первая и последняя главы, посвящённые судьбе Степана Трофимовича, как бы закольцовывают роман. Ведь именно он, как уже упоминалось, буквально породил одного из главных «бесов» и воспитал другого. С двумя основными персонажами – Ставрогиным и Верховенским-младшим – связаны все сюжетные разветвления и узлы.
В «Бесах», с их памфлетно-сатирической направленностью, особенно ярко проявился талант Достоевского – критика, пародиста и полемиста. Произведение это можно назвать своеобразным литературным салоном: в нём действуют семь героев-литераторов и авторов вставных текстов, не считая целой группы безымянных писателей, участвующих в массовых сценах. Особенно колоритен пародийный образ «передового» писателя Кармазинова, прообразом которого послужил Тургенев.
Среди откликов на первые главы романа стоит отметить суждение Н. Н. Страхова в письме к автору от 12 апреля 1871 г.: «Во второй части чудесные вещи, стоящие наряду с лучшими, что Вы писали. Нигилист Кириллов удивительно глубок и ярок. Рассказ сумасшедшей, сцена в церкви и даже маленькая сцена с Кармазиновым – всё это самые верхи художества. <…> Но впечатление в публике до сих пор очень смутное; она не видит цели рассказа и теряется во множестве лиц и эпизодов, которых связь ей не ясна. <…> Очевидно – по содержанию. По обилию и разнообразию идей Вы у нас первый человек, и сам Толстой сравнительно с Вами однообразен. <…> Но очевидно же: Вы пишете большею частью для избранной публики, и Вы загромождаете Ваши произведения, слишком их усложняете. Если бы ткань Ваших рассказов была проще, они бы действовали сильнее. <…> и весь секрет, мне кажется, состоит в том, чтобы ослабить творчество, понизить тонкость анализа, вместо двадцати образов и сотни сцен остановиться на одном образе и десятке сцен…» [ПСС, т. 12, с. 258]
Достоевский близко к сердцу принял последнее суждение и, в общем-то, согласился с ним, признаваясь в ответном письме: «Вы ужасно метко указали главный недостаток. Да, я страдал этим и страдаю; я совершенно не умею до сих пор (не научился) совладать с моими средствами. Множество отдельных романов и повестей разом втискиваются у меня в один, так что ни меры, ни гармонии. Всё это изумительно верно сказано Вами, и как я страдал от этого сам уже многие годы, ибо сам сознал это. Но есть и того хуже: я, не спросясь со средствами своими и увлекаясь поэтическим порывом, берусь выразить художественную идею не по силам…»

Страница черновика «Бесов».
Когда большая часть романа была опубликована, появились и развёрнутые рецензии. Демократическая и либеральная критика, разумеется, негативно оценила «антинигилистический» роман автора «Записок из Мёртвого дома». Особенно резкими стали отзывы о «Бесах» с конца 1872 г., когда Достоевский согласился стать редактором «реакционного» журнала «Гражданин» князя В. П. Мещерского. Весьма характерна для той ситуации эпиграмма Д. Д. Минаева «На союз Ф. Достоевского с кн. Мещерским» (И, 1873, 11 фев., № 2):
«Две силы взвесивши на чашечках весов,
Союзу их никто не удивился.
Что ж! первый дописался до «Бесов»,
До чёртиков другой договорился».
Общим местом в «передовой» критике того времени стало объявлять автора сумасшедшим, произведение – плодом его расстроенного воображения и клеветой на молодое поколение. Подобные отзывы появлялись в «Искре», «Деле», «Биржевых ведомостях», «Сыне отечества», «Одесском вестнике», «Голосе», «Новостях», «Новом времени»… Из этого ряда несколько выделялись рецензии В. П. Буренина в «С.-Петербургских ведомостях» (они периодически публиковались с марта 1871 г. по январь 1873 г.), который настойчиво подчёркивал отличие романа «Бесы» от рядовых «антинигилистических» романов Лескова, Маркевича и прочих: по мнению рецензента, произведение Достоевского – «плод искреннего убеждения, а не низкопоклонства пред грубыми и плотоядными инстинктами толпы, как у беллетристических дел мастеров…»
В современной Достоевскому критике особого внимания заслуживают, конечно, обстоятельные статьи о «Бесах» народников П. Н. Ткачёва «Больные люди» («Дело», 1873, № № 3, 4) и Н. К. Михайловского «Литературные и журнальные заметки» (ОЗ, 1873, № 2). Особый оттенок рецензии Ткачёва придаёт то обстоятельство, что он сам проходил по делу Нечаева, так что никак не мог беспристрастно отнестись к роману о своих товарищах по общему делу. Ткачёв ставит «Бесы» в один ряд с аналогичными по теме романами Лескова-Стебницкого и резко упрекает автора в отходе от прежних прогрессивных взглядов 1840-х («Бедные люди») и 1860-х («Записки из Мёртвого дома») годов. По мнению рецензента, автор «Бесов» совершенно не знает современную молодёжь, судит о ней по газетным сообщениям и собственным фантазиям, рождая в результате не художественные образы нигилистов, а «манекены», которые не живут, а бредят…
Михайловский, в отличие от Ткачёва и многих других критиков, в тоне более сдержан и в оценке романа более объективен. Он отказывается от сопоставления «Бесов» с романами Лескова, Крестовского и Клюшникова, утверждая, что оно справедливо только по отношению к третьестепенным героям романа, в целом же ставя произведение Достоевского несравненно выше по таланту. Кроме того, на тональность статьи критика «Отечественных записок» влияло уважительное отношение к прошлому Достоевского-петрашевца и неприятие революционно-экстремистских приёмов Нечаева. Поэтому Михайловский упрекает Достоевского не за памфлетность романа, а как раз за чересчур серьёзное отношение к нечаевщине, смещение акцентов, необоснованные обобщения: «Нечаевское дело <…> не может служить темой для романа с более или менее широким захватом. Оно могло бы доставить материал для романа уголовного, узкого и мелкого, могло бы, пожалуй, занять место и в картине современной жизни, но не иначе как в качестве третьестепенного эпизода…» Михайловский разделил героев романа на три категории: 1) марионеточные фигуры нигилистов, в которых как раз и проглядывает «стебницизм»; 2) герои, к коим «можно отыскать параллели в произведениях других наших романистов», но которые «в то же время суть самостоятельные создания г. Достоевского» (Верховенский-старший, Кармазинов, супруги Лембке…), именно эти герои наиболее удачны, по мнению критика; и, наконец, 3) излюбленные герои Достоевского – мономаны-теоретики: Ставрогин, Шатов, Кириллов, Пётр Верховенский… Михайловский посчитал их бледными, претенциозными, искусственными потому, что автор стремился представить своих исключительных героев носителями популярных идей в обществе, в то время как сами они представляют собой «исключительные психологические феномены», которые «уже сами по себе составляют нечто трудно поддающееся обобщениям».
Консервативная пресса в основном оценила «Бесы» положительно. К примеру, М. А. Загуляев в «Journal de St. Petersbourg» назвал новое произведение Достоевского лучшим романом года, а В. Г. Авсеенко (РМ и РВ) особенно одобрительно отозвался о памфлетном изображении нигилистов в романе.
Читатели-современники также восприняли новый роман Достоевского неоднозначно и многие из них негативно. Типичным для радикально настроенной молодёжи того времени можно считать, к примеру, свидетельство писательницы Е. П. Султановой-Летковой: «…молодёжь в то время непрерывно вела счёты с Достоевским и относилась к нему с неугасаемо критическим отношением после его “патриотических” статей в “Дневнике писателя”. О “Бесах” я уже и не говорю…» [Д. в восп., т. 2, с. 454]
Но говорить-писать об этом романе продолжали и продолжают до сих пор. Ещё в 1875 г. молодой критик Вс. С. Соловьёв прозорливо написал, что о «Бесах» можно будет судить объективно только в будущем, когда улягутся сиюминутные страсти, когда «спокойный взор человека, находящегося вне нашей атмосферы, в известном отдалении от нашей эпохи, увидит итог современных явлений, их результаты…» [СпбВед, 1875, № 32] Действительно, результаты и последствия деятельности «бесов», описанных Достоевским, проявились в полной мере лишь в XX в. Это произведение вполне можно считать романом-предупреждением, романом-предвидением. Увы, современники не очень внимательно его прочитали…
В XX в. революционеры всех мастей яростно боролись с этой книгой, А. М. Горький небезуспешно выступал против постановки «Бесов» на сцене МХАТа в 1913 г., в Советском Союзе этот роман долгое время не издавался и был зачислен советским литературоведением в разряд «реакционных».
Но не стоит думать, будто злободневность «Бесов» в наши дни потускнела и евангельский эпиграф к роману полностью претворился в жизнь. Увы, разгул «бесовства» в России (да и в мире!) не прекратился, он просто принял другие формы. Экстремизм революционного, религиозного, национального и любого другого толка пока, увы, неистребим. Роман Достоевского продолжает оставаться злободневным.
Бобок
(Записки одного лица). Рассказ. Гр, раздел ДП (VI), 1873, № 6, 5 фев. (XXI)
Основные персонажи:
Авдотья Игнатьевна;
Берестова Катишь;
Иван Иванович;
Клиневич Пётр Петрович;
Лавочник;
Лебезятников Семён Евсеевич;
Молодой человек;
Первоедов Василий Васильевич;
Платон Николаевич;
Тарасевич.
В начале предуведомляется, что это – «Записки одного лица». Герой-рассказчик (Иван Иванович), литератор-неудачник, спился до такой степени, что подвержен галлюцинациям и сам понимает, что производит впечатление человека помешанного. Попав случайно на похороны дальнего родственника, он задерживается на кладбище, задрёмывает на могильной плите и вдруг начинает слышать разговор-беседу мертвецов. Один из них так объясняет такую фантасмагорию: «…наверху, когда ещё мы жили, то считали ошибочно тамошнюю смерть за смерть. Тело здесь ещё раз как будто оживает, остатки жизни сосредоточиваются, но только в сознании. <…> продолжается жизнь как бы по инерции. Всё сосредоточенно <…> где-то в сознании и продолжается ещё месяца два или три… иногда даже полгода… Есть, например, здесь один такой, который почти совсем разложился, но раз недель в шесть он всё ещё вдруг пробормочет одно словцо, конечно, бессмысленное, про какой-то бобок: “Бобок, бобок”, – но и в нём, значит, жизнь всё ещё теплится незаметною искрой…»
Иван Иванович с удивлением слышит, что и в могилах жизнь, так сказать, ничем не отличается от жизни наверху, люди остаются такими же, какими были, заботы и мысли их так же мелочны, сиюминутны, низменны, в порядке вещей чинопочитание, зависть, разврат (или, по крайней мере, мечты и разговоры о разврате), сплетни… Но оказывается, что кладбище всё же имеет кардинальное преимущество перед живой жизнью – здесь уж совершенно можно отбросить последние условности и приличия. Клиневич, взявший на себя роль старшего в кладбищенском обществе, формулирует кредо могильного существования, которое с восторгом единодушно (единотрупно!) одобряется: «– <…> Главное, два или три месяца жизни и в конце концов – бобок. Я предлагаю всем провести эти два месяца как можно приятнее и для того всем устроиться на иных основаниях. Господа! Я предлагаю ничего не стыдиться! <…> На земле жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь синонимы; ну а здесь мы для смеху будем не лгать. Чёрт возьми, ведь значит же что-нибудь могила! <…> Заголимся и обнажимся!
– Обнажимся, обнажимся! – закричали во все голоса…»
Но только мертвецы намереваются весело приступить к осуществлению задуманного «обнажения», как подслушивающий живой Иван Иванович чихнул и спугнул обитателей могил – они затихли. Иван Иванович обещает обязательно ещё навестить кладбищенскую компанию и послушать их разговоры, причём не только в этом, третьем, разряде, где он задремал на могильном камне, но и в остальных. В последних строках рассказа объясняется-обосновывается его появление на страницах именно этого издания: «Снесу в “Гражданин”; там одного редактора портрет тоже выставили. Авось напечатает».
Одна из главных причин, почему Достоевский согласился с января 1873 г. стать редактором «Гражданина» – желание отдохнуть от «художественной работы». Однако уже в январе появляется замысел этого рассказа. Толчком послужила заметка Л. К. Панютина (псевд. Нил Адмирари) в газете «Голос» (1873, № 14, 14 янв.), в которой «Дневник писателя» сопоставлялся с «Записками сумасшедшего» Н. В. Гоголя и грубо намекалось, что его автор, как и Поприщин, не в своём уме, и, дескать, это хорошо видно по портрету Достоевского кисти В. Г. Перова, как раз выставленному в Академии художеств: «Это портрет человека, истомлённого тяжким недугом…» Иван Иванович, герой-рассказчик» «Бобка» начинает как бы с отповеди Панютину: «Я не обижаюсь, я человек робкий; но, однако же, вот меня и сумасшедшим сделали. Списал с меня живописец портрет из случайности: “Всё-таки ты, говорит, литератор”. Я дался, он и выставил. Читаю: “Ступайте смотреть на это болезненное, близкое к помешательству лицо”…»
В финале рассказа упоминается, как уже говорилось, и портрет самого Достоевского. Видимо, Панютин «подсказал» писателю ориентацию «Записок одного лица» на «Записки сумасшедшего». К примеру, рубленый слог Ивана Ивановича напоминает стиль дневника гоголевского героя, встречаются и смысловые переклички – Поприщин: «Признаюсь, с недавнего времени я начинаю иногда слышать и видеть такие вещи, которых никто ещё не видывал и не слыхивал»; Иван Иванович: «Со мной что-то странное происходит. <…> Я начинаю видеть и слышать какие-то странные вещи». Не исключено, что при работе над своим рассказом Достоевский помнил и о другом фельетоне того же Панютина, который появился в «Голосе» за 2,5 года до того (1870, № . 211, 2 авг.) и был посвящён ритуальным гуляниям на Смоленском кладбище: у Панютина герой-фельетонист также засыпает среди могил и как бы вступает в разговор с мертвецом, который среди прочего характеризует своих соседей-покойников… Несомненная идейно-эстетическая близость связывает «Бобок» с «фантастическим» рассказом В. Ф. Одоевского «Живой мертвец» (1844), а также с прежде написанными произведениями самого Достоевского. Можно вспомнить князя Валковского из «Униженных и оскорблённых», который не только теоретизирует на тему «обнажения», но и в самом деле душевно «обнажается и заголяется» перед автором-повествователем; можно вспомнить и героя «Записок из подполья», который поставил себе целью достичь в своей исповеди запредельной правды, полностью «заголиться и обнажиться» перед читателем. Покойники в «Бобке» ощущают вонь, но не плоти, а как бы души, вонь эта – «нравственная», по толкованию «философа» Платона Николаевича. Толкование это можно соотнести с поэтическим утверждением Ф. И. Тютчева: «Не плоть, а дух растлился в наши дни» («Наш век», 1851) и с гоголевской темой «мёртвых душ» – мертвецы из рассказа Достоевского утратили, «умертвили» свои души ещё в земной жизни…
«Бобок» наполнен литературной полемикой. В частности, вдумчивый читатель рассказа не мог не провести аналогии с «клубничной» литературой того времени, и в первую очередь, с нашумевшим эротическим романом П. Д. Боборыкина «Жертва вечерняя» (1868, 2-е издание – 1872), и недаром название рассказа Достоевского перекликается с фамилией Боборыкина (один из его псевдонимов – «Боб» был переделан фельетонистом В. П. Бурениным в «Пьера Бобо»).
Но, конечно, главное в произведении Достоевского не полемические и пародийные мотивы, а его идейно-философское наполнение. Современники этого не заметили, обратив внимание лишь на «патологичность» темы. Доходило до курьёзов: так, анонимный обозреватель журнала «Дело» (1873, № 12), словно совершенно не заметив в «Бобке» язвительной иронии писателя по поводу печатных намёков на его, якобы, умственное расстройство, ничтоже сумняшеся пишет: «Положим, что всё это фантастические рассказы, но самый уже выбор таких сюжетов производит на читателя болезненное впечатление и заставляет подозревать, что у автора что-то неладно в верхнем этаже…» Лишь в XX в. «Бобок» был исследован и оценён по достоинству в работах А. Белого, Л. П. Гроссмана, К. О. Мочульского, М. М. Бахтина и др.
Достоевский намеревался, как видно из финальных строк «Бобка», продолжить цикл «кладбищенских» рассказов, но этот замысел не осуществился. Герой-рассказчик Иван Иванович появится ещё раз на страницах ДП (Гр, 1873, № 10) в статье «Полписьма “одного лица”», где ему будет дана развёрнутая характеристика.
Борис Годунов
Неосущ. замысел, 1842. (XXVIII1)
Сохранились свидетельства о ранних драматургических опытах Достоевского – «Мария Стюарт», «Борис Годунов», «Жид Янкель». В частности, старший брат писателя М. М. Достоевский писал опекуну П. А. Карепину 25 сентября 1844 г.: «Я читал, с восхищением читал его драмы. Нынешней зимою они явятся на петербургской сцене…» [ЛН, т. 86, с. 365] А младший брат А. М. Достоевский уже после смерти Фёдора Михайловича в открытом письме к А. С. Суворину, опубликованном в «Новом времени» (1881, № 1778, 8 фев.), утверждал: «Ещё в 1842 г., то есть гораздо ранее “Бедных людей”, брат мой написал драму “Борис Годунов”. Автограф лежал часто у него на столе, и я – грешный человек – тайком от брата нередко зачитывался с юношеским восторгом этим произведением. Впоследствии, уже в очень недавнее время, кажется в 1875 г., я в разговорах с братом покаялся ему, что знал о существовании его “Бориса Годунова” и читал эту драму. На вопрос мой: “Сохранилась ли, брат, эта рукопись?”, он ответил только, махнув рукой: “Ну, полно! Это… это детские глупости!”…» Доктор А. Е. Ризенкампф вспоминал, как ещё 16 февраля 1841 г. на вечере у своего брата Михаила Михайловича Достоевский «читал отрывки из двух драматических своих опытов: “Марии Стюарт” и “Бориса Годунова“…» [ЛН, т. 86, с. 328]
Примечательно, что, судя по названиям, начинающий писатель собирался переписать-переделать по своему драматические сюжеты европейской и отечественной классики. Так никогда и не создаст Достоевский драматургическое произведение, хотя его романы насквозь пронизаны драматургией, сценичны. Более того, в ответ на просьбу начинающей писательницы В. Д. Оболенской разрешить ей переделку «Преступления и наказания» для сцены, Достоевский написал (20 янв. 1872 г.): «Насчет же Вашего намерения извлечь из моего романа драму, то, конечно, я вполне согласен, да и за правило взял никогда таким попыткам не мешать; но не могу не заметить Вам, что почти всегда подобные попытки не удавались, по крайней мере вполне.
Есть какая-то тайна искусства, по которой эпическая форма никогда не найдет себе соответствия в драматической. Я даже верю, что для разных форм искусства существуют и соответственные им ряды поэтических мыслей, так что одна мысль не может никогда быть выражена в другой, не соответствующей ей форме…»
Однако писатель-романист не раз возвращался к идее написания пьесы. Он, к примеру, по воспоминаниям артистки А. И. Шуберт, сам собирался инсценировать «Неточку Незванову» и в письме к ней (14 марта 1860 г.) обещал попробовать написать специально для неё «комедийку, хоть одноактную», а буквально за десять дней до смерти в разговоре с А. С. Сувориным Достоевский обмолвился, что летом «надумывал один эпизод из “Братьев Карамазовых” обратить в драму…» (НВр, 1881, 1 фев.) Стоит упомянуть, что в бумагах Достоевского сохранилась сатирическая одноактная пьеса-фельетон в стихах «Борьба нигилизма с честностью (Офицер и нигилистка)».
<Борьба нигилизма с честностью (Офицер и нигилистка)
(Сцена почище комедии)>. 1864—1873. (XVII)
Основные персонажи:
Нигилистка;
Офицер.
Одноактная пьеса-фельетон в стихах. Отставной офицер, задумав, наконец, в 40 лет жениться и исполнить закон природы о продолжении рода. Он наслышан о нигилистах и решает перед этим всех их истребить, переколоть своей шпагой. И вскоре встречает на своём пути Нигилистку. Они вступают в диалог-диспут: тут и лягушки (привет Базарову!), и фиктивные браки (салют героям Н. Г. Чернышевского!), и редактор демократического журнала «Дело» Г. Е. Благосветлов… В финале Нигилистка спасается бегством, Офицер застывает столбом, увидев «прелесть мелькнувшей из-под платья пяточки», а на горизонте появляется тень А. А. Краевского как сатирический символ «гласности» в либеральном её понимании …
Первая запись, связанная с этим замыслом, появилась в рабочей тетради в середине 1864 г. под названием «Борьба нигилизма с честностью». В следующем году, работая над «Крокодилом», Достоевский продолжил разрабатывать сюжет, намереваясь включить стихотворный фельетон в текст повести – после иронического определения понятия «нигилизм» в планах «Крокодила» следовала пометка: «Достал стишки “Офицер и нигилистка”. – С учением соглашаюсь…» Оба произведения связывала полемическая направленность, в основном, против лагеря «Современника». Однако работа над фельетоном и рассказом была прервана с прекращением издания «Эпохи». К своей сценке в стихах Достоевский вернулся в пору редактирования «Гражданина» (1873—1874). В те годы в связи с открытием высших женских курсов в Петербурге и Москве вновь обострился интерес к женскому вопросу. Намереваясь использовать свой стихотворный фельетон в полемике по этому вопросу с демократической журналистикой Достоевский и сделал новую его редакцию, однако в печати он так и не появился. Скорее всего, писатель, даже предпослав фельетону шутливое введение-оправдание как бы от редакции за слабые художественные достоинства («безрассудный хам», «верх нелепости», «произведение бездарности»), всё же не решился представить его на суд широкой публики и «литературных врагов».
Брак
(Роман, вместо Совр<еменного> человека). Неосущ. замысел, 1864—1865. (V).
В записной тетради сохранился краткий, но детальный план этого романа в трёх частях о трагической судьбе героини с характером, как указал Достоевский в скобках, княжны Кати из «Неточки Незвановой» – «вся противуречие и насмешка».
Братья Карамазовы
Роман в четырёх частях с эпилогом. РВ, 1879, № 1—2, 4—6, 8—11; 1880, № 1, 4, 7—11. (XIV, XV)
Основные персонажи:
Андрей;
Афанасий;
Варвинский;
Великий инквизитор;
Верховцев Иван;
Верховцева Агафья Ивановна;
Верховцева Катерина Ивановна;
Ворохова;
Врублевский;
Герценштубе;
Горсткин (Лягавый);
Дарданелов;
Жучка-Перезвон;
Зосима (старец Зосима);
Иисус Христос;
Ильинский Павел (Ильинский батюшка);
Иосиф (отец Иосиф);
Ипполит Кириллович;
Калганов Пётр Фомич;
Карамазов Алексей Фёдорович (Алёша);
Карамазов Дмитрий Фёдорович (Митя);
Карамазов Иван Фёдорович;
Карамазов Фёдор Павлович;
Карамазова (Миусова) Аделаида Ивановна;
Карамазова Софья Ивановна;
Карташов;
Красоткин Николай (Коля);
Красоткина Анна Фёдоровна;
Кутузов Григорий Васильевич;
Кутузова Марфа Игнатьевна;
Лизавета Смердящая;
Макаров Михаил Макарович;
Максимов;
Марья Кондратьевна;
Миусов Пётр Александрович;
Михаил;
Московский доктор;
Муссялович;
Нелюдов Николай Парфёнович;
Николай (отец Николай);
Паисий (отец Паисий);
Перхотин Пётр Ильич;
Повествователь;
Поленов Ефим Петрович;
Ракитин Михаил Осипович;
Самсонов Кузьма Кузьмич;
Светлова Аграфена Александровна (Грушенька);
Смердяков Павел Фёдорович;
Смуров;
Снегирёв Илья (Илюшечка);
Снегирёв Николай Ильич;
Снегирёва Арина Петровна;
Снегирёва Варвара Николаевна;
Снегирёва Нина Николаевна;
Трифон Борисович;
Трифонов;
Феня;
Ферапонт (отец Ферапонт);
Фетюкович;
Хохлакова Елизавета (Лиза, Lise);
Хохлакова Катерина Осиповна;
Чёрт;
Шмерцов Маврикий Маврикиевич.

Первая страница первого издания «Братьев Карамазовых».
Роман имеет посвящение Анне Григорьевне Достоевской и эпиграф из Евангелия от Иоанна: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода» (гл. XII, ст. 24). Состоит роман из предисловия «От автора», 4-х частей и «Эпилога». Кроме того роман имеет сквозное деление на 12 озаглавленных «книг», которые, в свою очередь, поделены на главы, имеющие свои названия («Фёдор Павлович Карамазов», «Первого сына спровадил» и т. д.). В предисловии «От автора» сообщается, что посвящён роман жизнеописанию Алексея Фёдоровича Карамазова и что это только первая часть дилогии, причём главным романом будет второй, первый же «роман произошёл ещё тринадцать лет назад».
Место действия романа – захолустный городок Скотопригоньевск, прототипом которого послужила Старая Русса. В центре повествования – семейство Карамазовых: отец, три законных сына и один побочный. По существу, основная фабульная линия первого романа связана со старшим из братьев Карамазовых – Дмитрием. Всем в городке было известно, что отец-сладострастник и его старший сын соперничают из-за красавицы Грушеньки Светловой. И вот Фёдора Павловича обнаруживают убитым. Естественно, подозрение падает на Дмитрия. В результате судебного разбирательства это обвинение как бы подтверждается, и Дмитрий Карамазов получает по приговору двадцать лет каторжных работ. Но произошла ужасная судебная ошибка, и лишь немногие герои романа знают, что доподлинный преступник – лакей Смердяков, который, убив своего кровного отца, наложил затем на себя руки, а его вольным или невольным вдохновителем-подстрекателем является Иван Карамазов…
«Братья Карамазовы» – последний роман Достоевского. Уже с начала 1860-х гг., после прочтения и осмысления романов Виктора Гюго, в первую очередь, «Отверженных» (1862), русского писателя занимала мысль о создании романа-эпопеи, построенного на материале текущей действительности, энциклопедического по охвату материала. Новый толчок эти замыслы получили после появления «Войны и мира» (1863—1869) Л. Н. Толстого. В определённой мере подступами к «Братьям Карамазовым» послужили замыслы: «Атеизм» и «Житие великого грешника». Лишь в 1878 г. Достоевский приступает непосредственно к созданию своей эпопеи. Для понимания грандиозности задачи, поставленной перед собою писателем, стоит вспомнить его суждение из «Предисловия к публикации перевода романа В. Гюго “Собор Парижской Богоматери”», где подчёркивалось, что основная во всём искусстве XIX в. идея – это идея «восстановления погибшего человека, задавленного несправедливо гнётом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков», и что «хоть к концу-то века она воплотится наконец вся, целиком, ясно и могущественно в каком-нибудь таком великом произведении искусства, что выразит стремления и характеристику своего времени так же полно и вековечно, как, например, “Божественная комедия” выразила свою эпоху…»
Основная фабульная линия романа также давно уже хранилась в памяти писателя и даже была зафиксирована на бумаге. В самом начале «Записок из Мёртвого дома» (ч. 1, гл. I) рассказана история некоего каторжника (Дмитрия Ильинского), осуждённого за убийство отца на 20 лет каторги, но считавшего себя невиновным. А во второй части (гл. VII) сообщалось: «На днях издатель «Записок из Мёртвого дома» получил уведомление из Сибири, что преступник был действительно прав и десять лет страдал в каторжной работе напрасно <…> Нечего говорить и распространяться о всей глубине трагического в этом факте, о загубленной ещё смолоду жизни под таким ужасным обвинением. Факт слишком понятен, слишком поразителен сам по себе…» Из последних слов видно, как сильно поразила эта трагическая история самого Достоевского. Через десять с лишним лет автор «Записок из Мёртвого дома», ещё работая над «Подростком», заносит в рабочую тетрадь краткий сюжет нового романа: «13 сент<ября> 74 <г.> Драма. В Тобольске, лет двадцать назад, вроде истории Иль<ин>ского. Два брата, старый отец, у одного невеста, в которую тайно и завистливо влюблён второй брат. Но она любит старшего. Но старший, молодой прапорщик, кутит и дурит, ссорится с отцом. Отец исчезает. <…> Старшего отдают под суд и осуждают на каторгу. <…> Брат через 12 лет приезжает его видеть. Сцена, где безмолвно понимают друг друга.
С тех пор еще 7 лет, младший в чинах, в звании, но мучается, ипохондрит, объявляет жене, что он убил.
<…> День рождения младшего. Гости в сборе. Выходит: “Я убил”. Думают, что удар…»
Эта краткая сюжетная схема психологической семейной драмы, даже соединившись с религиозными, философскими и социальными пластами замысла «Жития великого грешника», не выросла бы в роман-эпопею «Братья Карамазовы» без «Дневника писателя» за 1876—1877 гг. Многие темы, поднятые и исследованные Достоевским в ДП (разложение дворянской семьи, экономический кризис в России, истребление лесов, обнищание русской деревни, кризис православной веры и размах сектантства, состояние суда и адвокатуры, в более широком плане – прошлое, настоящее и будущее России…), нашли впоследствии отражение в его последнем произведении. Сам писатель подчёркивал в одном из писем: «…готовясь написать один очень большой роман, я и задумал погрузиться специально в изучение – не действительности, собственно, я с нею и без того знаком, а подробностей текущего. Одна из самых важных задач в этом текущем, для меня, например, молодое поколение, а вместе с тем – современная русская семья, которая, я предчувствую это, далеко не такова, как всего ещё двадцать лет назад. Но есть и ещё многое кроме того…» (Х. Д. Алчевской, 9 апр. 1876 г.).
В конце декабря 1877 г., попрощавшись с читателями ДП, как он предполагал, всего на год («В этот год отдыха от срочного издания я и впрямь займусь одной художнической работой, сложившейся у меня в эти два года издания “Дневника” неприметно и невольно…»), Достоевский набросал в записной тетради своеобразный план-обязательство: «Memento. На всю жизнь.
1) Написать русского Кандида.
2) Написать книгу о Иисусе Христе.
3) Написать свои воспоминания.
4) Написать поэму «Сороковины».
NB. (Всё это, кроме последнего романа и предполагаемого издания «Дневника», т. е. minimum на 10 лет деятельности, а мне теперь 56 лет.)»
Жить ему оставалось не 10, а всего 3 года, но так получилось, что почти весь план был писателем в какой-то мере выполнен, ибо все эти замыслы (кроме воспоминаний) нашли своё отражение в последнем романе. Поэма «Сороковины» должна была представлять из себя «Книгу странствий», в которой описываются «мытарства 1 (2, 3, 4, 5, 6 и т. д.)» (в девятой книге «Братьев Карамазовых» глава III носит название «Хождение души по мытарствам. Мытарство первое», глава IV – «Мытарство второе», глава V – «Третье мытарство», и посвящены эти главы мытарствам Мити, душа которого проходит в романе через гибель и воскресение), а среди черновых набросков к «Сороковинам» есть разговор Молодого человека с сатаной, явно предвосхищавший сцену беседы Ивана с Чёртом. Замысел книги о Иисусе Христе воплотился в какой-то мере в поэме «Великий инквизитор». Ну, а тема «русского Кандида» нашла отражение, к примеру, в главе «Бунт», где поднимаются и исследуются те же проблемы, что и в философской повести французского писателя Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759), в частности: может ли человеческий разум принять мир, созданный Богом, при наличии в этом мире зла, страданий невинных людей?
В то время, когда писатель уже собирал подготовительные материалы к роману, непосредственно работал над планом, произошло трагическое событие, которое сыграло свою роль в творческой судьбе «Братьев Карамазовых» – 16 мая 1878 г., не прожив и трёх лет, умер младший сын Достоевских Алёша. Писатель так тяжело переживал утрату, что более месяца не мог работать. Жена А. Г. Достоевская вспоминала: «Фёдор Михайлович был страшно поражен этою смертию. Он как-то особенно любил Лёшу, почти болезненною любовью, точно предчувствуя, что его скоро лишится. Фёдора Михайловича особенно угнетало то, что ребёнок погиб от эпилепсии, – болезни, от него унаследованной…» [Достоевская, с. 345] По совету жены Достоевский вместе с Вл. С. Соловьёвым во второй половине июня совершает поездку в Оптину пустынь, где в молитвах и беседах со старцами и монахами провёл несколько дней. Впечатления от поездки дали писателю обильный материал для первых книг романа, для сюжетной линии, связанной с монастырским периодом жизни Алексея Карамазова, со старцем Амвросием.
Все свои крупные романы, начиная с «Преступления и наказания», Достоевский публиковал в журнале М. Н. Каткова «Русский вестник». Но так получилось, что «Подросток», предшествующий «Братьям Карамазовым», по инициативе Н. А. Некрасова появился на страницах демократических «Отечественных записок». Последний роман был ещё до написания первых глав обещан снова в катковский журнал (после смерти Некрасова о продолжении сотрудничества с «ОЗ» и речи быть не могло) и за него, как всегда, был получен писателем аванс. В письме от 11 июля 1878 г. к С. А. Юрьеву, который предлагал ему отдать новый роман в задуманный им журнал (будущая «Русская мысль»), Достоевский, обещая подумать, сообщил интересные подробности о методах своей писательской работы, уникальных для литературы вообще и русской литературы XIX в. в частности: «Роман я начал и пишу, но он далеко не докончен, он только что начат. И всегда у меня так было: я начинаю длинный роман (NB. Форма моих романов 40—45 листов) с середины лета и довожу его почти до половины к новому году, когда обыкновенно является в том или другом журнале, с января, первая часть. Затем печатаю роман с некоторыми перерывами в том журнале, весь год до декабря включительно, и всегда кончаю в том году, в котором началось печатание. До сих пор еще не было примера перенесения романа в другой год издания…»
Так и не осуществилась мечта Достоевского хоть один свой роман написать-создать без спешки, отделывая, и уже в готовом виде предлагать в журналы. Только свой самый первый роман «Бедные люди» (сравнительно небольшой по объёму) переписывал он несколько раз, тщательно редактируя. Писателя угнетали условия его работы, но он даже как бы и гордился (совершенно в духе своих героев!) своим особым в этом отношении положением. «Я убеждён, что ни единый из литераторов наших, бывших и живущих, не писал под такими условиями, под которыми я постоянно пишу, Тургенев умер бы от одной мысли…» писал он А. В. Корвин-Круковской ещё 17 июня 1866 г., в пору работы над «Преступлением и наказанием» и «Игроком», практически одновременно. С «Братьями Карамазовыми» даже и предварительные прогнозы автора не оправдались: работа над романом затянулась почти на три года, печатание в журнале с перерывами – на два.
Увеличение сроков работы связано было и с тем, что в ходе её и сюжет романа, и его содержательно-философское наполнение чрезвычайно усложнились. Хотя действие первого романа формально было отнесено к середине 1860-х гг., но Достоевский уже и его наполнил животрепещущими проблемами текущего времени – в нём много откликов на события российской общественной жизни конца 1870-х, полемики с произведениями и статьями, появившимися на страницах журналов именно в это время и т. д. Но при всей злободневности, «фельетонности» содержания в «Братьях Карамазовых» с наибольшей силой проявилось и непревзойдённое мастерство Достоевского-романиста в соединении сиюминутного и вечного, быта и философии, материи и духа. Главная и глобальная тема романа, как уже упоминалось, – прошлое, настоящее и будущее России. Судьбы уходящего поколения (отец Карамазов, штабс-капитан Снегирёв, Миусов, госпожа Хохлакова, Полёнов, старец Зосима…) как бы сопоставлены и в чём-то противопоставлены судьбам представителей из «настоящего» России (братья Карамазовы, Смердяков, Ракитин, Грушенька, Варвара Снегирёва…), а на авансцену уже выходят представители совсем юного поколения, «будущее» страны, которым, вероятно, суждено было стать основными героями второго романа (Лиза Хохлакова, Коля Красоткин, Карташов, Смуров…)
Глобальность темы, глубина поставленных в романе «мировых» вопросов способствовали тому, что в нём ещё шире, чем в предыдущих произведениях Достоевского, отразился контекст русской и мировой истории, литературы, философии. На страницах романа упоминаются и в комментариях к нему перечислены сотни имён и названий произведений. Необыкновенно широк диапазон философских источников «Братьев Карамазовых» – от Платона и Плотина до Н. Ф. Фёдорова и Вл. С. Соловьёва. Но особо следует выделить в этом плане произведения русских религиозных мыслителей (Нил Сорский, Тихон Задонский и др.), провозглашавших идеал цельного человека, у которого различные духовные силы и способности находятся в единстве, а не противоречат друг другу, у которого нет борьбы между мыслью и сердцем, теоретическим разумом и нравственным началом, что, по мнению Достоевского, как раз противоположно западному рационализму, ведущему человечество в тупик. И, конечно, особенно важную роль в идейно-нравственном содержании «Братьев Карамазовых» играет Евангелие – эпиграф, в котором заключена надежда на возрождение России после периода упадка и разложения, обильное цитирование евангельских текстов, постоянные разговоры и споры героев об евангельских притчах…

Страница черновика «Братьев Карамазовых».
Сохранилось несколько свидетельств о предполагаемом содержании второго романа «Братьев Карамазовых».
1) А. Г. Достоевская: «Издавать “Дневник писателя” Федор Михайлович предполагал в течение двух лет, а затем мечтал написать вторую часть “Братьев Карамазовых”, где появились бы почти все прежние герои, но уже через двадцать лет, почти в современную эпоху, когда они успели бы многое сделать и многое испытать в своей жизни…»; «…действие переносилось в восьмидесятые годы. Алёша уже являлся не юношей, а зрелым человеком, пережившим сложную душевную драму с Лизой Хохлаковой, Митя возвращается с каторги…». (Жена писателя допустила некоторую неточность: в предисловии к первому роману указано, что он «произошёл <…> тринадцать лет назад…»)
2) А. С Суворин: «Алеша Карамазов должен был явиться героем следующего романа, героем, из которого он хотел создать тип русского социалиста, не тот ходячий тип, который мы знаем и который вырос вполне на европейской почве…»; «Он хотел его провести через монастырь и сделать революционером. Он (Алёша. – Ред.) совершил бы политическое преступление. Его бы казнили. Он искал бы правду и в этих поисках, естественно, стал бы революционером…»
3) Некий аноним Z («Новороссийский телеграф», 1880, 26 мая): «…из кое-каких слухов о дальнейшем содержании романа, слухов, распространившихся в петербургских литературных кружках, я могу сказать <…> что Алексей делается со временем сельским учителем и под влиянием каких-то особых психических процессов, совершающихся в его душе, он доходит даже до идеи о цареубийстве…»
4) Н. Гофман, немецкая исследовательница (опять же, со слов А. Г. Достоевской): «Алёша должен был – таков план писателя – по завещанию старца Зосимы, идти в мир, принять на себя его страдание и вину. Он женится на Лизе, потом покидает её ради прекрасной грешницы Грушеньки, которая пробуждает в нём «карамазовщину». После бурного периода заблуждений, сомнений и отрицаний, оставшись одиноким, Алёша возвращается опять в монастырь; он окружает себя детьми – им герой Достоевского посвящает всю свою жизнь: искренне любит их, учит, руководит ими…» [Достоевская, с. 503]
Во всех этих свидетельствах при разногласиях и разночтениях есть точки соприкосновения, и с абсолютной уверенностью можно сказать, что ненаписанный второй том «Братьев Карамазовых» был бы ещё более пророческим и провидческим, чем, скажем, «Бесы». Между прочим, в своих «Воспоминаниях» А. Г. Достоевская высказала поразительную мысль-предположение, что-де, если бы даже её муж и оправился от своей смертельной болезни, которая свела его в могилу в конце января 1881 г., он непременно бы умер через месяц, узнав о злодейском убийстве 1-го марта царя-освободителя народовольцами.
По мере печатания последнего романа и особенно после триумфальной «Пушкинской речи» (8 июня 1880 г.) слава Достоевского росла и ширилась. Ни одно его прежнее произведение не вызывало такого бурного внимания критики: за один только 1879 г. в столичной и провинциальной печати появилось несколько десятков отзывов. Многие рецензенты отмечали напряжённость сюжета, злободневность содержания, резкую исключительность героев, налёт мистицизма при несомненном реализме изображения. Характерным в этом плане можно считать суждение, сформулированное рецензентом «Голоса» (1879, № 156): «Несмотря на всю чудовищность и дикость положений, в которые ставятся его действующие лица, несмотря на несообразность их действий и мыслей, они являются живыми людьми. Хотя читателю иногда приходится <…> чувствовать себя в обстановке дома сумасшедших, но никогда в обстановке кабинета восковых фигур <…> в романах г-на Достоевского нет фальши…»
Из всего изобилия разборов «Братьев Карамазовых», появившихся при жизни автора, наиболее значимы: К. Н. Леонтьев «О всемирной любви», Н. К. Михайловский «Записки современника», В. П. Буренин «Литературные очерки», М. А. Антонович «Мистико-аскетический роман».
Отправляя 8 ноября 1880 г. в редакцию «Русского вестника» «Эпилог» романа Достоевский в сопроводительном письме писал Н. А. Любимову: «Ну вот и кончен роман! Работал его три года, печатал два – знаменательная для меня минута. К Рождеству хочу выпустить отдельное издание. Ужасно спрашивают, и здесь, и книгопродавцы по России; присылают уже деньги.
Мне же с Вами позвольте не прощаться. Ведь я намерен еще 20 лет жить и писать…»
Уверенность писателя в том, что новый его роман будет иметь «ужасный» успех полностью оправдалась: когда отдельное двухтомное издание «Братьев Карамазовых» вышло в начале декабря 1880 г., то буквально в несколько дней была раскуплена половина трёхтысячного тиража – для того времени ажиотаж небывалый. Предсказание же Фёдора Михайловича о 20 годах жизни и работы впереди, увы, не сбылись – жить ему оставалось меньше трёх месяцев и второй книге романа так и не суждено было появиться на свет.
Для читателей Алёша Карамазов так и остался навек – кротким послушником…
Введение
Статья I из цикла «Ряд статей о русской литературе». Вр, 1861, № 1, без подписи. (XVIII)
«Введение», открывая «Ряд статей о русской литературе», носит во многом обобщающе-теоретический характер, уточняя и разъясняя основные положения «почвенничества». Состоит эта вводная статья из 5 глав и довольно обширна по объёму (заняла в журнале 35 страниц). Построена она в виде диалога автора с воображаемыми собеседниками-европейцами, которые имеют о России совершенно превратное мнение. Квинтэссенция рассуждений писателя по этому поводу заключена в следующем утверждении: «Да, мы веруем, что русская нация – необыкновенное явление в истории всего человечества. Характер русского народа до того не похож на характеры всех европейских народов, что европейцы до сих пор не понимают его и понимают в нём всё обратно. Все европейцы идут к одной и той же цели, к одному и тому же идеалу; это бесспорно так. Но все они разъединяются между собою почвенными интересами, исключительны друг к другу до непримиримости, всё более и более расходятся по разным путям, уклоняясь от общей дороги…» И далее Достоевский горячо отстаивает убеждение, что «русский путь» к идеалу единственно верный и проделать его можно только, если образованная часть общества соединится с «почвой», и тогда, утверждает писатель, «кто знает, господа иноземцы, может быть, России именно предназначено <…> проникнуться вашей идеей, понять ваши идеалы, цели, характер стремлений ваших; согласить ваши идеи, возвысить их до общечеловеческого значения и, наконец, свободной духом, свободной от всяких посторонних, сословных и почвенных интересов, двинуться в новую, широкую, ещё неведомую в истории деятельность, начав с того, чем вы кончите, и увлечь вас всех за собою…»
Великолепная мысль. Иметь в виду
Идея романа. Неосущ. замысел, 1870. (XII).
Эта запись в рабочей тетради на полстранички с подробным планом романа о писателе, который вследствие припадков «впал в отупение способностей и затем в нищету», появилась 16 /28/ февраля 1870 г., когда Достоевский начинал работу над «Бесами». Ранее, в образе Ивана Петровича («Униженные и оскорблённые»), Достоевский в какой-то мере использовал автобиографические черты. Задумывая данный сюжет, писатель намеревался ещё более откровенно и детально показать-объяснить своё положение «особняком» в русской литературе, свои эстетические воззрения, попытки воплощения в творчестве своей заветной идеи о «новом слове», почти невыносимые условия своей жизни и творческой деятельности… Герой-романист здесь не только страдает эпилепсией, но и вынужден писать к сроку, «на заказ», его недооценивают критика и пр., в записи упоминаются имена И. С. Тургенева, М. Е. Салтыкова-Щедрина, И. А. Гончарова и др. Чрезвычайно интересен в этом плане следующий фрагмент: «Ну, положим, с графом Л. Толстым или с г<осподином> Тургеневым <…> не равняю; даже с другим графом Толстым не равняю, но реалист Писемский – это другое дело! Ибо это водевиль французский, который выдают нам за русский реализм…»
В какой-то мере часть этого замысла отразилась позже в «Бесах» при создании образа романиста Кармазинова, других героев-литераторов и сцен-эпизодов вроде «кадрили литературы».
Весенняя любовь
Неосущ. замысел, 1859. (III)
Это должен был быть роман (повесть) о любви, о сложных в психологическом плане взаимоотношениях главных героев «князя» и «литератора» и их соперничестве в любовном треугольнике… Наброски к плану Достоевский делал, по крайней мере, трижды: 23 июня, 23 ноября 1859 г. и 7 января 1860 г. Это был период подготовки к отъезду из Сибири и первых месяцев свободной жизни в Твери, затем в Петербурге, период возвращения в литературу. Перед автором «Бедных людей» стояла глобальная задача – восстановить своё писательское имя в глазах читающей публики, выступить в печати с произведением, которое по значимости не уступало бы его дебютному роману. Первые послекаторжные повести «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково и его обитатели» таких ожиданий не оправдали. Достоевский возлагал большие надежды в этом плане на «Весеннюю любовь», предполагая, видимо, такой же успех, какой выпал на долю нового романа И. С. Тургенева «Дворянское гнездо» (1859), который и самого Достоевского привёл в восхищение. Во многом этот замысел был и ориентирован на роман Тургенева, больше того, заглавие будущего произведения было «подсказано» статьёй-рецензией П. В. Анненкова «Наше общество в “Дворянском гнезде” Тургенева», где судьба тургеневской героини Лизы Калитиной сравнивалась с цветком, погибшим среди весны от неожиданного мороза…
Вряд ли «Весенняя любовь», будь она написана, повторила бы успех «Дворянского гнезда», с которым наверняка её бы сопоставляла-сравнивала читающая и критикующая публика. Достоевский, в конце концов, от этого замысла отказался и лишь частично использовал отдельные сюжетные коллизии плана, связанные с темой любви и взаимоотношениями героев-соперников, в романе «Униженные и оскорблённые», к работе над которым приступил с середины 1860 г.
Вечный муж
Рассказ. «Заря», 1870, № 1, 2. (IX)
Основные персонажи:
Багаутов Степан Михайлович;
Вельчанинов Алексей Иванович;
Голубчиков Дмитрий (Митенька);
Захлебинин Федосей Петрович;
Захлебинина Катерина Федосеевна;
Захлебинина Надежда Федосеевна;
Лобов Александр;
Марья Никитишна;
Марья Сысоевна;
Погорельцев Александр Павлович;
Погорельцева Клавдия Петровна;
Предпосылов;
Трусоцкая Лиза;
Трусоцкая Наталья Васильевна;
Трусоцкая Олимпиада Семёновна;
Трусоцкий Павел Павлович.
Павел Павлович Трусоцкий, проживающий в губернском городе Т. (в черновых материалах название города указывается полностью – Тверь), был вполне благополучным человеком: служил чиновником, получал хороший оклад, имел жену и дочь, пользовался, как ему казалось, уважением местного бомонда, к которому по праву принадлежал… И вдруг всё обрушилось в один миг: мало того, что супруга скоропостижно скончалась, но из её интимных писем несчастный муж узнаёт, что он был долгие годы рогоносцем, посмешищем общества, и восьмилетняя Лиза вовсе не его дочь. Трусоцкий приезжает вместе с девочкой в Петербург, разыскивает её настоящего отца, Вельчанинова, с целью отомстить. И мщение обманутому мужу удаётся в полной мере: он изматывает бывшего любовника своей жены морально, чуть не убивает физически, доводит до болезни и смерти Лизу… Через два года Вельчанинов встречает случайно Трусоцкого на железной дороге: тот снова женат, рядом с молодой женой новый любовник…
Безмерно ревнивый муж в качестве главного героя произведения уже появлялся в раннем рассказе Достоевского (1848) – «Чужая жена и муж под кроватью». В то время молодой писатель, не имеющий опыта семейной жизни и пробующий свои силы в разных жанрах, создал вполне традиционный комический, водевильный образ мужа-рогоносца. Взявшись за сходный сюжет в конце 1860-х, Достоевский создаёт психологическое исследование трагедии обманутого мужа. Хотя, по мнению многих исследователей, канву повести составили перипетии сибирского романа А. Е. Врангеля с замужней женщиной (Е. И. Гернгросс) и семейная жизнь С. Д. Яновского, но в психологический портрет мужа-ревница писатель, надо полагать, вложил и немало личного. К тому времени он был уже второй раз женат и пережил страстный мучительный роман с А. П. Сусловой, так что о чувстве жгучей ревности знал не понаслышке и, к слову, оставался ревнивцем до последних дней жизни. В качестве характерного примера можно вспомнить один только эпизод. Случилось это в мае 1876 г., уже после написания «Вечного мужа». А. Г. Достоевская в один из недоброй памяти весенних дней вздумала легкомысленно пошутить: переписала слово в слово грязное анонимное письмо из романа С. И. Сазоновой (Смирновой) «Сила характера», который только-только, буквально накануне, прочёл в «Отечественных записках» муж, и отправила его почтой на имя Фёдора Михайловича. На другой день, после весёлого и шумного семейного обеда, когда супруг удалился со стаканом чая к себе в кабинет читать свежие письма и уже должен был, по плану Анны Григорьевны, узнать из анонимного послания, что-де «близкая ему особа так недостойно его обманывает» и что ему стоит посмотреть-узнать, чей это портрет она «на сердце носит», – шутница пошла к нему, дабы вместе посмеяться. А кончилось всё чуть ли не трагически: Достоевский устроил жуткую сцену, сорвал с шеи жены цепочку с медальоном (поранив до крови) и увидел в медальоне портрет «с одной стороны – портрет нашей Любочки, с другой – свой собственный». А затем признался: «—Ведь я в гневе мог задушить тебя! Вот уж именно можно сказать: Бог спас, пожалел наших деток! И подумай, хоть бы я и не нашёл портрета, но во мне всегда оставалась бы капля сомнения в твоей верности, и я бы всю жизнь этим мучился. Умоляю тебя, не шути такими вещами, в ярости я за себя не отвечаю!..» [Достоевская, с. 316]
«Вечный муж» был написан в осенние месяцы 1869 г., в Дрездене, для нового журнала «Заря», издаваемого В. В. Кашпиревым. Достоевского подтолкнула на это личная просьба фактического редактора «Зари» Н. Н. Страхова, давнего знакомого и соратника по журналам «Время» и «Эпоха». Писателю показалась привлекательной и славянофильская программа затеянного Кашпиревым и Страховым издания. А, кроме того, писатель хотел в какой-то мере решить и часть острых финансовых проблем, «быстро» написав повесть всего лишь «листа в 2 печатных», прежде чем приступить к созданию очередного большого романа («Бесы»). Поначалу в конце февраля 1869 г. был составлен подробнейший «План для рассказа (в “Зарю”)» Однако вскоре Достоевский отложил этот сюжет и написал совсем другое произведение. Работа над «Вечным мужем» оказалась сложнее, чем предполагал автор, объём «рассказа» увеличился в несколько раз, он потребовала от писателя немало сил и нервов. В результате, отправив рукопись в редакцию, Достоевский в письме к племяннице С. А. Ивановой от 14 /26/ декабря 1869 г. в сердцах признавался: «Я был занят, писал мою проклятую повесть в “Зарю”. Начал поздно, а кончил всего неделю назад. Писал, кажется, ровно три месяца и написал одиннадцать печатных листов minimum. Можете себе представить, какая это была каторжная работа! Тем более, что я возненавидел эту мерзкую повесть с самого начала…»
Интересно, что вплоть до окончания работы над этим произведением и даже после публикации автор так и не определился до конца с его жанром и в письмах называл «Вечного мужа» то рассказом, то, чаще, повестью, то даже романом, в критике, как правило, применяется обозначение «повесть», что является обоснованным (и по объёму, и по количеству действующих лиц), но при публикациях произведения устоялся подзаголовок-обозначение – «Рассказ». В самый последний момент определился писатель и с названием, придумав его, скорее всего, по аналогии с выражением «вечный жид» – как легендарный еврей Агасфер осуждён Богом на вечные скитания, так Трусоцкий обречён быть вечно мужем-рогоносцем. Помнил, несомненно, Достоевский и роман «Вечный жид» французского писателя Эжена Сю, о котором писал ещё в самой ранней юности, 4 мая 1845 г., старшему брату: «“Вечный жид” недурен. Впрочем, Сю весьма недалёк…» И вообще, в этом произведении, как и всегда у Достоевского, немало литературных ассоциаций, аналогий, скрытого цитирования, пародийных мотивов. Особенно в этом плане интересны сюжетные переклички с комедией «Провинциалка» (1851) И. С. Тургенева и рассказом «Для детского возраста» (1863) М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Современная Достоевскому критика не очень высоко оценила повесть-рассказ «Вечный муж», не поняв сложности художественно-психологических мотивировок поведения героев. Наиболее, может быть, адекватным оказался отзыв в «Голосе» (1870, № 79, 20 мар.): «Что может быть обыкновеннее истории человека, который женится; женившись, он становится совершенным рабом своей жены и добродушно, сам того не замечая, носит длинные рога; что может быть, повторяем, обыкновеннее этой истории? А между тем – такова уж особенность таланта г. Достоевского – он рассказывает эту обыкновенную историю со всеми её реальными и вседневными, по-видимому, ничтожнейшими подробностями таким образом, что воображение читателя постоянно возбуждено, и какая-то таинственность, какая-то тайна кроется во всех этих кажущихся пошлостях жизни…»
Впоследствии Достоевский намеревался опубликовать в «Заре» большой роман «Житие великого грешника», однако работа над «Бесами» для «Русского вестника» отодвинула эти планы, позже Достоевский разочаруется в журнале Кашпирева-Страхова (слишком далёк от злободневных вопросов!), да и сама «Заря» будет выходить недолго – только с 1869 по 1873 г.
Влас
Очерк. Гр, раздел ДП (V), 1873, № 4, 22 янв. (XXI)
Начинается статья цитированием отрывков и разбором стихотворения «Влас» (1854) Н. А. Некрасова (о раскаявшемся крестьянине-грешнике) и посвящена русскому характеру, любимым идеям Достоевского, постоянно присутствующим в его творчестве, – о стремлении русского человека во всём дойти до черты, об идеале Христа, который народ русский носит в сердце своём, о потребности страдания, свойственной простым людям… Основу статьи занимает рассказ о двух мужиках, которые поспорили, кто из них «дерзостнее сделает». Один «Влас» и вызвался на спор совершить страшное святотатство – выстрелить из ружья в причастие. Только в последний момент, уже когда прицелился, было ему видение – будто целится он в крест со Спасителем. Мужик «упал с ружьём в бесчувствии», мучился несколько лет, а потом приполз на коленях к старцу-исповеднику за покаянием. Но Достоевского интересует не только этот, раскаявшийся «Влас» (настоящее имя его не известно), но ещё более второй, тот, который подзуживал первого, спровоцировал на святотатство – «нигилист деревенский». Квинтэссенция рассуждений Достоевского о двух народных типах завершается убеждённым пророческим выводом-обобщением: «Конечно, интерес рассказанной истории, – если только в ней есть интерес, – лишь в том, что она истинная. Но заглядывать в душу современного Власа иногда дело не лишнее. Современный Влас быстро изменяется. Там внизу у него такое же кипение, как и сверху у нас, начиная с 19 февраля. Богатырь проснулся и расправляет члены; может, захочет кутнуть, махнуть через край. Говорят, уж закутил. Рассказывают и печатают ужасы: пьянство, разбой, пьяные дети, пьяные матери, цинизм, нищета, бесчестность, безбожие. Соображают иные, серьёзные, но несколько торопливые люди, и соображают по фактам, что если продолжится такой “кутёж” ещё хоть только на десять лет, то и представить нельзя последствий, хотя бы только с экономической точки зрения. Но вспомним “Власа” и успокоимся: в последний момент вся ложь, если только есть ложь, выскочит из сердца народного и станет перед ним с неимоверною силою обличения. Очнётся Влас и возьмётся за дело Божие. Во всяком случае спасёт себя сам, если бы и впрямь дошло до беды. Себя и нас спасет, ибо опять-таки – свет и спасение воссияют снизу (в совершенно, может быть, неожиданном виде для наших либералов, и в этом будет много комического). <…> Во всяком случае наша несостоятельность как “птенцов гнезда Петрова” в настоящий момент несомненна. Да ведь девятнадцатым февралём и закончился по-настоящему петровский период русской истории, так что мы давно уже вступили в полнейшую неизвестность».
Вопрос об университетах
Статья.(Коллективное /?/). Вр, 1861, № 11, без подписи. (XIX)
Данная статья была второй, помещённой под общим заголовком «Ряд статей о русской литературе. Статья пятая», вслед за статьёй «Последние литературные явления. Газета “День”» и, таким образом, завершила весь цикл. Н. Н. Страхов не включил её в список журнальных статей Достоевского, составленный им по просьбе А. Г. Достоевской при подготовке первого посмертного издания сочинений писателя. Однако ж, по предположениям исследователей, Достоевский принимал участие в написании этой статьи (наряду с М. М. Достоевским или Страховым) и ему принадлежит по крайней мере часть текста и редактура его. «Вопрос об университетах» – отклик «Времени» на развернувшееся в прессе обсуждение предстоящей реформы университетского образования.
<В повесть Некрасову>
Неосущ. замысел, 1876—1877. (XVII)
Достоевский намеревался и после публикации романа «Подросток» в «Отечественных записках» продолжить сотрудничество в этом демократическом журнале. Им даже был взят аванс в 1000 рублей под будущую повесть. В рабочей тетради этого периода появились три очень короткие записи: две с пометой «В повесть Некрасову», одна – «Некрасову», содержащие общую характеристику героя, очень «мстительного» человека, и несколько диалогических реплик. Так как Н. А. Некрасов в этот период был уже тяжело болен переговоры с Достоевским об обещанной повести вели в письмах сначала секретарь редакции ОЗ и близкий товарищ писателя А. Н. Плещеев, позднее – М. Е. Салтыков-Щедрин. Напряжённая работа над «Дневником писателя», а затем над «Братьями Карамазовыми», да и, в какой то мере, смерть Некрасова так и не позволили Достоевскому исполнить обещание (что очень его мучило). Аванс за ненаписанную повесть уже после кончины писателя, в 1884 г., редакции вернула А. Г. Достоевская.
Вступление <к альманаху “1 апреля”>
(Коллективное). «Первое апреля», 1846. (XVIII)
После запрещения альманаха «Зубоскал», Н. А. Некрасов задумал новый альманах под названием «Первое апреля». Д. И. Григорович утверждал в своих воспоминаниях, что это он снова написал к нему «предисловие». Однако исследователи на основе анализа текста пришли к заключению, что соавтором Григоровича в данном случае несомненно был Достоевский.

Рисунки Достоевского.
Выставка в академии художеств за 1860—61 год
Статья. Вр, 1861, № 10, без подписи. (XIX)
Н. Н. Страхов не включил данную статью в составленный им для А. Г. Достоевской список анонимных статей Достоевского из журнала «Время», однако ряд авторитетных исследователей (в частности, Л. П. Гроссман) считают её принадлежащей перу писателя, но не исключено, что он был только соавтором. Эта статья об открывшейся 10 сентября 1861 г. выставке в Академии художеств появилась в пору ожесточённой полемики внутри самой Академии и в прессе о перспективах развития русского изобразительного искусства. Большое место в начале статьи уделено картине В. И. Якоби (1834—1902) «Привал арестантов», получившей большую золотую медаль, о которой бывшему каторжанину и автору «Записок из Мёртвого дома» было что сказать. Главное, что не устроило Достоевского в данной картине – формальный реализм, фотографичность без проникновения в психологию, внутренний мир изображённых персонажей. С подобных эстетических позиций разбираются в статье-обзоре и другие полотна выставки.
Г-н —бов и вопрос об искусстве
Статья II из цикла «Ряд статей о русской литературе». Вр, 1861, № 2. (XVIII)
В этой статье изложены основные эстетические взгляды Достоевского-художника и критическая платформа журнала «Время». Открывается статья кратким ироническим очерком истории «Отечественных записок» за предшествующие почти 15 лет (с момента ухода из журнала В. Г. Белинского), затем идёт характеристика современного литературного процесса, главным в котором, по мнению Достоевского, является разделение «многих из современных писателей наших на два враждебных лагеря» по вопросу об искусстве. И далее основное место в статье занимает критический разбор статей Н. А. Добролюбова «Черты для характеристики простонародья» (о рассказах Марко Вовчка) и «Стихотворения Ивана Никитина», опубликованных на страницах «Современника» в 1860 г. Ещё в 1849 г. в «Объяснении» Секретной следственной комиссии по делу петрашевцев Достоевский заявил один из краеугольных постулатов своей эстетической программы, «что искусство само себе целью, что автор должен только хлопотать о художественности, а идея придёт сама собою, ибо она необходимое условие художественности…» В данной статье он развивает эту мысль, говоря о разделении современного искусства на две партии – сторонников «чистого искусства» и «утилитаристов». Достоевский во многом не согласен с первыми, но совершенное неприятие вызывает у него «антиэстетическая» программа вторых. Полемизируя с ней, писатель формулирует своё творческое кредо: «Нам скажут, что мы это всё выдумали, что утилитаристы никогда не шли против художественности. Напротив, не только шли, но мы заметили, что им даже особенно приятно позлиться на иное литературное произведение, если в нём главное достоинство – художественность. Они, например, ненавидят Пушкина, называют все его вдохновения вычурами, кривляниями, фокусами и фиоритурами, а стихотворения его – альбомными побрякушками. Даже самое появление Пушкина в нашей литературе они считают как будто чем-то незаконным. Мы вовсе не преувеличиваем. Всё это почти ясно выражено г-ном —бовым в некоторых критических статьях его прошлого года. Заметно ещё, что г-н —бов начинает высказываться с каким-то особенным нерасположением о г-не Тургеневе, самом художественном из всех современных русских писателей. В статье же своей <…> при разборе сочинений Марка Вовчка, г-н —бов почти прямо выказывает, что художественность он считает ничем, нулём, и выказывает именно тем, что не умеет понять, к чему полезна художественность. При разборе одной повести Марка Вовчка г-н —бов прямо признаёт, что автор написал эту повесть нехудожественно, и тут же, сейчас же после этих слов, утверждает, что автор достиг вполне этой повестью своей цели, а именно: вполне доказал, что такой-то факт существует в русском простонародье. Между тем этот факт (очень важный) не только не доказывается этой повестью, но даже вполне подвергается сомнению именно потому, что по нехудожественности автора действующие лица повести, выставленные автором для доказательства его главной идеи, утратили под пером его всякое русское значение, и читатель скорее согласится назвать их шотландцами, итальянцами, североамериканцами, чем русским простонародьем. Как же в таком случае могли бы они доказать собою, что такой-то факт существует в русском простонародье, когда сами они, действующие лица, не похожи на русское простонародье? Но г-ну —бову до этого решительно нет дела; была бы видна идея, цель, хотя бы все нитки и пружины грубо выглядывали наружу; к чему же после этого художественность? <…> Чем познается художественность в произведении искусства? Тем, если мы видим согласие, по возможности полное, художественной идеи с той формой, в которую она воплощена. Скажем ещё яснее: художественность, например, хоть бы в романисте, есть способность до того ясно выразить в лицах и образах романа свою мысль, что читатель, прочтя роман, совершенно так же понимает мысль писателя, как сам писатель понимал её, создавая своё произведение. Следственно, попросту: художественность в писателе есть способность писать хорошо. Следственно, те, которые ни во что не ставят художественность, допускают, что позволительно писать нехорошо. А уж если согласятся, что позволительно, то ведь отсюда недалеко и до того, когда просто скажут: что надо писать нехорошо…»
Гоголь и Островский
Неосущ. замысел, 1861.
Во «Введении» к «Ряду статей о русской литературе», упомянув имя А. Н. Островского, Достоевский обещал «потом» написать в рамках этого цикла о драматурге и его творчестве подробнее, отдельно. Примерно в это же время в записной книжке 1860—1862 гг. появился фрагмент с пометой «В статью “Гоголь и Островский”». Статья так и не была написана.
Господин Прохарчин
Рассказ. ОЗ, 1846, № 10. (I)
Основные персонажи:
Зимовейкин;
Зиновий Прокофьевич;
Кантарев;
Марк Иванович;
Океанов;
Оплеваниев;
Преполовенко;
Прохарчин Семён Иванович;
Ремнев;
Судьбин;
Устинья Фёдоровна;
Ярослав Ильич.
В квартире от жильцов снимает угол бедный мелкий чиновник Прохарчин. Он настолько нищ, что даже платит за жильё всего пять рублей – в два раза меньше многих других жильцов, он экономит каждый грошик на еде, на одежде. Некоторые соседи, впрочем, замечали, что даже на такую мизерную зарплату можно было бы жить-существовать и более достойно. Когда же несчастный горемыка неожиданно умер, в его полусгнившем тюфяке обнаружили-нашли целый капитал – почти две с половиной тысячи рублей…
После публикации «Бедных людей» и «Двойника» Достоевский был переполнен новыми замыслами, в том числе для задуманного В. Г. Белинским альманаха «Левиафан» (который так и не вышел) он собирался написать «Повесть об уничтоженных канцеляриях». «Господин Прохарчин» сюжетно связан с этим замыслом – главный герой заболевает и умирает из-за переживаний, что канцелярию его закроют и он лишится места. Работа над рассказом заняла всё лето 1846 г. и далась писателю тяжело. Причём, именно с этого произведения началась кабальная «метода», ставшая для Достоевского основополагающей на всю оставшуюся жизнь: он забрал гонорар в «Отечественных записках» вперёд, авансом, и вынужден был его отрабатывать. Отзывы тогдашней критики о «Прохарчине» были противоречивы. Белинский в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» (1847) оценил его крайне отрицательно: «…появилось третье произведение г. Достоевского, повесть “Господин Прохарчин”, которая всех почитателей таланта г. Достоевского привела в неприятное удивление. В ней сверкают яркие искры большого таланта, но они сверкают в такой густой темноте, что их свет ничего не даёт рассмотреть читателю… Сколько нам кажется, ни вдохновение, ни свободное и наивное творчество породило эту странную повесть, а что-то вроде… как бы это сказать? – не то умничанья, не то претензии…» Позже Н. А. Добролюбов в статье «Забитые люди» (1861) даст более глубокую оценку рассказа, поставив его заглавного героя в ряд с другими образами «людей-ветошек», созданными Достоевским в ранний период творчества.
Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах
Статья. Э, 1864, № 5. (XX)
В 5-м номере «Современника» за 1864 г. появилась статья М. Е. Салтыкова-Щедрина «Литературные мелочи». В ней сатирик-демократ размышлял о «дряни» и «дрянных людях» в связи с «Записками из подполья» Достоевского, только что опубликованными в «Эпохе», позволил себе резкие сатирические выпады в адрес А. А. Григорьева, М. М. Достоевского и Н. Н. Страхова, а в финале вывел под видом аллегории «драматическую быль» «Стрижи», в которой опять-таки безжалостно высмеял братьев Достоевских и основных сотрудников их журнала. Автор «Записок из подполья» был выведен здесь в образе «Стрижа четвёртого, беллетриста унылого», а произведение его носит название – «Записки о бессмертии души». Ответная статья Достоевского носила ярко-памфлетный характер и была направлена не только против Щедрина, но и против всего революционно-демократического лагеря, где в разгоревшейся полемике между журналами «Современник» и «Русское слово» компрометировались, по мнению Достоевского, самые основы революционно-демократической идеологии.
Два лагеря теоретиков
(По поводу «Дня» и кой-чего другого). Статья. Вр, 1862, № 2. (XX)
В демократическом журнале «Современник» (1861, № 12) была опубликована статья М. А. Антоновича «О почве (не в агрономическом смысле, а в духе “Времени”)», направленная против журнала братьев Достоевских и почвенничества как идейного направления. Критик охарактеризовал теоретическую платформу «Времени» (выраженную, в частности, в Объявлениях об издании журнала и «Ряде статей о русской литературе» самого Достоевского), призыв к примирению народа и высших классов – как утопию. Прежде чем думать и мечтать о грамотности народа, необходимо сделать его свободным и дать ему кусок хлеба, за что «образованное меньшинство» и должно бороться – таков основной тезис Антоновича. Между тем, Достоевского не устраивала и позиция славянофильской газеты «День», где идеализировалась допетровская Русь. В результате и появилась вот эта во многом программная статья писателя, направленная и против «Современника», и против «Дня». Главная мысль её заключена в следующих словах: «Так вот два лагеря теоретиков, из которых один отрицает в принципе народность и, следовательно, наше чисто народное начало – земство. Другой понимает значение нашего земства по-своему и, во имя своей теории, не отдаёт справедливости и нашему образованному обществу… Те и другие, как видно, судят о жизни по теории и признают в ней и понимают только то, что не противоречит их исходной точке. А между тем часть истины есть и в том и в другом взгляде… и без этих частей невозможно обойтись при решении вопроса, что нужно нам, куда идти и что делать?..» Несмотря на стремление Достоевского сохранить беспристрастность в оценке сильных и слабых сторон славянофильства и западничества, в статье явно ощущается, что идеи славянофилов ему всё же ближе.
Две заметки редактора
Статья. Гр, 1873, № 27, 2 июля. (XXI)
Данная публикация состоит из двух частей. В первой Достоевский отвечает на письмо неизвестной слушательницы Высших московских женских курсов, помещённое в этом же номере «Гражданина», которая упрекала журнал в якобы выступлениях против высшего женского образования в России. Достоевский как редактор ещё раз уточняет: «Припомним же, что мы пожелали и о чём заявили в 22 № “Гражданина”.
“1) Строгая учебная дисциплина может быть введена и иметь целью требовать от женщин непременного учения, безо всяких послаблений в их пользу, и немедленно исключать тех из них, которые не учатся или учатся дурно.
2) Малейшее нарушение правил нравственности должно повлечь за собою немедленное исключение женщины из числа учащихся.
3) Ежегодные экзамены должны быть безусловно строги».
И вот за такие желания, или подобные им, нас обыкновенно объявляют в печати и обществе – ретроградами. <…> Но уверены ли вы, спрашиваем опять, что все слушательницы женских курсов садятся теперь <…> на студентскую скамью с ясным сознанием того, чего хотят, и не путаются в пустопорожних теориях? И вот единственно потому мы и желали, <…> чтоб женщины являлись прежде всего учиться и чтобы требовать от них непременно учения, самым строжайшим образом…»
Во второй «заметке» Достоевский объясняет, почему не отвечает «на критики, нападения и ругательства» в адрес Гр и его лично со стороны других печатных изданий, в основном, так называемой «либеральной журналистики». Здесь он повторяет аргументацию, уже высказанную им в «Полписьме “одного лица”» на страницах «Дневника писателя» (1873): «Во-первых и главное: не отвечать же каждому шуту?..» Достоевский специально оговаривается, что есть и не шуты, но зато «неискренние», так что отвечать им тоже чести мало. «Это целая толпа пишущей братии, когда-то, от предков наследовавшая несколько либеральных мыслей, но в совершенной их наготе и наивности, безо всякого их развития и толку. Что у Белинского и Добролюбова предлагалось всё же с некоторою последовательностью, то утратило у них все концы и начала. <…> Первая их забота, разумеется, чтоб было либерально…» И далее в особую вину Достоевский ставит таким «публицистам» то, что они даже о самых серьёзных и даже трагических проблемах (эпидемия самоубийств, распространение пьянства) зубоскалят и с горечью резюмирует: «Тут окончательная утрата понимания всего, что вне их приёмов, привычек и ихнего казённого и вымученного фельетонного слога, утрата почти языка человеческого…»
Но совсем особо упоминается в заметке г-н Н. М. (Н. К. Михайловский) из «Отечественных записок», который, по мнению Достоевского, безусловно искренний и умный публицист, и которому он давно хотел отвечать и обязательно ответит на его «критики». Полностью, в отдельной статье, своё обещание впоследствии Достоевский так и не исполнил.
Двойник
Петербургская поэма. Повесть. ОЗ, 1846, № 2, с подзаголовком «Приключения господина Голядкина». (I)
Основные персонажи:
Андрей Филиппович;
Берендеев Олсуфий Иванович;
Берендеева Клара Олсуфьевна;
Вахрамеев Нестор Игнатьевич;
Владимир Семёнович;
Генерал;
Голядкин Яков Петрович;
Голядкин Яков Петрович (младший);
Емельян Герасимович (Герасимыч);
Каролина Ивановна;
Остафьев;
Петрушка;
Писаренко;
Рутеншпиц Крестьян Иванович;
Сеточкин Антон Антонович.
Мелкий, но чрезвычайно амбициозный чиновник 9-го класса (титулярный советник) Яков Петрович Голядкин до определённого момента был своим существованием доволен: ждал повышения по службе, жил в своей квартире, имел камердинера. Но угораздило его влюбиться в дочку статского советника Берендеева. Повесть начинается с эпизода-катастрофы, когда бедного Голядкина не пускают на званный обед по случаю дня рождения Клары Олсуфьевны в дом Берендеевых, а когда он всё-таки окольными путями проникает внутрь, его с позором, на глазах всех гостей и самой Клары Олсуфьевны в буквальном смысле вышвыривают вон. Именно в этот вечер Голядкин впервые и сталкивается со своим двойником – Голядкиным-младшим, который уже в скором времени обходит Голядкина-старшего и по службе, и в личной жизни и вообще полностью и совсем оттесняет Якова Петровича, занимает его место в этом мире. Бедный Голядкин борется-сопротивляется изо всех своих сил, но, увы, борьба заканчивается тем, что его увозят в сумасшедший дом…
Достоевский приступил к работе над «Двойником» вскоре после окончания «Бедных людей» и уже окрылённый их первым, ещё до публикации, успехом. Повесть была начата в июне 1845 г. и закончена 28 января 1846 г. Ещё в процессе работы над произведением сам автор высоко оценивал его: «Голядкин выходит превосходно; это будет мой chef-d’oeuvre [фр. шедевр]…» (М. М. Достоевскому, 16 нояб. 1845 г.). В день выхода книжки журнала с повестью (1 фев. 1846 г.) он снова пишет брату: «Голядкин в 10 раз выше “Бедных людей”. Наши говорят, что после “Мёртвых душ” на Руси не было ничего подобного, что произведение гениальное <…> Действительно, Голядкин удался мне донельзя…» Достоевский в этом не лукавил: «наши», то есть члены кружка В. Г. Белинского и, в первую очередь, сам критик, и правду, чрезвычайно похвально отзывались о тех фрагментах «Двойника», которые читал им автор ещё до публикации. Однако ж после появления всего текста в журнале вторая повесть Достоевского вызвала всеобщее разочарование: «…нашли, что до того Голядкин скучен и вял, до того растянут, что читать нет возможности…» И далее в этом же письму к брату от 1 апреля 1846 г. Достоевский признавался: «Мне Голядкин опротивел. Многое в нём писано наскоро и в утомлении. 1-ая половина лучше последней. Рядом с блистательными страницами есть скверность, дрянь, из души воротит, читать не хочется…» Уже осенью 1846 г. писатель задумал переделку «Двойника». К этой мысли он возвращался и в следующем 1847 г., затем уже после каторги, в 1859-м, и чуть позже, в начале 1860-х, но лишь в 1866 г., в связи с подготовкой собрания своих сочинений в издании Ф. Т. Стелловского, Достоевский несколько доработал повесть – убрал второстепенные эпизоды, сделал стилистическую правку, снял заголовки глав и изменил их нумерацию, вместо прежнего подзаголовка поставил «Петербургская поэма»…
Новый подзаголовок соотносил повесть Достоевского с «Мёртвыми душами» Н. В. Гоголя, с художественным миром которого «Двойник» и помимо этого был тесно связан: основные линии сюжета (поражение бедного чиновника в борьбе с более высокопоставленным соперником за сердце и руку генеральской дочки и развивающееся на этой почве безумие героя; раздвоение личности) перекликаются с «Записками сумасшедшего» и «Носом», имена и фамилии отдельных персонажей (Голядкин, Петрушка, господа Бассаврюковы и др.) выдержаны в гоголевской традиции и т. п. Конечно, речь идёт не о подражательности или заимствовании, речь – о преемственности литературных традиций, уже разработанных Гоголем, а порой и о пародийных мотивах (которые ещё более явственно проявятся позже в «Селе Степанчикове и его обитателях»). Ранее Достоевского мотив двойничества, раздвоения сознания использовали в русской литературе, в частности, ещё и А. Погорельский (А. А. Перовский) в сборнике новелл «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» (1828), А. Ф. Вельтман в романе «Сердце и думка» (1838).
Уже на склоне лет в «Дневнике писателя» (1877, ноябрь) Достоевский признался по поводу «Двойника»: «Повесть эта мне положительно не удалась, но идея её была довольно светлая, и серьёзнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил…» А чуть ранее, в записной тетради 1872—1875 гг., он о Голядкине-младшем написал: «Мой главнейший подпольный тип…» В дальнейшем творчестве писателя тема душевного «подполья» будет развита в «Записках из подполья» и всех последующих произведениях, вплоть до «Братьев Карамазовых» (сцена с Чёртом), а мотив двойничества также будет разрабатываться и углубляться в поздних романах, где главным героям будут как бы сопоставлены их сниженные, «подпольные» двойники (Раскольников – Свидригайлов в «Преступлении и наказании», Ставрогин – Пётр Верховенский в «Бесах», Иван Карамазов – Смердяков и Чёрт в «Братьях Карамазовых» и др.).
Наиболее полные критические отзывы о «Двойнике» при жизни автора были даны в рецензии Белинского на «Петербургский сборник» (ОЗ, 1846, № 3), его статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» (С, 1847, № 1), в статьях В. Н. Майкова «Нечто о русской литературе в 1846 году» (ОЗ, 1847, № 1), Н. А. Добролюбова «Забитые люди» (С, 1861, № 9).
Детская сказка
См. Маленький герой.
Дневник писателя. 1873
Гр. (XXI)
С первых шагов на литературном поприще Достоевского привлекал жанр публицистики. Первым крупным опытом в этом плане можно считать его фельетоны из цикла «Петербургская летопись» (1847). Издавая в 1860-х гг. вместе с братом М. М. Достоевским журналы «Время» и «Эпоха», писатель продолжил разрабатывать этот жанр в таких крупных художественно-публицистических произведениях, как: «Ряд статей о русской литературе», «Петербургские сновидения в стихах и прозе», «Зимние заметки о летних впечатлениях». Именно они подготовили во многом форму будущего ДП. В период, когда крах «Эпохи» уже был неизбежен, появляются в рабочей тетради и переписке упоминания о замысле нового издания по типу журнала под названием «Записная книга». Идею тогда осуществить не удалось, но Достоевский её не оставил и за границей, откуда писал, в частности, племяннице С. А. Ивановой (29 сент. /11 окт. / 1867 г.): «…хочу издавать, возвратясь, нечто вроде газеты…» Возглавив с января 1873 г. газету-журнал князя В. П. Мещерского «Гражданин» писатель получил наконец возможность в какой-то мере реализовать свой давнишний замысел, но только в урезанном, не полном виде. Однако ж именно на страницах этого чужого издания окончательно определились форма личного «Дневника писателя» (который автор поначалу хотел назвать – «Дневник литератора»), предполагавшая доверительность, исповедальность тона, метод подачи материалов в основном в диалогической форме, соединение на его страницах злободневности, фельетонности содержания с мемуарами, с художественной прозой… По существу, начался прямой диалог писателя-романиста со своими читателями. Одни темы, поднятые в первых выпусках ДП, были уже заявлены в только что законченном романе «Бесы», часть тем была подсказана материалами, опубликованными в самом «Гражданине», в других периодических изданиях. Всего на страницах Гр в 1873 г. вышло 15 (без «Вступления») выпусков ДП. Ниже приведён их перечень с датой публикации. Выпуски (в первую очередь – художественные произведения), играющие особенно важную роль в творческом наследии Достоевского (заглавия их даны курсивом), рассмотрены в отдельных статьях.

Ф. М. Достоевский. Фотография В. Я. Лауфферта, 1872 г.
I. Вступление. (Гр, № 1, 1 янв.) Достоевский, обращаясь к читателям Гр, рассказал о своих задачах в качестве нового редактора газеты-журнала, охарактеризовал новую необычную форму ДП – персональной и единоличной публицистической трибуны с диалогической манерой подачи материалов.
II. Старые люди. (Гр, № 1, 1 янв.) Размышления автора о самых ярких представителях поколения 1840-х гг. – А. И. Герцене и В. Г. Белинском. Именно по этому очерку в какой-то мере можно составить представление о написанной Достоевским за границей и утерянной статье «Знакомство моё с Белинским» (1867).
III. Среда. (Гр, № 2, 8 янв.) Выпуск посвящён судебной реформе в связи с введением суда присяжных и пресловутой формуле «среда заела», которую Достоевский опровергал ещё на страницах «Записок из Мёртвого дома» (1860—1862). Автор приводит ряд картинок-примеров, когда приговор, вынесенный присяжными, совершенно не соответствует тяжести преступления.
IV. Нечто личное. (Гр, № 3, 8 янв.) своеобразный ответ автора «Бесов» тем критикам, которые ставили его в один ряд с авторами «антинигилистических» романов. Вспоминается здесь и история с повестью «Крокодил», которую в демократическом лагере посчитали пасквилем на Н. Г. Чернышевского. Достоевский горячо отвергает эти инвективы и, не затушёвывая своих идейных расхождений с демократическим лагерем и Чернышевским конкретно, недвусмысленно выразил своё сочувствие и уважение к последнему как «сам бывший ссыльный и каторжный».
V. Влас. (Гр, № 4, 22 янв.) Очерк.
VI. Бобок. (Гр, № 6, 5 фев.) Рассказ.
VII. «Смятенный вид». (Гр, № 8, 19 фев.) Здесь Достоевский, разбирая повесть Н. С. Лескова «Запечатленный ангел» (РВ, 1873, № 1), поднимает вопрос о движениях в русском сектантстве 1870-х гг. и о недостаточно действенном отношении православных священников к своей миссии. Признавая художественные достоинства повести, автор ДП выразил своё недоверие достоверности описанных в ней событий: неужели православные священнослужители так беспомощны и бесправны перед чиновниками?..
VIII. Полписьма «одного лица». (Гр, № 10, 5 мар.) Статья написана в пародийном ключе. Источником послужили, во-первых, полемические выступления газеты «Голос» против первых выпусков ДП, во-вторых, – полемика между В. П. Бурениным (СПбВед) и Н. К. Михайловским (ОЗ). Объектом пародии стали фельетоны Буренина, направленные против Михайловского и других сотрудников демократического журнала. «Одно лицо» уже являлся в ДП автором рассказа «Бобок» (псевдоним дан ему редакцией), в конце же он подписывается вторым псевдонимом, имеющим пародийное звучание – Молчаливый наблюдатель.
IX. По поводу выставки. (Гр, № 13, 26 мар.) Статья посвящена художественной выставке произведений живописи и скульптуры, предназначенных для отправки в Вену на всемирную выставку, которая открылась в Петербурге в марте 1873 г. Внимание публики и критики особенно привлекали две картины – «Бурлаки» И. Е. Репина и «Грешница» Г. И. Семирадского. Критика разделилась на два лагеря: демократическая часть превозносила полотно Репина, академическая критика – Семирадского. Достоевский, ни словом не упомянув о «Грешнице», всё своё внимание уделил «Бурлакам», восприняв их как торжество правды в искусстве. Помимо конкретных впечатлений, в статье Достоевского содержатся и теоретические рассуждения о назначении искусства и роли художника в обществе, что сближает её со статьёй «Г-н —бов и вопрос об искусстве» (1861).
X. Ряженый. (Гр, № 18, 30 апр.) Данная статья впрямую связана со статьёй «VII. Смятенный вид», в которой Достоевский признал повесть Н. С. Лескова «Запечатленный ангел» «в некоторых подробностях почти неправдоподобной». Обиженный Лесков, в свою очередь, в апреле 1873 г. в газете «Русский мир» под псевдонимами «Псаломщик» и «Свящ. П. Касторский» опубликовал две заметки, в которых обвинил автора ДП в незнании церковного быта. В «Ряженом» на основе анализа содержания и стиля этих «ругательных» заметок Достоевский дал понять, что знает настоящее имя их автора и сформулировал своё понимание задач творчества, отличающееся от художественных исканий Лескова и подобных ему писателей-реалистов, которые стремились воссоздать «народность» в своих произведениях в основном посредством дословного воссоздания простонародной речи.
XI. Мечты и грёзы. (Гр, № 21, 21 мая) Статья посвящена глобальным вопросам: исторической миссии России, задаче объединения интеллигенции и её сближения с народом. В связи с этим Достоевский поднимает проблему, которая волновала его и раньше («Пьяненькие», «Преступление и наказание»), которая уже не раз поднималась на страницах Гр, в том числе и самим Достоевским («Пожар в селе Измайлове»), и которая не раз ещё появится в ДП, в частности, уже в следующем, XII-м, выпуске – повсеместное пьянство, спаивание народа: «Есть местности, где на полсотни жителей и кабак, менее даже чем на полсотни. <…> Матери пьют, дети пьют, церкви пустеют, отцы разбойничают… <…> Спросите лишь одну медицину: какое может родиться поколение от таких пьяниц? <…> Но какой же образуется труд при таких кабаках? Настоящие, правильные капиталы возникают в стране не иначе как основываясь на всеобщем трудовом благосостоянии её, иначе могут образоваться лишь капиталы кулаков и жидов. Так и будет, если дело продолжится, если сам народ не опомнится; а интеллигенция не поможет ему…»
XII. По поводу одной драмы. (Гр, № 25, 18 июня) Здесь дан разбор драмы Д. Д. Кишенского «Пить до дна – не видать добра», опубликованной в «Гражданине» (1873, № 23—25). Пьеса привлекла внимание Достоевского прежде всего поднятыми в ней темами: нравственный распад пореформенной деревни, повсеместное пьянство народа, разложение крестьянской общины. Вместе с тем в разборе есть и немало критики в адрес автора драмы за художественные просчёты – натуралистический язык, нарушения такта и меры, наивность.
XIII. Маленькие картинки. (Гр, № 29, 16 июля) Статья посвящена теме Петербурга, состоит из трёх частей-«картинок», подсмотренных автором на улицах летнего душного города, и близка по форме к фельетону. Как раз в тот период в прессе обсуждался «Доклад высочайше учреждённой комиссии для исследования нынешнего положения сельского хозяйства и сельской производительности в России» (СПб., 1873). «Маленькие картинки» полемически связаны с этими откликами, в первую очередь, с обозрением А. С. Суворина «Недельные очерки и картинки», которое появилось буквально накануне (СпбВед, 1873, № 192, 15 июля) и которое, судя по всему, подсказало Достоевскому заглавие фельетона. В «Докладе» говорилось о нравственном разложении народа, ставилось под сомнение полезность крестьянской реформы. Автор ДП, соглашаясь с Сувориным и другими критиками «Доклада», полемизировал с ними в основном вопросе – о путях развития России. В следующей статье «Дневника» («Учителю») Достоевский дал как бы автокомментарий к «Маленьким картинкам».
XIV. Учителю. (Гр, № 32, 6 авг.) В газете «Голос» (1873, № 210, 31 июля) появился фельетон «Московские заметки», в котором анонимный автор назвал «мелочной» и «неэтичной» «картинку № 2» (где речь шла о широко употребляемом в народе матерном слове) из предыдущего выпуска ДП. Достоевский в данной статье отвечает «Голосу» и доказывает важность проблематики «Маленьких картинок».
XV. Нечто о вранье. (Гр, № 35, 27 авг.) Главная тема – негативные последствия послепетровского периода в психологии русского дворянства, выразившиеся в слепом преклонении перед Европой, неуважении к самим себе. Тема эта была продолжена в статье «Маленькие картинки (в дороге)» (1874), в ДП за 1876 г. (Июль—август, гл. I, «Выезд за границу. Нечто о русских в вагоне»), в романе «Подросток».
XVI. Одна из современных фальшей. (Гр, № 50, 10 дек.) Это – как бы ответ на критику «Бесов», который Достоевский ранее намеревался написать в виде предисловия или послесловия к отдельному изданию романа. Толчком к написанию данной статьи стали сообщения об аресте участников кружка А. В. Долгушина. Говоря о проблеме молодого поколения, об увлечении освободительными революционными идеями, Достоевский речь ведёт не только о «нечаевцах», «долгушинцах», но и напоминает, что он сам «петрашевец» и что подобные кружки привлекали к себе не худшую (как утверждала, к примеру, газета «Русский мир»), а лучшую часть молодёжи. В данном заключительном выпуске ДП за 1873 г. затрагивается проблематика почти всех предыдущих выпусков – пути развития России, взаимоотношения народа и интеллигенции, социализм и атеизм, «отцы и дети», «старые люди», молодое поколение…
Дневник писателя. 1876
Ежемесячное издание. 1876. (XXII—XXIV)
После окончания работы над романом «Подросток» Достоевский с 1 января 1876 г. возобновляет «Дневник писателя», но уже в виде отдельного самостоятельного издания в виде периодически выходящей журнальной книжки. Структура возобновлённого ДП резко отличалась от структуры «Дневника писателя» 1873 г., каждый выпуск теперь посвящён не одной-единственной теме, а имеет «энциклопедический» характер, вмещает в себя много тем и жанров. Суть и новизна возобновлённого ДП разъяснена Достоевским в объявлении об его издании, опубликованном в газетах, а затем перепечатанном в конце первого, январского, выпуска: «Каждый выпуск будет заключать в себе от одного до полутора листа убористого шрифта, в формате еженедельных газет наших. Но это будет не газета; из всех двенадцати выпусков (за январь, февраль, март и т. д.) составится целое, книга, написанная одним пером. Это будет дневник в буквальном смысле слова, отчёт о действительно выжитых в каждый месяц впечатлениях, отчёт о виденном, слышанном и прочитанном. Сюда, конечно, могут войти рассказы и повести, но преимущественно о событиях действительных. Каждый выпуск будет выходить в последнее число каждого месяца и продаваться отдельно во всех книжных лавках по 20 копеек. Но желающие подписаться на всё годовое издание вперёд пользуются уступкою и платят лишь два рубля (без доставки и пересылки), а с пересылкою и доставкою на дом два рубля пятьдесят копеек…» Ранее, ещё в XVIII в., в России бывали случаи издания «единоличных» журналов («Почта духов» И. А. Крылова и др.), но то были узконаправленные, сатирические издания, «Дневник» же Достоевского – это и политическое, и публицистическое, и художественное, и критическое, и историческое, и, в том числе, сатирическое «моноздание» с гениальным единством формы и содержания, остающееся уникальным явлением во всей мировой литературе и журналистике до сих пор.
Работа над ДП требовала от Достоевского неимоверного напряжения сил, бывало, он не успевал написать все материалы до 25-го и очередной номер поступал в цензуру в самые последние числа месяца, но, тем не менее, выходил в срок. Первый выпуск был отпечатан в количестве 2000 экземпляров, но вскоре его пришлось допечатывать. К концу года ДП имел 1982 подписчика, а с розничной продажей тираж его достигал 6000 экземпляров. От читателей ДП начали приходить Достоевскому письма (сохранилось 92 таких письма за 1876 г., но, конечно, на самом деле их было больше), на которые он отвечал на страницах «Дневника» или лично. А ведь поначалу, ещё до выхода первого номера, мнение в литературных и окололитературных кругах было более чем скептическое: дескать, издание никого не заинтересует, лопнет, Достоевский просто-де исписался, вот и взялся вместо романов издавать свой «Дневник»… Первый выпуск ДП встретил в прессе разноречивые отклики, но после февральского и мартовского выпусков репутация нового издания упрочилась, и он занял своё особое место в литературной и журнальной жизни того времени.
«Дневник писателя» – это в полном смысле слова произведение, сплав публицистики с художественным творчеством. Но вместе с тем точно так же, как ДП 1873 г. стал как бы подготовительной фазой, периодом накопления и осмысления материала для будущего «Подростка», так и ДП 1876—1877 гг. сыграл подобную роль своеобразной творческой лаборатории по отношению к «Братьям Карамазовым». Сам писатель в письме Х. Д. Алчевской от 9 апреля 1876 г. объяснял это так: «Вы сообщаете мне мысль о том, что я в «Дневнике» разменяюсь на мелочи. Я это уже слышал и здесь. Но вот что я, между прочим, Вам скажу: я вывел неотразимое заключение, что писатель – художественный, кроме поэмы, должен знать до мельчайшей точности (исторической и текущей) изображаемую действительность. <…> Вот почему, готовясь написать один очень большой роман, я и задумал погрузиться специально в изучение – не действительности, собственно, я с нею и без того знаком, а подробностей текущего. Одна из самых важных задач в этом текущем, для меня, например, молодое поколение, а вместе с тем – современная русская семья, которая, я предчувствую это, далеко не такова, как всего еще двадцать лет назад. Но есть и еще многое кроме того…»
Ниже полужирным курсивом приведены заглавия выпусков (большинство из которых уже достаточно информативны) и краткие аннотации содержания. Выпуски (в первую очередь – художественные произведения), играющие особенно важную роль в творческом наследии Достоевского (заглавия их даны светлым курсивом), рассмотрены в отдельных статьях.

Я Н В А Р Ь.
Глава первая.
I. Вместо предисловия о Большой и Малой Медведицах, о молитве великого Гёте и вообще о дурных привычках. Открывается «Дневник» разговором об участившихся случаях самоубийства среди молодёжи и российском либерализме, превратившемся в «ремесло или дурную привычку»…
II. Будущий роман. Опять «случайное семейство». Размышления о счастливых детях на рождественской ёлке в клубе художников и детях из «случайного семейства», оставшихся сиротами после трагической гибели матери и отчима. Именно здесь Достоевский признаётся, что «поставил себе идеалом написать роман о русских теперешних детях, ну и, конечно, о теперешних их отцах» и что роман «Подросток» был лишь «первой пробой этой мысли»…
III. Ёлка в клубе художников. Дети мыслящие и дети облегчаемые. «Обжорливая младость». Вуйки. Толкающиеся подростки. Поторопившийся московский капитан. Уже более подробные впечатления о детской ёлке и танцах, о которых лишь упоминалось в предыдущей главке, размышления о будущем этих детей и комментарий к сообщению «Петербургской газеты» об участившихся скандалах в обществе и, в частности, дебошире-капитане, испортившем один из балов. «Обжорливая младость» в заглавии – это цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина, а «вуйки» – неологизм Достоевского: «Вуйками я называю тех девиц, которые до тридцати почти лет отвечают вам: вуй да нон…» (фр. – да, нет).
IV. Золотой век в кармане. Впечатления писателя о «бале отцов», который начался в клубе художников вслед за детским балом. И сразу – «какая бездарность»: никто не весел, танцевать не умеют, топорщатся, молчат… И Достоевскому приходит в голову «фантастическая и донельзя дикая мысль», что если б все в зале стали на миг «искренними и простодушными», то в этой душной зале и наступил бы «золотой век»…
Глава вторая.
I. Мальчик с ручкой. «Дети странный народ, они снятся и мерещатся. Перед ёлкой и в самую ёлку перед рождеством я всё встречал на улице, на известном углу, одного мальчишку, никак не более как лет семи…» И далее следует рассказ о нищем мальчике, размышления о том, что ждёт его впереди…
II. Мальчик у Христа на ёлке. Рассказ.
III. Колония малолетних преступников. Мрачные особи людей. Переделка порочных душ в непорочные. Средства к тому, признанные наилучшими. Маленькие и дерзкие друзья человечества. Впечатления от посещения вместе с А. Ф. Кони колонии для малолетних преступников на Охте (окраина Петербурга). Главная мысль писателя: малолетним заблудшим душам в качестве лекарства необходим не только физический труд и строгая дисциплина, но и правильное образование и – с обязательным и глубоким преподаванием Закона Божия…
Глава третья.
I. Российское общество покровительства животным. Фельдъегерь. Зелено-вино. Зуд разврата и Воробьев. С конца или с начала? Размышления по случаю 10-летнего юбилея Российского Общества покровительства животных (общество это, в первую очередь, самим людям помогает оставаться людьми). Затем – воспоминание писателя о случае 40-летней давности, как в 1837 г. отец (М. А. Достоевский) вёз их с братом (М. М. Достоевским) в Петербург в Инженерное училище, и на одной из станций подростки-романтики, бредившие Шиллером и Пушкиным стали свидетелями отвратительной сцены, которая осталась в воспоминаниях писателя на всю жизнь: торопящийся по «государеву делу» фельдъегерь «хлопнул» водки на станции и вскочил в новую тройку: «Ямщик тронул, но не успел он и тронуть, как фельдъегерь приподнялся и молча, безо всяких каких-нибудь слов, поднял свой здоровенный правый кулак и, сверху, больно опустил его в самый затылок ямщика. Тот весь тряхнулся вперёд, поднял кнут и изо всей силы охлестнул коренную. Лошади рванулись, но это вовсе не укротило фельдъегеря. Тут был метод, а не раздражение, нечто предвзятое и испытанное многолетним опытом, и страшный кулак взвился снова и снова ударил в затылок. Затем снова и снова, и так продолжалось, пока тройка не скрылась из виду…» Возница Достоевских пояснил, что «все фельдъегеря почти так же ездят», а этот славится «кулаком» особенно – всегда пьян и жесток. И здесь, перейдя к разговору об ужасном распространении пьянства, власти «зелена-вина», и опять вспомнив об Обществе покровительства животных, Достоевский высказывает одну из самых своих заветных и «капитальных» для всего творчества и «Дневника писателя» мысль: «Я никогда не мог понять мысли, что лишь одна десятая доля людей должна получать высшее развитие, а остальные девять десятых должны лишь послужить к тому материалом и средством, а сами оставаться во мраке. Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верой, что все наши девяносто миллионов русских (или там сколько их тогда народится) будут все, когда-нибудь, образованы, очеловечены и счастливы. Я знаю и верую твёрдо, что всеобщее просвещение никому у нас повредить не может. Верую даже, что царство мысли и света способно водвориться у нас, в нашей России, ещё скорее, может быть, чем где бы то ни было, ибо у нас и теперь никто не захочет стать за идею о необходимости озверения одной части людей для благосостояния другой части, изображающей собою цивилизацию, как это везде во всей Европе…»
II. Спиритизм. Нечто о чертях. Чрезвычайная хитрость чертей, если только это черти. О ставшем ужасно модном во всех слоях общества спиритизме. Достоевский против каких-либо запретов в связи с этим: «Мистические идеи любят преследование, они ими созидаются…» Сам писатель бывал на нескольких спиритических сеансах.
III. Одно слово по поводу моей биографии. В «Русском энциклопедическом словаре», И. Н. Березина (СПб., 1875) были опубликованы статьи В. Р. Зотова (за подписью: В. З.) о Достоевском и его брате М. М. Достоевском, которые возмутили писателя неточностями и ошибками, о чём и написал он в ДП. Между прочим, утверждая здесь: «Я родился не в 1818-м году, а в 1822-м», – Достоевский сам допускает неточность, ибо родился всё же в 1821 г. Подобное с ним случалось не однажды: к примеру, 31 января 1873 г. он написал в альбом своей знакомой О. А. Козловой «Мне скоро пятьдесят лет, а я всё ещё никак не могу распознать: оканчиваю ли я мою жизнь или только лишь её начинаю…», – хотя в то время ему было совсем не «скоро пятьдесят», а уже «за» – ровно 51 год и 3 месяца.
IV. Одна турецкая пословица. Практически вся эта заключительная подглавка январского выпуска и состоит из мудрой пословицы, которой намерен следовать далее автор ДП: «Если ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять камнями во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели».
Ф Е В Р А Л Ь.
Глава первая.
I. О том, что все мы хорошие люди. Сходство русского общества с маршалом Мак-Магоном. Маршал Мари Эдм Патрис Морис де Мак-Магон герцог Маджентский (1808—1893) руководил в 1871 г. подавлением Парижской коммуны, был избран в 1873 г. президентом Франции, монархист по убеждениям. Достоевский ранее давал ему характеристику на страницах «Гражданина» («Иностранные события»). Напомнив высказывание маршала, что для него вся политика заключена в словах «Любовь к отечеству», Достоевский пишет, что вот так и в русском обществе: «…всем мы сходимся в любви если не к отечеству, то к общему делу (слова ничего не значат), – но в чём мы понимаем средства к тому, и не только средства, но и самое общее дело, – вот в этом у нас такая же неясность, как и у маршала Мак-Магона…»
II. О любви к народу. Необходимый контракт с народом. По сути здесь Достоевский вновь, как и во «Времени» говорит о возвращении к «почве»: «В русском человеке из простонародья нужно уметь отвлекать красоту его от наносного варварства <…> Но вопрос этот у нас никогда иначе и не ставился: “Что лучше – мы или народ? Народу ли за нами или нам за народом?” – вот что теперь все говорят <…> А потому и я отвечу искренно: напротив, это мы должны преклониться перед народом <…> Но, с другой стороны, преклониться мы должны под одним лишь условием <…>: чтоб народ и от нас принял многое из того, что мы принесли с собой…» Тему эту писатель как бы проиллюстрирует в следующей подглавке с рассказом о мужике Марее.
III. Мужик Марей. Рассказ.
Глава вторая.
I. По поводу дела Кронеберга.
II. Нечто об адвокатах вообще. Мои наивные и необразованные предположения. Нечто о талантах вообще и в особенности.
III. Речь г-на Спасовича. Ловкие приёмы.
IV. Ягодки.
V. Геркулесовы столпы.
VI. Семья и наши святыни. Заключительное словцо об одной юной школе.
Все шесть подглавок этой главы посвящены судебному процессу над Станиславом Леопольдовичем Кронебергом (Кроненбергом), который обвинялся в истязании своей 7-летней дочери. Дело слушалось 23—24 января 1876 г. в С.-Петербургском окружном суде и вызвало большой резонанс в обществе, широко освещалось в прессе. Защитником обвиняемого выступал известный адвокат В. Д. Спасович. Достоевский не только критикует адвокатскую казуистику вообще, но и размытость критериев нравственности у либералов, представителем которых и был Спасович.
М А Р Т.
Глава первая.
I. Верна ли мысль, что «пусть лучше идеалы будут дурны, да действительность хороша»? Ответ Гамме (Г. К. Градовскому), обвинившему Достоевского («Голос», 1876, № 67, 7 марта) в якобы противоречивости суждений о народе и его идеалах в февральском выпуске ДП.
II. Столетняя. Рассказ.
III. «Обособление». «Право, мне всё кажется, – пишет Достоевский, – что у нас наступила какая-то эпоха всеобщего “обособления”…» И далее писатель приводит примеры такого обособления, размышляет о губительности для общества духовно-нравственного разъединения. Особенно интересно в этом плане суждение Достоевского о литераторах и литературе: «Вот вам наш современный литератор-художник, то есть из новых людей. Он вступает на поприще и знать не хочет ничего предыдущего; он от себя и сам по себе. Он проповедует новое, он прямо ставит идеал нового слова и нового человека. Он не знает ни европейской литературы, ни своей; он ничего не читал, да и не станет читать. Он не только не читал Пушкина и Тургенева, но, право, вряд ли читал и своих, т. е. Белинского и Добролюбова. Он выводит новых героев и новых женщин, и вся новость их заключается в том, что они прямо делают свой десятый шаг, забыв о девяти первых, а потому вдруг очутываются в фальшивейшем положении, в каком только можно представить, и гибнут в назидание и в соблазн читателю. Эта фальшь положения и составляет всё назидание. Во всём этом весьма мало нового, а, напротив, чрезвычайно много самого истрепанного старья; но не в том совсем дело, а в том, что автор совершенно убежден, что сказал новое слово, что он сам по себе, и обособился и, разумеется, этим очень доволен…»
IV. Мечты о Европе. «Политическое обозрение» современных европейских событий: победа республиканцев на выборах в Палату депутатов во Франции, франко-германские отношения, положение в Герцеговине, восставшей против турок…
V. Сила мёртвая и силы грядущие. О борьбе католической церкви за светскую власть, размышления о будущем католицизма, взаимоотношениях православия и католицизма… Темы, поднятые здесь, волновали Достоевского ещё со времён журналов «Время» и «Эпоха», в период работы в «Гражданине», отразились они на страницах «Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов», а в наиболее полном и концентрированном виде размышления писателя о католицизме отразятся в главе «Великий инквизитор» романа «Братья Карамазовы».
Глава вторая.
I. Дон Карлос и сэр Уаткин. Опять признаки «начала конца». В самом начале данного «политического обозрения» Достоевский высказывает-повторяет одно из краеугольных убеждений своего эстетического кредо: «…что может быть фантастичнее и неожиданнее действительности? Что может быть даже невероятнее иногда действительности? Никогда романисту не представить таких невозможностей, как те, которые действительность представляет нам каждый день тысячами, в виде самых обыкновенных вещей…» Одна из таких «невозможностей» – въезд претендента на испанский престол дона Карлоса Младшего в Англию из выгнавшей его Франции и почести, оказанные ему при встрече одним из членов английского парламента сэром Уаткиным (Уоткиным). Далее речь идёт об особенностях англичан как нации и особенностях их веры, католицизме, протестантизме и совершенно новом явлении – «Церкви атеистов». Достоевский вспоминает-цитирует в связи с этим то место из своего «Подростка» (ч. 3, гл. 2, III), где Версилов рисует Аркадию Долгорукому будущий Золотой век, построенный на сходных началах.
II. Лорд Редсток. Редсток Гренвил Валдигрен (1831—1913), английский проповедник-евангелист, в 1876 г. вторично посетил Россию, и его проповеди пользовались большой популярностью в великосветских кругах Петербурга. Рассуждая о подобных «проповедниках» и вообще широком распространении в России сект, Достоевский с горечью пишет: «Повторяю, тут плачевное наше обособление, наше неведение народа, наш разрыв с национальностью, а во главе всего – слабое, ничтожное понятие о православии…»
III. Словцо об отчёте учёной комиссии о спиритических явлениях. Отчёт под заглавием «От комиссии для исследования медиумических явлений» за подписью её членов во главе с Д. И. Менделеевым был опубликован в «Голосе» (1876, № 85, 25 марта). Отчёт совершенно не удовлетворил Достоевского и, комментируя его, он продолжает тему, начатую в январском выпуске ДП (гл. 3, II): спиритизм опасен, ибо ведёт к «обособлению» и «разъединению» людей, и требует серьёзного разъяснения…
IV. Единичные явления. «Но является и другой разряд явлений, довольно любопытный, особенно между молодёжью. Правда, явления пока единичные. Рядом с рассказами о нескольких несчастных молодых людях, “идущих в народ”, начинают рассказывать и о другой совсем молодёжи. Эти новые молодые люди тоже беспокоятся, пишут к вам письма или сами приходят с своими недоумениями, статьями и с неожиданными мыслями, но совсем не похожими на те, которые мы до сих пор в молодёжи встречать привыкли. Так что есть некоторый повод предположить, что в молодёжи нашей начинается некоторое движение, совершенно обратное прежнему. Что же, этого, может быть, и должно было ожидать…» И далее ещё в нескольких абзацах писатель развивает эту тему – появились надежды на то, что «дети», в отличие от «отцов», пойдут по «правильному пути»…
V. О Юрие Самарине. Самарин Юрий Фёдорович (1819—1876), славянофил, публицист, общественный деятель, принимавший активное участие в разработке и проведении крестьянской реформы 1861 г., умер 19 марта. Достоевский, комментируя сообщения газет об этом, резюмирует в конце этой совсем небольшой главки: «…с Юрием Самариным мы лишились твёрдого и глубокого мыслителя, и вот в чём утрата. Старые силы отходят, а на новых, на грядущих людей пока еще только разбегаются глаза…»
А П Р Е Л Ь.
Глава первая.
I. Идеалы растительной стоячей жизни. Кулаки и мироеды. Высшие господа, подгоняющие Россию.
II. Культурные типики. Повредившиеся люди.
III. Сбивчивость и неточность спорных пунктов.
IV. Благодетельный швейцар, освобождающий русского мужика.
В «Русском вестнике» (1876, № 3) появилась статья В. Г. Авсеенко (за подписью: А.) «Опять о народности и о культурных типах» о творчестве Андрея Печерского (П. И. Мельникова), в которой резко критиковались суждения Достоевского о народе в февральском выпуске ДП. Отталкиваясь от этого, писатель всю первую главу апрельского выпуска посвятил разъяснению своего взгляда на русский народ, на взаимоотношения «высшего круга» и народа. В названия подглавок вынесены автором основные полемические моменты. В самом конце – квинтэссенция этих размышлений: «Я хочу именно указать, что народ вовсе не так безнадёжен, вовсе не так подвержен шатости и неопределенности, как, напротив, подвержен тому и заражен тем наш русский культурный слой, которым эти все господа гордятся как драгоценнейшим, двухсотлетним приобретением России. Я хотел бы, наконец, указать, что в народе нашем вполне сохранилась та твёрдая сердцевина, которая спасёт его от излишеств и уклонений нашей культуры и выдержит грядущее к народу образование, без ущерба лику и образу народа русского…» В этой главе немало места уделено критическому разбору не только статьи Авсеенко, но и его прозы, отличающейся, по мнению Достоевского, дурным вкусом и примитивностью мысли.
Глава вторая.
I. Нечто о политических вопросах. Очередное «политическое обозрение» текущих событий в Европе, предвещающих войну, положение и судьба России в этой связи. Полон оптимизма вывод из рассуждений: «Но уже не мечтательно, а почти с уверенностью можно сказать, что даже в скором, может быть ближайшем, будущем Россия окажется сильнее всех в Европе. Произойдет это от того, что в Европе уничтожатся все великие державы, и по весьма простой причине: они все будут обессилены и подточены неудовлетворенными демократическими стремлениями огромной части своих низших подданных, своих пролетариев и нищих. В России же этого не может случиться совсем: наш демос доволен, и чем далее, тем более будет удовлетворён, ибо всё к тому идет, общим настроением или, лучше, согласием. А потому и останется один только колосс на континенте Европы – Россия. Это случится, может быть, даже гораздо ближе, чем думают. Будущность Европы принадлежит России…»
II. Парадоксалист. «Кстати, насчёт войны и военных слухов. У меня есть один знакомый парадоксалист. Я его давно знаю. <…> раз он заспорил со мной о войне. Он защищал войну вообще и, может быть, единственно из игры в парадоксы», – так начинается эта подглавка и далее идёт диалог-спор с этим «парадоксалистом» о войне. Здесь недаром сказано, что автор «давно его знает», ибо потом, уже при чтении страниц ДП 1877 г., посвящённых русско-турецкой войне на Балканах, памятливый читатель обнаружит, что многие суждения «парадоксалиста» уже будут высказаны от лица самого Достоевского…
III. Опять только одно словцо о спиритизме. Продолжение темы, к которой Достоевский уже обращался в январском (гл. 3, II) и мартовском (гл. 2, III) выпусках. Здесь более подробно говорится о деятельности Д. И. Менделеева по разоблачению спиритизма, которая во многом автора ДП не удовлетворяла и провоцировала на ироническое отношение…
IV. За умершего. В «Новом времени» (1876, № 55, 25 апр.) Достоевский увидел перепечатанный из журнала «Дело» некролог профессора-историка и публициста А. П. Щапова (1830—1876), в котором приводился оскорбительный для памяти М. М. Достоевского «анекдот», как он, будучи редактором «Времени» однажды якобы сжульничал при выплате гонорара Щапову – вместо выдачи денег одел его у своего портного в одежду «весьма сомнительного свойства». Достоевский, опровергая эту сплетню, рисует истинный образ покойного брата – глубоко честного, порядочного и щепетильного в денежных расчётах человека и редактора. Эта подглавка перекликается с «Примечанием <к статье Н. Страхова “Воспоминания об А. А. Григорьеве”> (1864).
М А Й.
Глава первая.
I. Из частного письма.
II. Областное новое слово.
III. Суд и г-жа Каирова.
IV. Г-н защитник и Каирова.
V. Г-н защитник и Великанова.
28 апреля 1876 г. на заседании Петербургского окружного суда слушалось «дело Каировой». Актриса провинциального театра Анастасия Васильевна Каирова полоснула бритвой по горлу жену своего любовника антрепренёра Василия Александровича Великанова и тоже актрису Александру Ивановну Великанову, рана оказалась не смертельной, присяжные Каирову оправдали. Дело это вызвало в прессе новую волну дискуссии о суде присяжных и адвокатуре. Всю первую главу майского выпуска ДП Достоевский и посвятил этой «капитальной» теме – судебной реформе в связи с данным судебным процессом, разбив, по традиции, ход рассуждений на главки.
Говоря в связи с этим делом о размытости нравственных критериев в речах адвокатов, Достоевский, в частности, убеждённо пишет: «…ведь трибуны наших новых судов – это решительно нравственная школа для нашего общества и народа. Ведь народ учится в этой школе правде и нравственности; как же нам относиться хладнокровно к тому, что раздастся подчас с этих трибун?..»
Глава вторая.
I. Нечто об одном здании. Соответственные мысли. В конце апреля 1876 г. Достоевский посетил Петербургский воспитательный дом. Впечатления об увиденном и размышления о детях-сиротах – материал данной главки.
II. Одна несоответственная идея. Здесь Достоевский возвращается к одной из самых «капитальных» тем в своём творчестве, с которой он и начал самый первый выпуск ДП 1876 г. – участившиеся случаи самоубийства среди молодёжи. На этот раз его внимание привлекло сообщение о 25-летней Надежде Писаревой, которая «устала жить» и предсмертная записка которой потрясла писателя циничной деловитостью. Достоевский обращается к таким преждевременно «уставшим жить»: «Милые, добрые, честные (всё это есть у вас!), куда же это вы уходите, отчего вам так мила стала эта тёмная, глухая могила? Смотрите, на небе яркое весеннее солнце, распустились деревья, а вы устали не живши…»
III. Несомненный демократизм. Женщины. Один из читателей в письме выразил несогласие с утверждением Достоевского в апрельском выпуске ДП (гл. 2, I) о том, что «наш демос доволен и удовлетворён» и потому в будущем будет «один только колосс на континенте Европы – Россия…» Достоевский здесь разъясняет свою позицию, он считает, что кардинальное наше отличие от Европы состоит в том, что там демократизм начался снизу и ещё далеко не побеждает, а в России по-другому: «Наш верх побеждён не был, наш верх сам стал демократичен или, вернее, народен <…> А если так, то согласитесь сами, что наш демос ожидает счастливая будущность…» И в этом плане большие надежды писатель связывает с русской женщиной, высказывая пожелание допустить её к высшему образованию «со всеми правами, которое даёт оно»…
И Ю Н Ь.
Глава первая.
I. Смерть Жорж Занда.
II. Несколько слов о Жорж Занде.
«Прошлый, майский № “Дневника” был уже набран и печатался, когда я прочёл в газетах о смерти Жорж Занда (умерла 27 мая – 8 июня). Так и не успел сказать ни слова об этой смерти. А между тем, лишь прочтя о ней, понял, что значило в моей жизни это имя, – сколько взял этот поэт в своё время моих восторгов, поклонений и сколько дал мне когда-то радостей, счастья! Я смело ставлю каждое из этих слов, потому что всё это было буквально. Это одна из наших (то есть наших) современниц вполне – идеалистка тридцатых и сороковых годов…» И далее вся первая глава из двух частей посвящена памяти французской писательницы Жорж Санд (1804—1876), оказавшей на русскую литературу и творчество самого Достоевского огромное влияние.
Глава вторая.
I. Мой парадокс.
II. Вывод из парадокса.
III. Восточный вопрос.
IV. Утопическое понимание истории.
V. Опять о женщинах.
Вся эта глава отдана политике, обзору положения в Европе, сложившемуся накануне и в начале военных действий на Балканах. В обществе, в прессе кипели страсти по поводу участия России в этой войне. Русское общество разделилось на противников войны и сторонников. Достоевский был безусловным сторонником позиции, что русские должны помочь братьям-славянам в борьбе против турецкого ига. В конце, в подглавке «Опять о женщинах», писатель, сообщая о визите к нему девушки (С. Е. Лурье), которая собралась ехать в Сербию на войну сестрой милосердия, снова повторяет свою мысль о возрастании роли женщины в жизни страны и необходимости предоставления ей бóльших прав и образования.
И Ю Л Ь и А В Г У С Т.
Глава первая.
I. Выезд за границу. Нечто о русских в вагонах.
II. Нечто о петербургском баден-баденстве.
III. О воинственности немцев.
IV. Самое последнее слово цивилизации.
5 июля 1876 г. Достоевский выехал на лечение в Эмс и возвратился в Петербург 9 августа. Подписчики получили в начале сентября сдвоенный выпуск ДП за два летних месяца. Вся первая глава посвящена дорожным и заграничным впечатлениям, размышлениям писателя о Европе, иностранцах, русских за границей и в этом плане перекликается с «Зимними заметками о летних впечатлениях» (1863), «Игроком» (1865) и рядом других произведений.
Глава вторая.
I. Идеалисты-циники.
II. Постыдно ли быть идеалистом?
III. Немцы и труд. Непостижимые фокусы. Об остроумии.
Глава третья.
I. Русский или французский язык?
II. На каком языке говорить отцу отечества?
Глава четвёртая.
I. Что на водах помогает: воды или хороший тон?
II. Один из облагодетельствованных современной женщиной.
III. Детские секреты.
IV. Земля и дети.
V. Оригинальное для России лето.
Post scriptum.
В заключительном разделе первой главы о «самом последнем слове цивилизации» Достоевский переходит к политической злобе дня – «восточному вопросу», то есть положению на Балканах, освободительной войне славянских народов против турецкого ига. Во второй главе он ставит этот вопрос в центр внимания, проводя параллели между этой войной и Крымской 1855 г. В этой связи он подробно разбирает анонимную статью «Восточный вопрос с русской точки зрения 1855 года», которая ошибочно приписывалась перу Т. Н. Грановского (автором на самом деле был известный впоследствии юрист, философ и общественный деятель Б. Н. Чичерин), посвятив этому две подглавки. А все остальные материалы сдвоенного выпуска, как и первая глава, тоже посвящены впечатлениям и размышлениям Достоевского в связи с пребыванием за границей – нравы, обычаи, национальные особенности, русские за границей и пр. Здесь, в главе четвёртой, вновь появляется некий «парадоксалист», уже знакомый читателю по апрельскому выпуску (гл. 2, II) собеседник автора, с которым в горячих спорах обсуждаются самые злободневные вопросы: политика, будущее «детей», «женский вопрос», балканский кризис и т. п.
С Е Н Т Я Б Р Ь.
Глава первая.
I. Piccola bestia.
II. Слова, слова, слова!
III. Комбинации и комбинации.
IV. Халаты и мыло.
Первая глава посвящена «Восточному вопросу» – освободительной войне славянских народов против турецкого ига. Вспомнив, как будучи во Флоренции он в гостиничном номере всю ночь мучился кошмарами из-за того, что где-то в комнате пряталась «piccola bestia» (пакостная тварь) – тарантул, писатель метафорически обыгрывает этот образ в ДП, саркастически сравнивая с «piccola bestia» премьер-министра Англии «виконта Биконсфильда» (Бенджамина Дизраэли), наводящего ужас на всю Европу, пугая её Россией. Да и, провозгласив «в своей речи, что Сербия, объявив войну Турции, сделала поступок бесчестный и что война, которую ведёт теперь Сербия, есть война бесчестная, и плюнув, таким образом, почти прямо в лицо всему русскому движению <…>, этот израиль, этот новый в Англии судья чести», по мнению Достоевского, не кто иной, как – «piccola bestia». И далее, рассматривая все разноречивые мнения-взгляды на «Восточный вопрос», писатель в самом конце, вспоминает историю завоеваниям Иваном Грозным Казани, как тогда решился «Восточный вопрос»: «Что ж, как поступил царь Иван Васильевич, войдя в Казань? Истребил ли её жителей поголовно, как потом в Великом Новгороде, чтоб и впредь не мешали? Переселил ли казанцев куда-нибудь в степь, в Азию? Ничуть; даже ни одного татарчонка не выселил, всё осталось по-прежнему, и геройские, столь опасные прежде казанцы присмирели навеки. Произошло же это самым простым и сообразным образом: только что овладели городом, как тотчас же и внесли в него икону Божьей матери и отслужили в Казани молебен, в первый раз с её основания. Затем заложили православный храм, отобрали тщательно оружие у жителей, поставили русское правительство, а царя казанского вывезли куда следовало, – вот и всё; и всё это совершилось в один даже день. Немного спустя – и казанцы начали нам продавать халаты, ещё немного – стали продавать и мыло. (Я думаю, что это произошло именно в таком порядке, то есть сперва халаты, а потом уж мыло.) Тем дело и кончилось. Точь-в-точь и точно так же дело кончилось бы и в Турции, если б пришла благая мысль уничтожить наконец этот калифат политически…»
Глава вторая.
I. Застарелые люди.
II. Кифомокиевщина.
III. Продолжение предыдущего.
IV. Страхи и опасения.
V. Post scriptum.
«…в иных отделениях нашей высшей интеллигенции, именно там, где на народ до сих пор смотрят ещё свысока, презирая его с высоты европейского образования (иногда совсем мнимого), там, в этих высших “отдельностях”, обнаружилось довольно чрезвычайных диссонансов, нетвердость взгляда, странное непонимание иногда самых простых вещей, почти смешное колебание в том, что делать и чего не делать, и пр. и пр. “Помогать или не помогать славянам? А если помогать, то за что именно помогать – и за что будет нравственнее и красивее помогать: за то или за это?” Все эти черты, иногда до странности поражавшие, проявились действительно, слышались в разговорах, выказались в фактах, отразились в литературе. Но ни одной статьи в этом роде не читал я удивительнее статьи “Вестника Европы”, за сентябрь месяц сего года, в отделе “Внутреннего обозрения”. Статья именно трактует о настоящем текущем русском движении, по поводу братской помощи угнетенным славянам, и тщится бросить на этот предмет взгляд как можно глубокомысленнее…» И далее вся вторая глава посвящена полемике с этой анонимной статьёй (ВЕ, 1876, № 9), принадлежащей перу Л. А. Полонского. Достоевский вспоминает в связи с этим героя Н. В. Гоголя Кифу Мокиевича из «Мёртвых душ», олицетворявшего бесплодное умствование над нелепыми, не имеющими практической ценности вопросами.
О К Т Я Б Р Ь.
Глава первая.
I. Простое, но мудрёное дело.
15 октября 1876 г. суд приговорил Екатерину Корнилову, выбросившую из окна четвёртого этажа свою падчерицу, шестилетнюю девочку, которая чудом осталась жива, к двум годам и восьми месяцам каторжных работ и пожизненной ссылке в Сибирь. Достоевский уже упоминал об этом деле в майском (гл. 1, III) выпуске ДП и теперь подробно высказывает своё мнение о чрезмерной, на его взгляд, строгости наказания. Дело в том, что Корнилова уже в момент свершения преступления была беременна, присяжные совершенно не учли её психического состояния, да ещё и приговорили к каторге вместе с матерью ребёнка, который вот-вот родится. К этому делу Достоевский вернётся в ДП ещё несколько раз: 1876, декабрь, гл. 1, I; 1877, апрель, гл. 2; 1877, декабрь, гл. 1, I и V.
II. Несколько заметок о простоте и упрощённости. По мнению Достоевского, в обществе распространилась привычка на самые сложные вопросы и проблемы смотреть чересчур просто. «А между тем от этой чрезмерной упрощённости воззрений на иные явления иногда ведь проигрывается собственное дело. В иных случаях простота вредит самим упростителям. Простота не меняется, простота “прямолинейна” и сверх того – высокомерна. Простота враг анализа. Очень часто кончается ведь тем, что в простоте своей вы начинаете не понимать предмета, даже не видите его вовсе, так что происходит уже обратное, то есть ваш же взгляд из простого сам собою и невольно переходит в фантастический. Это именно происходит у нас от взаимной, долгой и всё более и более возрастающей оторванности одной России от другой. Наша оторванность именно и началась с простоты взгляда одной России на другую. Началась она ужасно давно, как известно, еще в Петровское время, когда выработалось впервые необычайное упрощение взглядов высшей России на Россию народную, и с тех пор, от поколения к поколению, взгляд этот только и делал у нас, что упрощался», – таков вывод писателя.
III. Два самоубийства. В декабре 1875 г. во Флоренции отравилась хлороформом младшая дочь А. И. Герцена 17-летняя Елизавета Герцен, оставив после себя «циничную» записку, написанную почти в «юмористическом» тоне. 30 сентября 1876 г. в Петербурге из окна мансарды 6-этажного дома с иконой Божией Матери в руках выбросилась швея Марья Борисова (которая впоследствии послужит прототипом заглавной героини повести «Кроткая»). Достоевский сопоставляя эти два самоубийства, пишет: «Но какие, однако же, два разные создания, точно обе с двух разных планет! И какие две разные смерти! А которая из этих душ больше мучилась на земле, если только приличен и позволителен такой праздный вопрос?» И следующую часть главы писатель посвятит «материалистическому» самоубийству, озаглавив её в черновике «Дочь Герцена», но в окончательном варианте – «Приговор», и которая занимает очень важное место в творчестве Достоевского, поэтому приведена почти целиком в отдельной статье.
IV. Приговор.
Глава вторая.
I. Новый фазис Восточного вопроса.
II. Черняев.
III. Лучшие люди.
IV. О том же.
Главный герой этой главы – русский генерал М. Г. Черняев, командующий сербской армией в освободительной войне против Турции. 17 /29/ октября 1876 г. турки нанесли окончательное поражение его армии и открыли себе путь на Белград, что означало проигрыш войны сербско-черногорской стороной. Русское правительство предъявило Турции ультиматум о временном прекращении военных действий и заключении перемирия. Достоевский безусловно поддерживал и освободительную войну славянских братьев, и участие русских добровольцев в войне, и миссию генерала Черняева. «И вот после громового слова России опять начнёт чваниться перед нами европейская пресса. Ведь даже венгерцы писали и печатали про нас, почти ещё за день до ультиматума, что мы их боимся, а потому и виляем перед ними и не смеем объявить нашу волю. Опять будут интриговать и указывать нам англичане, которые опять будут воображать, что их так боятся. Даже Франция какая-нибудь и та с гордым и напыщенным видом заявит на конференции своё слово и “чего она хочет или не хочет”, тогда как – что нам Франция и на кой нам знать, чего она там у себя хочет или не хочет?..» И далее, рисуя портрет генерала Черняева как безусловного героя, одного из «лучших людей», настоящего русского патриота, Достоевский размышляет о том, что такое теперь «лучшие люди» в России, и выводы его довольно оптимистичны: «Мы думали, что весь организм этого народа уже заражен материальным и духовным развратом; мы думали, что народ уже забыл свои духовные начала, не уберёг их в сердце своем; в нужде, в разврате потерял или исказил свои идеалы. И вдруг, вся эта “единообразная и косная масса” (то есть на взгляд иных наших умников, конечно), разлегшаяся в стомиллионном составе своём на многих тысячах вёрст, неслышно и бездыханно, в вечном зачатии и в вечном признанном бессилии что-нибудь сказать или сделать, в виде чего-то вечно стихийного и послушного, – вдруг вся эта Россия просыпается, встаёт и смиренно, но твёрдо выговаривает всенародно прекрасное своё слово… <…> В сущности, эти идеалы, эти “лучшие люди” ясны и видны с первого взгляда: “лучший человек” по представлению народному – это тот, который не преклонился перед материальным соблазном, тот, который ищет неустанно работы на дело Божие, любит правду и, когда надо, встаёт служить ей, бросая дом и семью и жертвуя жизнию. <…> Вот почему мы можем в радости предаться новой надежде: слишком очистился горизонт наш, слишком ярко всходит новое солнце наше… И если б только возможно было, чтоб мы все согласились и сошлись с народом в понимании: кого отселе считать человеком “лучшим”, то с нынешнего лета, может быть, зачался бы новый период истории русской».
Н О Я Б Р Ь.
Кроткая. Фантастический рассказ.
Д Е К А Б Р Ь.
Глава первая.
I. Опять о простом, но мудрёном деле. В октябрьском выпуске ДП (гл. 1, I) речь шла о судебном деле Е. П. Корниловой, выбросившей из окна свою падчерицу. Автор рассказывает о своём посещении Корниловой, которая уже родила там ребёнка, в тюрьме, своих беседах с ней, служителями тюрьмы. Приговор суда был кассирован и поступил на рассмотрение другого отделения суда. Достоевский пишет: «Опять повторю, как два месяца назад: “Лучше уж ошибиться в милосердии, чем в казни”. Оправдайте несчастную, и авось не погибнет юная душа, у которой, может быть, столь много ещё впереди жизни и столь много добрых для неё зачатков. В каторге же наверно всё погибнет…» К этому делу Достоевский вернётся ещё дважды в ДП за 1877 г.: апрель, гл. 2; декабрь, гл. 1.
II. Запоздавшее нравоучение.
III. Голословные утверждения.
IV. Кое-что о молодёжи.
V. О самоубийстве и высокомерии.
Эти четыре части первой декабрьской главы ДП посвящены теме самоубийства и являются как бы комментарием к «Приговору» (октябрь, гл. 1, IV), который вызвал большой резонанс у читателей, непонимание. В первых же строках Достоевский разъясняет, что свою предсмертную исповедь автор-герой «Приговора» написал «для оправдания и, может быть, назидания, перед самым револьвером…» Курсив подчёркивает важность именно слова «назидание» (по Далю: «поученье, наставленье»), то есть, «Приговор» написан-создан в качестве как раз антисамоубийственного поучения-наставления. И далее Достоевский довольно недвусмысленно намекает, что его статью «Приговор» могли превратно понять только «гордые невежды», люди «мало развитые и тупые»: «Статья моя “Приговор” касается основной и самой высшей идеи человеческого бытия – необходимости и неизбежности убеждения в бессмертии души человеческой. Подкладка этой исповеди погибающего “от логического самоубийства” человека – это необходимость тут же, сейчас же вывода: что без веры в свою душу и в её бессмертие бытие человека неестественно, немыслимо и невыносимо. И вот мне показалось, что я ясно выразил формулу логического самоубийцы, нашел её <…> Укажут мне, пожалуй, опять, что в наш век умерщвляют себя даже дети или такая юная молодёжь, которая и не испытала ещё жизни. А у меня именно есть таинственное убеждение, что молодёжь-то наша и страдает, и тоскует у нас от отсутствия высших целей жизни. В семьях наших об высших целях жизни почти и не упоминается, и об идее о бессмертии не только уж вовсе не думают, но даже слишком нередко относятся к ней сатирически, и это при детях, с самого их детства, да ещё, пожалуй, с нарочным назиданием. <…> Истребление себя есть вещь серьёзная, несмотря на какой бы там ни было шик, а эпидемическое истребление себя, возрастающее в интеллигентных классах, есть слишком серьезная вещь, стоящая неустанного наблюдения и изучения…»
Глава вторая.
I. Анекдот из детской жизни. Знакомая Достоевского Л. Х. Хохрякова рассказала ему о своей 12-летней дочери-школьнице, получившей несколько плохих отметок и решившей из-за этого не ходить в школу и сбежать из дома. Отталкиваясь от этого случая, писатель поднимает проблему убежавших из дома и скитающихся детей, которая давно привлекала его внимание (она была намечена ещё в 1867 г. в подготовительных материалах к «Идиоту») и констатирует: «Бродяжничество есть привычка, болезненная и отчасти наша национальная, одно из различий наших с Европой, – привычка, обращающаяся потом в болезненную страсть и весьма нередко зарождающаяся с самого детства…»
II. Разъяснение об участии моём в издании будущего журнала «Свет». В октябрьском выпуске ДП было помещено объявление об издании в 1877 г. нового журнала «Свет» профессором Н. П. Вагнером. Многие читатели решили, что писатель будет активно сотрудничать в новом журнале и чуть ли не «перейдёт» в него. Достоевский отвечает на эти тревожные письма на страницах ДП: «На это и заявляю теперь, что в будущем 1877 году буду издавать лишь “Дневник писателя” и что “Дневнику” и будет принадлежать, по примеру прошлого года, вся моя авторская деятельность. Что же до нового издания “Свет”, то ни в замысле, ни в плане, ни в соредактировании его не участвую…»
III. На какой теперь точке дело. Здесь Достоевский как бы подводит предварительные итоги обсуждения так называемого Восточного вопроса, который был одним из «капитальных» в ДП на протяжении всего года: «…взгляд на Восточный вопрос должен принять несравненно более определенный вид и для всех нас. Россия сильна народом своим и духом его, а не то что лишь образованием, например, своим, богатствами, просвещением и проч., как в некоторых государствах Европы, ставших, за дряхлостью и потерею живой национальной идеи, совсем искусственными и как бы даже ненатуральными. Думаю, что так ещё долго будет. Но если народ понимает славянский и вообще Восточный вопрос лишь в значении судеб православия, то отсюда ясно, что дело это уже не случайное, не временное и не внешнее лишь политическое, а касается самой сущности русского народа, стало быть, вечное и всегдашнее до самого конечного своего разрешения. Россия уже не может отказаться от движения своего на Восток в этом смысле и не может изменить его цели, ибо она отказалась бы тогда от самой себя. <…> В этом отношении Европа, не совсем понимая наши национальные идеалы, то есть меряя их на свой аршин и приписывая нам лишь жажду захвата, насилия, покорения земель, в то же время очень хорошо понимает насущный смысл дела. <…> Вот почему Европа всеми средствами желала бы взять себе в опеку славян, так сказать, похитить их у нас и, буде возможно, восстановить их навеки против России и русских. Вот почему она бы и желала, чтоб Парижский трактат продолжался сколь возможно долее; вот откуда происходят тоже и все эти проекты о бельгийцах, о европейской жандармерии и проч., и проч. О, все, только бы не русские, только бы как-нибудь отдалить Россию от взоров и помышлений славян, изгладить её даже из их памяти! И вот на какой теперь точке дело».
IV. Словечко об «ободнявшем Петре». Полемика с противниками войны на Балканах и участия в ней России, которых Достоевский делит на два вида: «жидовствующих», кричащих «про вред войны в отношении экономическом», и «европействующих», боящихся, что в погоне «за национальностью» можно повредить «общечеловечности». Писатель высказывает здесь своё убеждение: «А между тем для меня почти аксиома, что все наши русские разъединения и обособления основались, с самого их начала, на одних лишь недоумениях, и даже самых грубейших, и что в них нет ничего существенного. Горше всего то, что это ещё долго не уяснится для всех и каждого. И это тоже одна из самых любопытнейших наших тем». И уже заглавием предупреждает, что по известной поговорке «Лови Петра с утра, а ободняет, так провоняет», и Россия в помощи братьям-славянам может «ободнять», то есть – не поспеть к сроку.
Дневник писателя. 1877
Ежемесячное издание. 1877. Год II-й. (XXV—XXVI)
На 1877 г. у ДП было 3000 подписчиков и столько же экземпляров расходилось в розничной продаже. Состояние здоровья Достоевского всё более и более мешало ритмичной работе над ДП. Уже майский и июньский выпуски за 1877 г. вышли в сдвоенном виде, затем, как и в предыдущем году, из-за поездки на лечение в Эмс, подписчики получили сдвоенный выпуск за июль-август в начале сентября. В октябрьском выпуске писатель сообщил о своём решении по состоянию здоровья и в связи с работой над новым романом («Братьями Карамазовыми») приостановить «Дневник» на год или два. Следующий выпуск ДП после декабрьского 1877 г. выйдет в августе 1880 г.

«Дневник писателя. 1877». Страница черновика.
Я Н В А Р Ь.
Глава первая.
I. Три идеи. «Три идеи встают перед миром и, кажется, формулируются уже окончательно…» С этой темы, продолжая разговор о единении русского народа внутри страны и всех славянских народов в мире, начинается в новом году ДП. Три идеи это – католичество, протестантизм и православие…
II. Миражи. Штунда и редстокисты. Содержание этой подглавки вытекает из предыдущей – мешающее объединению ужасное распространение в России сект, в частности, – штундистов-протестантов (о которых Достоевский уже писал в ДП 1873 г., в главе «Смятенный вид») и редстокистов (о лорде Редстоке и его последователях речь шла в ДП 1876 г. – март, гл. 2, II). «Кстати, многие смеются совпадению появления обеих сект у нас в одно время, – пишет Достоевский, – штунды в чёрном народе и редстокистов в самом изящном обществе нашем. Между тем тут много и не смешного. Что же до совпадения в появлении двух наших сект, – то уж без сомнения они вышли из одного и того же невежества, то есть из совершенного незнания своей религии».
III. Фома Данилов, замученный русский герой. Рассказ о зверски замученном кипчаками пленном унтер-офицере 2-го Туркестанского стрелкового батальона Фоме Данилове, который отказался сохранить жизнь ценой перехода в мусульманство. Событие это произошло ещё осенью 1875 г., но Достоевский вспомнил его, дабы заострить тему разговора о вере и безверии, о значении православия для русского народа в период, когда на Балканах убивают братьев-славян тысячами. «Нет, послушайте, господа, знаете ли, как мне представляется этот тёмный безвестный Туркестанского батальона солдат? Да ведь это, так сказать, – эмблема России, всей России, всей нашей народной России, подлинный образ её, вот той самой России, в которой циники и премудрые наши отрицают теперь великий дух и всякую возможность подъёма и проявления великой мысли и великого чувства…» И далее писатель предельно заостряет проблему: «У народа есть Фомы Даниловы и их тысячи, а мы совсем и не верим в русские силы, да и неверие это считаем за высшее просвещение и чуть не за доблесть. Ну чему же, наконец, мы научить можем? <…> Есть у нас, впрочем, одно утешение, одна великая наша гордость перед народом нашим, а потому-то мы так и презираем его: это то, что он национален и стоит на том изо всей силы, а мы – общечеловеческих убеждений, да и цель свою поставили в общечеловечности, а стало быть, безмерно над ним возвысились. Ну вот в этом и весь раздор наш, весь и разрыв с народом, и я прямо провозглашаю: уладь мы этот пункт, найди мы точку примирения, и разом кончилась бы вся наша рознь с народом. А ведь этот пункт есть, ведь его найти чрезвычайно легко. Решительно повторяю, что самые даже радикальные несогласия наши в сущности один лишь мираж…»
Глава вторая.
I. Примирительная мечта вне науки.
II. Мы в Европе лишь стрюцкие.
Эти две части посвящены анализу положения, которое Достоевский сформулировал так: «Всякий великий народ верит и должен верить, если только хочет быть долго жив, что в нём-то, и только в нём одном, и заключается спасение мира, что живёт он на то, чтоб стоять во главе народов, приобщить их всех к себе воедино и вести их, в согласном хоре, к окончательной цели, всем им предназначенной…» Идею эту писатель окончательно разовьёт через несколько лет в Пушкинской речи (1880), но уже здесь недвусмысленно заявлено о великой миссии в этом плане именно русского народа: «…дело тут вовсе не в вопросе: как кто верует, а в том, что все у нас, несмотря на всю разноголосицу, всё же сходятся и сводятся к этой одной окончательной общей мысли общечеловеческого единения. Это факт, не подлежащий сомнению и сам в себе удивительный, потому что, на степени такой живой и главнейшей потребности, этого чувства нет ещё нигде ни в одном народе. Но если так, то вот и у нас, стало быть, у нас всех, есть твердая и определённая национальная идея; именно национальная. Следовательно, если национальная идея русская есть, в конце концов, лишь всемирное общечеловеческое единение, то, значит, вся наша выгода в том, чтобы всем, прекратив все раздоры до времени, стать поскорее русскими и национальными…» А иначе, считает автор ДП, быть нам в Европе только «стрюцкими» – подлыми, дрянными, презренными людьми (Достоевский подробно объяснит значение этого слова в 1-й главе ноябрьского выпуска ДП). Достичь же цели очень просто: «Если общечеловечность есть идея национальная русская, то прежде всего надо каждому стать русским, то есть самим собой, и тогда с первого шагу всё изменится. Стать русским значит перестать презирать народ свой. И как только европеец увидит, что мы начали уважать народ наш и национальность нашу, так тотчас же начнет и он нас самих уважать…»
III. Старина о «петрашевцах». 6 декабря 1876 г. на Казанской площади состоялась революционная демонстрация, участники которой были арестованы и о которой речь шла в декабрьском выпуске ДП за 1876 г. (гл. 1, IV). И вот в анонимной статье «По поводу политического процесса», опубликованной в «Петербургской газете» (1877, № 16, 23 янв.), автором проводилась мысль, что революционеры от поколения к поколению («декабристы» – «петрашевцы» – «чернышевцы» – «нечаевцы» – «долгушинцы») мельчали, а в «казанской истории» участвовал и вовсе «не только ещё полуграмотный сброд, но с большим оттенком еврейского элемента и фабричного забулдыги»… Достоевскому уже приходилось опровергать мысль об измельчании типа «государственного преступника» в среде петрашевцев по сравнению с декабристами в ДП за 1873 г. («Одна из современных фальшей»), и на этот раз он напомнил читателям, что петрашевцы были нисколько не ниже декабристов ни по положению, ни по образованию. И попутно писатель-петрашевец даёт здесь ёмкую характеристику типа русского революционера вообще: «…вообще тип русского революционера, во всё наше столетие, представляет собою лишь наияснейшее указание, до какой степени наше передовое, интеллигентное общество разорвано с народом, забыло его истинные нужды и потребности, не хочет даже и знать их и, вместо того, чтоб действительно озаботиться облегчением народа, предлагает ему средства, в высшей степени несогласные с его духом и с естественным складом его жизни и которых он совсем не может принять, если бы даже и понял их. Революционеры наши говорят не то и не про то, и это целое уже столетие…»
Главка эта была запрещена цензором Н. А. Ратынским и впервые опубликована: Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. Сб. 1 / Под ред. А. С. Долинина. Пб., 1922; в составе ДП: Ф. М. Достоевский. Полн. собр. худож. произв.: В XIII т. Т. XII / Под ред. Б. Томашевского и К. Халабаева. М.—Л., 1926—1930.

Лист из следственного дела петрашевцев.
IV. Русская сатира. «Новь». «Последние песни». Старые воспоминания. Главка посвящена литературе и чрезвычайно важна для биографии Достоевского и понимания его творческого кредо. О «русской сатире» и романе И. С. Тургенева «Новь», который ещё печатался в «Вестнике Европы», только лишь упоминается, а вся основная часть отдана уже тяжело больному в то время Н. А. Некрасову, его сборнику «Последние песни», воспоминаниям о своей юности, литературном дебюте, знакомстве с Некрасовым и В. Г. Белинским. Именно здесь писатель высказал суждение, которое остаётся злободневным и до наших дней: «Все наши критики (а я слежу за литературой чуть не сорок лет), и умершие, и теперешние, все, одним словом, которых я только запомню, чуть лишь начинали, теперь или бывало, какой-нибудь отчет о текущей русской литературе чуть-чуть поторжественнее (прежде, например, бывали в журналах годовые январские отчёты за весь истекший год), – то всегда употребляли, более или менее, но с великою любовью, всё одну и ту же фразу: “В наше время, когда литература в таком упадке”, “В наше время, когда русская литература в таком застое”, “В наше литературное безвремение”, “Странствуя в пустынях русской словесности” и т. д., и т. д. На тысячу ладов одна и та же мысль. А в сущности в эти сорок лет явились последние произведения Пушкина, начался и кончился Гоголь, был Лермонтов, явились Островский, Тургенев, Гончаров и еще человек десять по крайней мере преталантливых беллетристов…» Добавить надо, что в этот список Достоевский, по понятной скромности, не включил себя, а Л. Н. Толстого упомянул чуть выше.
V. Именинник. После запрещения перед самым выходом январского выпуска ДП цензором Н. А. Ратынским главки «Старина о “петрашевцах”», Достоевский срочно написал небольшую статью «Именинник». И опять, как и во многих выпусках ДП за 1876 г., – о самоубийствах. Среди многочисленных писем, получаемых автором ДП, было и письмо от помощника инспектора Кишинёвской духовной академии М. А. Юркевича, который сообщал о трагическом событии, взбудоражившем весь Кишинёв: 12-летний воспитанник местной прогимназии не знал урока и был наказан – оставлен в школе до пяти часов вечера. Мальчик походил-послонялся по классной комнате, нашёл верёвку, привязал к гвоздю и – удавился. Прежде чем начать разговор об этом случае, Достоевский вспоминает Николеньку Иртеньева из «Детства» и «Отрочества» Л. Н. Толстого, напоминает-рисует его психологический портрет, особенно подробно останавливаясь на эпизоде, когда тот провинился на семейном празднике по поводу именин сестры и его наказали – заперли в тёмном чулане, и Николенька, в ожидании розог, начинает мечтать-фантазировать, как он вдруг внезапно умрёт, взрослые обнаружат его остывающий труп, начнут над ним плакать, жалеть его и корить-попрекать друг друга за его внезапную трагическую смерть. Вот об этой разнице (герой Толстого только помечтал о самоубийстве, а кишинёвский школьник помечтал и сделал) и размышляет писатель-психолог…
От редакции. Достоевский ещё раз (после ДП, 1876, декабрь, гл. 2, II) «категорически» заявляет и разъясняет в ответ на многочисленные запросы в письмах, что к журналу Н. П. Вагнера «Свет» не имеет никакого отношения, а также просит одну из корреспонденток (О. А. Антипову) уточнить свой адрес.
Ф Е В Р А Л Ь.
Глава первая.
I. Самозванные пророки и хромые бочары, продолжающие делать луну в Гороховой. Один из неизвестнейших русских великих людей.
II. Доморощенные великаны и приниженный сын «кучи». Анекдот о содранной со спины коже. Высшие интересы цивилизации, и «да будут они прокляты, если их надо покупать такою ценой!».
III. О сдирании кож вообще, разные аберрации в частности. Ненависть к авторитету при лакействе мысли.
IV. Меттернихи и Дон-Кихоты.
В первой главе Достоевский продолжает «капитальную» сквозную тему ДП за 1876 г. – Восточный вопрос, положение на Балканах, судьбы славянских народов, ведущих освободительную войну против Турции, роль России в этой борьбе. В связи с этим писатель вспоминает «Песни западных славян» А. С. Пушкина, которые, по его мнению, толком не прочитали и незаслуженно забыли, рассказывает о девочке-болгарке, на глазах которой с её отца «черкесы» живьём содрали кожу… Достоевский обвиняет в связи с этим в бесчеловечности не только и не столько турок, сколько просвещённую Европу, которая допускает подобные «сдирания кожи» ради цивилизации, которой не нужна освободительная война болгар и сербов, ибо она может нарушить спокойствие во всей Европе. В финале главы тон Достоевского становится патетическим: «А Европа прочла осенний манифест русского императора и его запомнила, – не для одной текущей минуты запомнила, а надолго, и на будущие текущие минуты. Обнажим, если надо, меч во имя угнетённых и несчастных, хотя даже и в ущерб текущей собственной выгоде. Но в то же время да укрепится в нас ещё тверже вера, что в том-то и есть настоящее назначение России, сила и правда её, и что жертва собою за угнетенных и брошенных всеми в Европе во имя интересов цивилизации есть настоящее служение настоящим и истинным интересам цивилизации…»
Глава вторая.
I. Один из главнейших современных вопросов.
II. «Злоба дня».
III. Злоба дня в Европе.
IV. Русское решение вопроса.
«Мои читатели, может быть, уже заметили, что я, вот уже с лишком год издавая свой “Дневник писателя”, стараюсь как можно меньше говорить о текущих явлениях русской словесности, а если и позволяю себе кой-когда словцо и на эту тему, то разве лишь в восторженно-хвалебном тоне. А между тем в этом добровольном воздержании моем – какая неправда! Я – писатель, и пишу “Дневник писателя”, – да я, может быть, более чем кто-нибудь интересовался за весь этот год тем, что появлялось в литературе: как же скрывать, может быть, самые сильные впечатления?..» И далее в этой главе Достоевский, оттолкнувшись от эпизода из романа «Анна Каренина» Л. Н. Толстого (ч. VI, гл. 11), который прочёл в январском номере «Русского вестника», поднимает проблемы вовсе даже не литературные. В этом эпизоде Стива Облонский и Константин Левин, отдыхая на охоте, ведут разговор на самую что ни на есть «злобу дня» – о социальном устройстве мира. Оба понимают, что совершенно несправедливо, когда помещик получает пять тысяч рублей, а крестьянин в лучшем случае пятьдесят рублей, только Облонский согласен жить так и дальше, а у Левина «совесть болит». Достоевский и удивлён, и обрадован (особенно, чувствуется, тем, что именно у Льва Толстого это проявилось): «…уж один факт, что такая идеальнейшая дребедень признается самой насущной темой для разговора у людей далеко не из профессоров и не специалистов, а просто светских, Облонских и Левиных, – эта черта, говорю я, одна из самых характерных особенностей настоящего русского положения умов <…> Я именно провозглашаю, что есть, рядом с страшным развратом, что я вижу и предчувствую этих грядущих людей, которым принадлежит будущность России, что их нельзя уже не видать и что художник, сопоставивший этого отжившего циника Стиву с своим новым человеком Левиным, как бы сопоставил это отпетое, развратное, страшно многочисленное, но уже покончившее с собой собственным приговором общество русское, с обществом новой правды, которое не может вынести в сердце своем убеждения, что оно виновато, и отдаст всё, чтоб очистить сердце своё от вины своей…» В Европе, по мнению Достоевского, «злоба дня» решается совершенно неправильно: «предводители пролетариев» прельщают народ перераспределением собственности, перспективами физически истребить буржуазию и занять её место, отобрать все блага жизни для себя. Но есть «русское решение вопроса» – и «не только для русских, но и для всего человечества». И главное в этом решении – сторона «нравственная, то есть христианская»: начни с себя, нравственно переродись и «потрудись на других»…
М А Р Т.
Глава первая.
I. Ещё раз о том, что Константинополь, рано ли, поздно ли, а должен быть наш.
II. Русский народ слишком дорос до здравого понятия о Восточном вопросе с своей точки зрения.
III. Самые подходящие в настоящее время мысли.
Достоевский вновь возвращается к Восточному вопросу, который Европа никак решить не может, и со всей определённостью высказывает своё мнение: «Мы, Россия, действительно необходимы и неминуемы и для всего восточного христианства, и для всей судьбы будущего православия на земле, для единения его. Так всегда понимали это наш народ и государи его… Одним словом, этот страшный Восточный вопрос – это чуть не вся судьба наша в будущем. В нём заключаются как бы все наши задачи и, главное, единственный выход наш в полноту истории. В нём и окончательное столкновение наше с Европой, и окончательное единение с нею, но уже на новых, могучих, плодотворных началах. О, где понять теперь Европе всю ту роковую жизненную важность для нас самих в решении этого вопроса! Одним словом, чем бы ни кончились теперешние, столь необходимые, может быть, дипломатические соглашения и переговоры в Европе, но рано ли, поздно ли, а Константинополь должен быть наш, и хотя бы лишь в будущем только столетии! Это нам, русским, надо всегда иметь в виду, всем неуклонно. Вот что мне хотелось заявить, особенно в настоящий европейский момент…»
Глава вторая.
I. «Еврейский вопрос».
II. Pro и contra.
III. Status in statu. Сорок веков бытия.
IV. Но да здравствует братство!
С периода, когда Достоевский возглавил газету-журнал «Гражданин» (1873) и основал на его страницах свой «Дневник писателя», а затем ещё более широко и в ДП 1876 г. он взялся довольно часто употреблять слово «жид» и производные от него, а затем появляется в его публицистике латинское выражение, которое станет ключевым во многих последующих статьях писателя, затрагивающих еврейский вопрос – «status in statu» («государство в государстве»). Достоевскому всё чаще приходилось объясняться, оправдываться по поводу своего неприкрытого «антижидовского шовинизма». Слишком видную роль в общественной жизни России стал он играть в последние годы жизни, каждое слово его, каждый поступок вызывали резонанс в образованных кругах. Так, к примеру, писательница и общественная деятельница Е. П. Леткова (Султанова) вспоминала: «В студенческих кружках и собраниях постоянно раздавалось имя Достоевского. Каждый номер «Дневника писателя» давал повод к необузданнейшим спорам. Отношение к так называемому «еврейскому вопросу», отношение, бывшее для нас своего рода лакмусовой бумажкой на порядочность, – в «Дневнике писателя» было совершенно неприемлемо и недопустимо: «Жид, жидовщина, жидовское царство, жидовская идея, охватывающая весь мир…» Все эти слова взрывали молодежь, как искры порох…» [Д. в восп., т. 2, с. 449] Сохранилось и шесть писем к Достоевскому от А. Г. Ковнера, литератора, а на момент переписки и арестанта (присвоил, служа в банке, 168 тысяч рублей), наполненных полемикой с автором ДП и его «юдофобскими» взглядами. На первые два послания Ковнера Достоевский ответил подробнейшим письмом, а затем решил ответить сразу «капитально» и всем на страницах ДП. Титло «мракобеса», «шовиниста» носить Достоевскому отнюдь не хотелось. Но и убеждений своих он изменить был не в силах, кривить душой не хотел – он всегда писал и говорил только то, что думал. Так как это – краеугольная публикация у Достоевского по «еврейскому вопросу», стоит процитировать из неё основные фрагменты:
«…Всего удивительнее мне то: как это и откуда я попал в ненавистники еврея как народа, как нации? Как эксплуататора и за некоторые пороки мне осуждать еврея отчасти дозволяется самими же этими господами, но – но лишь на словах: на деле трудно найти что-нибудь раздражительнее и щепетильнее образованного еврея и обидчивее его, как еврея. Но опять-таки: когда и чем заявил я ненависть к еврею как к народу? Так как в сердце моем этой ненависти не было никогда, и те из евреев, которые знакомы со мной <…>, это знают, то я <…> с себя это обвинение снимаю <…>. Уж не потому ли обвиняют меня в «ненависти», что я называю иногда еврея «жидом»? Но, во-первых, я не думал, чтоб это было так обидно, а во-вторых, слово «жид» сколько помню, я упоминал всегда для обозначения известной идеи: «жид, жидовщина, жидовское царство» и проч. Тут обозначалось известное понятие, направление, характеристика века. Можно спорить об этой идее, не соглашаться с нею, но не обижаться словом. <…> Во-вторых, нельзя не заметить, что почтенный корреспондент, коснувшись в этих немногих строках своих и до русского народа, не утерпел и не выдержал и отнесся к бедному русскому народу несколько слишком уж свысока. Правда, в России и от русских-то не осталось ни одного непроплеванного места (словечко Щедрина), а еврею тем простительнее. Но во всяком случае ожесточение это свидетельствует ярко о том, как сами евреи смотрят на русских. Писал это действительно человек образованный и талантливый (не думаю только, чтоб без предрассудков); чего же ждать, после того, от необразованного еврея, которых так много, каких чувств к русскому? <…> Положим, очень трудно узнать сорокавековую историю такого народа, как евреи; но на первый случай я уже то одно знаю, что наверно нет в целом мире другого народа, который бы столько жаловался на судьбу свою, поминутно, за каждым шагом и словом своим, на свое принижение, на свое страдание, на свое мученичество. Подумаешь, не они царят в Европе, не они управляют там биржами хотя бы только, а стало быть, политикой, внутренними делами, нравственностью государств. <…> всё-таки не могу вполне поверить крикам евреев, что уж так они забиты, замучены и принижены. На мой взгляд, русский мужик, да и вообще русский простолюдин несет тягостей чуть ли не больше еврея…
<…> любопытно то, что чуть лишь вам <…> понадобится справка о еврее и делах его, – то <…> протяните лишь руку к какой хотите первой лежащей подле вас газете и поищите на второй или на третьей странице: непременно найдете что-нибудь о евреях <…> и непременно одно и то же – то есть всё одни и те же подвиги! <…> Разумеется, мне ответят, что все обуреваемы ненавистью, а потому все лгут <…> (но) если все до единого лгут и обуреваемы такой ненавистью, то с чего-нибудь да взялась же эта ненависть, ведь что-нибудь значит же эта всеобщая ненависть…
<…> Пусть я не твёрд в познаниях еврейского быта, но одно-то я уж знаю наверно <…>, что нет в нашем простонародье предвзятой, априорной, тупой, религиозной какой-нибудь ненависти к еврею, вроде: «Иуда, дескать, Христа продал». Если и услышишь это от ребятишек или от пьяных, то весь народ наш смотрит на еврея, повторяю это, без всякой предвзятой ненависти…
<…> А между тем, мне иногда входила в голову фантазия: ну что, если бы это не евреев было в России три миллиона, а русских; а евреев было бы 80 миллионов – ну, во что обратились бы у них русские и как бы они их третировали? <…> Не обратили ли бы прямо в рабов? Хуже того: не содрали ли бы кожу совсем? Не избили бы дотла, до окончательного истребления, как делывали они с чужими народностями в старину <…>? Нет-с, уверяю вас, что в русском народе нет предвзятой ненависти к еврею, а есть, может быть, несимпатия к нему, особенно по местам, и даже, может быть, очень сильная. О, без этого нельзя, это есть, но происходит это вовсе не от того, что он еврей, не из племенной, не из религиозной какой-нибудь ненависти, а происходит это от иных причин, в которых виноват уже не коренной народ, а сам еврей…».

Ф. М. Достоевский. Фотография Н. Ф. Досса, 1876 г.
Достоевский берётся хотя бы вкратце объяснить признаки и основную суть status in statu: «Признаки эти: отчуждённость и отчудимость на степени религиозного догмата, неслиянность, вера в то, что существует в мире лишь одна народная личность – еврей…» И далее автор ДП цитирует основные постулаты Талмуда, главной иудейской книги:
«Выйди из народов и составь свою особь и знай, что до сих пор ты един у Бога, остальных истреби, или в рабов обрати, или эксплуатируй. Верь в победу над всем миром, верь, что всё покорится тебе. Строго всем гнушайся и ни с кем в быту своём не сообщайся. И даже когда лишишься земли своей, политической личности своей, даже когда рассеян будешь по лицу всей земли, между всеми народами – навсегда верь тому, что тебе обещано, раз навсегда верь тому, что всё сбудется, а пока живи, гнушайся, единись и эксплуатируй и – ожидай, ожидай…»
«Евреи всё кричат, – продолжает далее Достоевский, – что есть же и между ними хорошие люди. О Боже! да разве в этом дело? <…> Мы говорим о целом и об идее его, мы говорим о жидовстве и об идее жидовской, охватывающей весь мир, вместо “неудавшегося” христианства…»
В заключительной части Достоевский восклицает в заголовке «Но да здравствует братство!» и, действительно, ведёт речь о миролюбии, хотя и не без некоторой противоречивости: «<…> я окончательно стою <…> за совершенное расширение прав евреев <…> (NB, хотя, может быть, в иных случаях, они имеют уже и теперь больше прав или, лучше сказать, чем само коренное население). Конечно, мне приходит тут же на ум, например, такая фантазия: ну что если пошатнется <…> наша сельская община <…>, ну что если тут же к этому освобожденному мужику <…> нахлынет всем кагалом еврей <…> тут мигом конец его: всё имущество его, вся сила его перейдет назавтра же во власть еврея, и наступит такая пора, с которой не только не могла бы сравниться пора крепостничества, но даже татарщина <…> Но <…> я всё-таки стою за полное и окончательное уравнение прав – потому что это Христов закон <…> я прежде всего умоляю моих оппонентов и корреспондентов-евреев быть, напротив, к нам, русским, снисходительнее и справедливее. Если высокомерие их, если всегдашняя “скорбная брезгливость” евреев к русскому племени есть только предубеждение, «исторический нарост», то да рассеется всё это скорее и да сойдемся мы единым духом, в полном братстве, на взаимную помощь и на великое дело служения земле нашей, государству и отечеству нашему! <…> но всё-таки для братства, для полного братства, нужно братство с обеих сторон…»
Глава третья.
I. Похороны «Общечеловека».
II. Единичный случай.
Достоевский получил из Минска письмо от девушки-еврейки С. Е. Лурье, датированное 13 февраля 1877 г., в котором рассказывалось о похоронах доктора Гинденбурга, пользующегося всенародной любовью и над могилой которого «держали речь пастор и еврейский раввин, и оба плакали»… Автор ДП воспользовался этим письмом, чтобы проиллюстрировать в главе третьей то, о чём речь шла во второй главе – решение еврейского вопроса возможно только через таких «общечеловеков», которые служат людям, не взирая на их национальность…
III. Нашим корреспондентам.
Ответы на некоторые письма читателей по конкретным вопросам.
А П Р Е Л Ь.
Глава первая.
I. Война. Мы всех сильнее.
II. Не всегда война бич, иногда и спасение.
III. Спасает ли пролитая кровь?
IV. Мнение «тишайшего» царя о Восточном вопросе.
Вся глава посвящена начавшейся войне России с Турцией. Достоевский безусловный сторонник этой войны и приветствует её: «Нам нужна эта война и самим; не для одних лишь “братьев-славян”, измученных турками, подымаемся мы, а и для собственного спасения: война освежит воздух, которым мы дышим и в котором мы задыхались, сидя в немощи растления и в духовной тесноте <…> Дрогнули сердца исконных врагов наших и ненавистников, которым мы два века уж досаждаем в Европе, дрогнули сердца многих тысяч жидов европейских и миллионов вместе с ними жидовствующих “христиан”; дрогнуло сердце Биконсфильда: сказано было ему, что Россия всё перенесет, всё, до самой срамной и последней пощёчины, но не пойдёт на войну – до того, дескать, сильно её “миролюбие”. Но Бог нас спас, наслав на них на всех слепоту; слишком уж они поверили в погибель и в ничтожность России, а главное-то и проглядели. Проглядели они весь русский народ, как живую силу, и проглядели колоссальный факт: союз царя с народом своим! <…> Итак, видно, и война необходима для чего-нибудь, целительна, облегчает человечество. Это возмутительно, если подумать отвлечённо, но на практике выходит, кажется, так, и именно потому, что для заражённого организма и такое благое дело, как мир, обращается во вред. Но все-таки полезною оказывается лишь та война, которая предпринята для идеи, для высшего и великодушного принципа, а не для матерьяльного интереса, не для жадного захвата, не из гордого насилия…» И в конце Достоевский, ссылаясь на свидетельства историков, утверждает, что ещё царь Алексей Михайлович (1629—1676) жалел, что в Восточном вопросе « не может быть царём освободителем»…
Глава вторая.
Сон смешного человека. Фантастический рассказ.
Освобождение подсудимой Корниловой. Достоевский здесь вновь возвращается к делу Корниловой, выбросившей из окна свою падчерицу, о котором речь шла в ДП за 1876 г. дважды (октябрь, гл. 1, I; декабрь, гл. 1, I), и сообщает о вторичном рассмотрении его с новым составом суда: на этот раз, как и добивался писатель, суд признал, что Корнилова совершила преступление в состоянии аффекта и оправдал её…
К моим читателям. Достоевский уведомляет читателей, что майский и июньский, а затем июльский и августовский выпуски ДП выйдут из-за его болезни в сдвоенном виде.
М А Й – И Ю Н Ь.
Глава первая.
I. Из книги предсказаний Иоанна Лихтенбергера, 1528 года. «Мне сообщили один престранный документ. Это одно древнее, правда, туманное и аллегорическое, предсказание о нынешних событиях и о нынешней войне. Один из наших молодых учёных нашёл в Лондоне, в королевской библиотеке, один старый фолиант, “книгу предсказаний”, "Prognosticationes" Иоанна Лихтенбергера, издание 1528 года, на латинском языке…» И далее с комментарием приводятся («единственно как занимательный факт») выдержки из этой редкой книги, о которой сообщил Достоевскому Вл. С. Соловьёв, которые как бы действительно содержат предсказание русско-турецкой войны 1877 г. и победу России…
II. Об анонимных ругательных письмах. «…Из нескольких сот писем, полученных мною за эти полтора года издания “Дневника”, по крайней мере сотня (но наверно больше) было анонимных, но из этих ста анонимных писем лишь два письма были абсолютно враждебные…» Размышляя на эту тему в связи с конкретным данным фактом, Достоевский поднимает проблему нравственности в обществе вообще: «Одним словом, я стал давно уже подозревать, и подозреваю до сих пор, что наше время должно быть непременно временем хотя и великих реформ и событий, это бесспорно, но вместе с тем и усиленных анонимных писем ругательного характера…» И далее разговор идёт о том, что простой народ в этом плане гораздо выше образованного слоя «По понятиям народа, то, что пакостно на миру, пакостно и за дверями…» А ещё большие надежды автор возлагает на юное поколение…
III. План обличительной повести из современной жизни. Здесь писатель даёт подробнейший план-пересказ произведения, который проиллюстрировал бы его размышления из предыдущей главки: главный герой, напоминающий героя Н. В. Гоголя из «Записок сумасшедшего» («наш Поприщин, современный нам Поприщин <…>, только повторившийся тридцать лет спустя…»), делает карьеру с помощью анонимных писем… Достоевский пообещал этот сюжет использовать в каком-нибудь будущем романе, но это намерение осталось неосуществлённым.
Глава вторая.
I. Прежние земледельцы – будущие дипломаты.
II. Дипломатия перед мировыми вопросами.
III. Никогда Россия не была столь могущественною, как теперь, – решение не дипломатическое.
Глава третья.
I. Германский мировой вопрос. Германия – страна протестующая.
II. Один гениально-мнительный человек.
III. И сердиты и сильны.
IV. Чёрное войско. Мнение легионов как новый элемент цивилизации.
V. Довольно неприятный секрет.
Глава четвёртая.
I. Любители турок.
II. Золотые фраки. Прямолинейные.
Три заключительные главы майско-июньского выпуска ДП отданы политике. Достоевский, начиная разговор с русских помещиков, уехавших после реформы искать счастья за границу, затем подробно анализирует положение в Европе (в основном, во Франции и Германии), размышляет о иезуитстве дипломатии, пытающейся исказить значение Восточного вопроса, прекратить освободительную для славян войну на Балканах. Здесь писатель ещё раз и всеобъемлюще формулирует суть происходящего: «…все и даже не дипломаты (и даже особенно если недипломаты) – все знают давным-давно, что Восточный вопрос есть, так сказать, один из мировых вопросов, один из главнейших отделов мирового и ближайшего разрешения судеб человеческих, новый грядущий фазис этих судеб. Известно, что тут дело не только одного Востока Европы касается, не только славян, русских и турок или там специально болгар каких-нибудь, но тоже и всего Запада Европы, и вовсе не относительно только морей и проливов, входов и выходов, а гораздо глубже, основнее, стихийнее, насущнее, существеннее, первоначальнее. А потому понятно, что Европа тревожится и что дипломатии так много дела…» В заключительной главе Достоевский с горечью пишет о «любителях турок», «золотых фраках» (самолюбивых снобах) и «прямолинейных» (наивных дураках), которые, являясь русскими и живя в России, не поддерживают войну с Турцией…
И Ю Л Ь – А В Г У С Т.
Глава первая.
I. Разговор мой с одним московским знакомым. Заметка по поводу новой книги.
II. Жажда слухов и того, что «скрывают». Слово «скрывают» может иметь будущность, а потому и надобно принять меры заранее. Опять о случайном семействе.
III. Дело родителей Джунковских с родными детьми.
IV. Фантастическая речь председателя суда.
Основная тема всей главы – воспитание детей, «случайные» семейства. «Современное русское семейство становится всё более и более случайным семейством. Именно случайное семейство – вот определение современной русской семьи…» Достоевский высказывает и доказывает здесь очевидную для него, но не для многих мысль: «Без зачатков положительного и прекрасного нельзя выходить человеку в жизнь из детства, без зачатков положительного и прекрасного нельзя пускать поколение в путь…» И далее в качестве иллюстрации писатель подробно разбирает и комментирует материалы процесса Калужского областного суда по делу супругов Джунковских, бесчеловечно обращавшихся со своими детьми…
Глава вторая.
I. Опять обособление. Восьмая часть «Анны Карениной».
II. Признания славянофила.
III. «Анна Каренина» как факт особого значения.
IV. Помещик, добывающий веру в Бога от мужика.
Глава третья.
I. Раздражительность самолюбия.
II. Tout ce qui n'est pas expressement permis est défendu [фр. Всё, что не дозволено особенно настойчиво, надо считать запрещённым].
III. О безошибочном знании необразованным и безграмотным русским народом главнейшей сущности Восточного вопроса.
IV. Сотрясение Левина. Вопрос: имеет ли расстояние влияние на человеколюбие? Можно ли согласиться с мнением одного пленного турка о гуманности некоторых наших дам? Чему же, наконец, нас учат наши учители?
Упомянув в первой главе этого выпуска ДП о выходе заключительной 8-й части романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» отдельной книжкой, Достоевский всю третью главу посвящает ей. Причём, разговор идёт не столько о литературе, сколько о злободневных жизненных вопросах, отразившихся в этой части толстовского романа, и в основном о – Восточном вопросе, войне с Турцией, братстве славянских народов, очищающем воздействии на русское общество этой войны… И здесь, в отличие от главы второй февральского выпуска, Достоевский критически относится к герою романа Левину, его мировоззрению, его «прямолинейному» взгляду на войну…
С Е Н Т Я Б Р Ь.
Глава первая.
I. Несчастливцы и неудачники.
II. Любопытный характер.
III. То да не то. Ссылка на то, о чём я писал ещё три месяцы назад.
IV. О том, что думает теперь Австрия.
V. Кто стучится в дверь? Кто войдёт? Неизбежная судьба.
Вся глава отдана политической злобе дня. Начав с политического кризиса во Франции, где президент республики маршал Мак-Магон 16 мая 1877 г. распустил Палату депутатов, и притязаний католичества на мировое господство, Достоевский предупреждает: «Одним словом, мир ожидают какие-то большие и совершенно новые события, предчувствуется появление легионов, огромное движение католичества. Здоровье папы, пишут, “удовлетворительно”. Но беда, если смерть папы совпадёт с выборами во Франции или произойдёт вскоре после них. Тогда Восточный вопрос может разом переродиться во всеевропейский…» И далее автор ДП напоминает читателям, что уже в майско-июньском выпуске за 1877 г. многое, что написал он «о ближайшем будущем Европы, теперь уже подтвердилось или начинает подтверждаться». А ведь многие не верили ему и «клерикального» (прокатолического) заговора «совсем не признавали»…
Глава вторая.
I. Ложь ложью спасается.
II. Слизняки, принимаемые за людей. Что нам выгоднее: когда знают о нас правду или когда говорят о нас вздор?
III. Лёгкий намёк на будущего интеллигентного русского человека. Несомненный удел будущей русской женщины.
Заглавный герой романа Сервантеса «Дон-Кихот», «затосковав по реализму», объяснил сам себе и Санчо Пансе чудо, когда один рыцарь всего за несколько часов мечом убивает сто тысяч врагов, тем, что враги эти были почти бесплотны, «слизняки», каковых можно было одним ударом убивать десятками. Вот так же, считает Достоевский, происходит в настоящий момент в отношении Турции, только с точностью до наоборот: «В Европе случилось то же самое, что произошло в повреждённом уме Дон-Кихота, но лишь в форме обратной, хотя сущность факта совершенно та же: тот, чтоб спасти истину, выдумал людей с телами слизняков, эти же, чтоб спасти свою основную мечту, столь их утешающую, о ничтожности и бессилии России, – сделали из настоящего уже слизняка организм человеческий, одарив его плотью и кровью, духовною силою и здоровьем…» И далее в связи с этой вдруг вспыхнувшей «любви» Европы к Турции Достоевский ещё раз и убеждает, и пророчествует: «…Восточный вопрос (то есть и славянский вместе) вовсе не славянофилами выдуман, да и никем не выдуман, а сам родился, и уже очень давно – родился раньше славянофилов, раньше нас, раньше вас, раньше даже Петра Великого и Русской империи. Родился он при первом сплочении великорусского племени в единое русское государство, то есть вместе с царством Московским. Восточный вопрос есть исконная идея Московского царства, которую Пётр Великий признал в высшей степени и, оставляя Москву, перенёс с собой в Петербург. Пётр в высшей степени понимал её органическую связь с русским государством и с русской душой. Вот почему идея не только не умерла в Петербурге, но прямо признана была как бы русским назначением всеми преемниками Петра. Вот почему её нельзя оставить и нельзя ей изменить. Оставить славянскую идею и отбросить без разрешения задачу о судьбах восточного христианства (NВ. сущность Восточного вопроса) – значит, всё равно что сломать и вдребезги разбить всю Россию, а на место её выдумать что-нибудь новое, но только уже совсем не Россию…» И в конце автор в который раз пишет о том, какую большую роль в обществе предстоит уже в ближайшем будущем играть «русской женщине»…
О К Т Я Б Р Ь.
Глава первая.
I. К читателю. Достоевский благодарит читателей за «сочувствие» к его изданию, за многочисленные письма и уведомляет: «По недостатку здоровья, особенно мешающему мне издавать “Дневник” в точные определенные сроки, я решаюсь, на год или на два, прекратить мое издание…» Другой причиной, помимо здоровья, и, вероятно, главной, такого решения была творческая – писатель приступал к созданию романа «Братья Карамазовы».
II. Старое всегдашнее военное правило.
III. То же правило, только в новом виде.
IV. Самые огромные военные ошибки иногда могут быть совсем не ошибками.
V. Мы лишь наткнулись на новый факт, а ошибки не было. Две армии – две противоположности. Настоящее положение дел.
Остальные четыре главки отданы русско-турецкой войне и, в частности, неудачному штурму Плевны 18 /30/ июля 1877 г., обсуждению этого в прессе. Достоевский, в отличие от многих, оптимист и напоминает аксиому, которую он знал ещё со времён учёбы в Главном инженерном училище: «Эта инженерная аксиома состояла в том, что нет и не может быть крепости неприступной, то есть как бы ни была искусно укреплена и оборонена крепость, но в конце концов она должна быть взята, и что, стало быть, военное искусство атаки крепости всегда превышает средства и искусство ее обороны…» Большие надежды Достоевский возлагает на бывшего питомца Главного инженерного училища и героя Крымской войны Э. И. Тотлебена, только что прибывшего в район Плевны: «Одним словом, наш военный горизонт просиял, и надежд опять много. В Азии кончилось большой победой. Балканская же армия наша многочисленна и великолепна, дух её вполне на высоте своей цели. Русский народ (то есть народ) весь, как один человек, хочет, чтоб великая цель войны за христианство была достигнута. Нельзя матерям не плакать над своими детьми, идущими на войну: это природа; но убеждение в святости дела остается во всей своей силе. Отцы и матери знают, на что отпускают детей: война народная…» Как показали дальнейшие события, оптимизм Достоевского был вполне оправдан: 28 ноября /10 дек./ 1977 г. Плевна пала, и Тотлебен, назначенный с 1878 г. главнокомандующим всей русской армией на Балканах, сыграл большую роль в победе России над Турцией.
Глава вторая.
I. Самоубийство Гартунга и всегдашний вопрос наш: кто виноват?
II. Русский джентльмен. Джентльмену нельзя не остаться до конца джентльменом.
III. Ложь необходима для истины. Ложь на ложь дает правду. Правда ли это?
В московском Окружном суде с 7 по 13 октября 1877 г. проходил процесс по обвинению генерал-майора Л. Н. Гартунга (мужа дочери А. С. Пушкина Марии) и некоторых других лиц в похищении денежных документов. Гартунг, который не был лично виновен в похищении, застрелился 13 октября в помещении суда. Всю вторую главу октябрьского выпуска Достоевский посвятил этому делу, чтобы вновь поднять вопрос о состоянии судебной системы, об ошибках суда присяжных. Внимание писателя-психолога данный случай привлёк по двум причинам: 1) самоубийство как следствие возможной судебной ошибки и 2) добровольная смерть как достойный выход аристократа, «джентльмена» из тупиковой позорной ситуации, в которую попал он по воле «фатума» и по слабости характера, по непрактичности, столь свойственной именно русскому человеку, самоубийство как единственный способ сохранения чести. Симпатии автора явно на стороне Гартунга, Достоевский не то что не осуждает его самоубийство, он даже его как бы оправдывает: «Бывают в этом слое интеллигентных русских людей типы, с некоторой стороны даже чрезвычайно привлекательные, но именно с этими несчастными свойствами русского джентльменства <…>. Иные из них почти невинны, почти Шиллеры; их незнание “дел” придаёт им почти нечто трогательное, но чувство чести в них сильное: он застрелится, как Гартунг, если, по своему мнению, потеряет честь <…> Одним словом, Гартунг умер в сознании совершенной своей личной невинности, но и ошибки… судебной ошибки, в строгом смысле, никакой не было. Был фатум, случилась трагедия: слепая сила почему-то выбрала одного Гартунга, чтоб наказать его за пороки, столь распространённые в его обществе. Таких, как он, может быть, 10000, но погиб один Гартунг…» Что касается суда, то вывод автора таков: «Я знаю, что всё это лишь праздное с моей стороны нытьё. Но послушайте, учреждение гласного присяжного суда всё же ведь не русское, а скопированное с иностранного. Неужели нельзя надеяться, что русская национальность, русский дух когда-нибудь сгладят шероховатости, уничтожат фальшь… дурных привычек, и дело пойдёт уже во всём по правде и по истине. Правда, теперь это невозможно: теперь именно защита и обвинение блистают этими дурными привычками, ибо одни ищут денег, а другие карьеры. Но ведь когда-нибудь можно же будет прокурору даже защищать подсудимого, вместо того чтоб обвинять его, так что защитники, если бы захотели возразить, что даже и той малой доли обвинения, которую прокурор всё же оставил на подсудимом, нельзя применить к нему, то присяжные заседатели им просто бы не поверили. Я даже так думаю, что такой прием скорее бы и вернее гораздо способствовал к отысканию истины, чем прежний механический способ преувеличения, состоящий в крайности обвинения и в зверстве защиты?..»
Глава третья.
I. Римские клерикалы у нас в России.
II. Летняя попытка Старой Польши мириться.
III. Выходка «Биржевых ведомостей». Не бойкие, а злые перья.
Вся глава посвящена опасности экспансии «римских клерикалов» (сторонников установления светской власти папы римского), польских католиков и вообще католичества в отношении России, православия.
Н О Я Б Р Ь.
Глава первая.
I. Что значит слово: «стрюцкие»? В январском выпуске ДП за 1877 г. часть вторая второй главы была озаглавлена «Мы в Европе лишь стрюцкие», кроме того слово это не раз встречалось в тексте «Дневника», и здесь Достоевский, в ответ на запросы читателей, объясняет и комментирует значение слова-понятия: «“Стрюцкий” – есть человек пустой, дрянной и ничтожный. В большинстве случаев, а может быть и всегда, – пьяница-пропойца, потерянный человек…»
II. История глагола «стушеваться». Здесь автор продолжает «лингвистическую» тему, вспоминает о времени, когда он только входил в литературу и впервые в повести «Двойник» употребил слово «стушеваться» из лексикона питомцев Главного инженерного училища, которое широко потом начало употребляться в русском языке. Значение же его – «исчезнуть, уничтожиться, сойти, так сказать, на нет».

Главное инженерное училище.
Глава вторая.
I. Лакейство или деликатность?
II. Самый лакейский случай, какой только может быть.
III. Одно совсем особое словцо о славянах, которое мне давно хотелось сказать.
«Известно, что все русские интеллигентные люди чрезвычайно деликатны, то есть в тех случаях, когда они имеют дело с Европой или думают, что на них смотрит Европа, – хотя бы та, впрочем, и не смотрела на них вовсе…» Начав с этого посыла, Достоевский в этой главе подробно разбирает «деликатное» поведение «русских европейцев», сильно смахивающее на «лакейство», которые всячески принижают значение русско-турецкой войны, победы русских войск, демонстрируют своё «европейское» отношение к туркам. Позиция писателя чётко выражена хотя бы в следующих строках: «NВ. (Кстати, еще недавно, уже в половине ноября, писали из Пиргоса о новых зверствах этих извергов. Когда, во время горячей бывшей там стычки, турки временно оттеснили наших так, что мы не успели захватить наших раненых солдат и офицеров, и когда потом, в тот же день к вечеру, опять наши воротились на прежнее место, то нашли своих раненых солдат и офицеров обкраденными, голыми, с отрезанными носами, ушами, губами, с вырезанными животами и, наконец, обгорелыми в сожженных турками скирдах соломы и хлеба, куда они предварительно перенесли живых наших раненых. Репрессалии, конечно, жестокая вещь, тем более, что в сущности ни к чему не ведут, как и сказал уже я раз в одном из предыдущих выпусков “Дневника”, но строгость с начальством этих скотов была бы не лишнею. Можно бы прямо объявить, вслух и даже на всю Европу (пруссаки наверно бы сделали так, потому что они даже с французами так точно делали по причинам в десять раз меньше уважительным, чем те, которые имеем мы против воюющих с нами скотов), – что если усмотрятся совершённые зверства, то ближайшие начальники тех турок, которые совершили зверства, в случае взятия их в плен, будут судимы на месте военным судом и подвержены смертной казни расстрелянием…» А в конце Достоевский уже смотрит в даль, когда война закончится и будет решаться «славянский вопрос», и предсказывает большие трудности вплоть до того, что освобождённые Россией народы могут её же и возненавидеть… Разъяснив подробно эту свою парадоксальную мысль, автор ДП делает окончательный вывод-пророчество: «Если нации не будут жить высшими, бескорыстными идеями и высшими целями служения человечеству, а только будут служить одним своим “интересам”, то погибнут эти нации несомненно, окоченеют, обессилеют и умрут. А выше целей нет, как те, которые поставит перед собой Россия, служа славянам бескорыстно и не требуя от них благодарности, служа их нравственному (а не политическому лишь) воссоединению в великое целое. Тогда только скажет всеславянство свое новое целительное слово человечеству… Выше таких целей не бывает никаких на свете. Стало быть, и “выгоднее” ничего не может быть для России, как иметь всегда перед собой эти цели, всё более и более уяснять их себе самой и всё более и более возвышаться духом в этой вечной, неустанной и доблестной работе своей для человечества.
Будь окончание нынешней войны благополучно – и Россия несомненно войдет в новый и высший фазис своего бытия…»
Глава третья.
I. Толки о мире. «Константинополь должен быть наш» – возможно ли это? Разные мнения.
II. Опять в последний раз «прорицания».
III. Надо ловить минуту.
В войне с Турцией Россия одерживала всё новые победы и в европейской и в российской прессе широко обсуждались вопросы и условия заключения мира. В частности, в газете «Русский мир» появился ряд статей Н. Я. Данилевского, автора капитального труда «Россия и Европа» (1869), (высоко ценимого Достоевским), который считал, что Константинополь должен со временем стать «общеславянским» городом, а пока его лучше оставить под властью турок… Автор ДП категорически с этим не согласен, он считает, что надо поменьше прислушиваться к «мнению Европы» и «ловить минуту» – воспользоваться плодами победы максимально: «Константинополь должен быть наш, завоёван нами, русскими, у турок и остаться нашим навеки…»
Д Е К А Б Р Ь.
Глава первая.
I. Заключительное разъяснение одного прежнего факта.
II. Выписка.
III. Искажения и подтасовки и – нам это ничего не стоит.
IV. Злые психологи. Акушеры-психиатры.
V. Один случай, по-моему, довольно много разъясняющий.
VI. Враг ли я детей? О том, что значит иногда слово «счастливая».
Достоевский вновь возвращается к делу Корниловой, выбросившей из окна свою падчерицу, речь о котором шла в ДП уже трижды (1876, октябрь, гл. 1; декабрь, гл. 1; 1877, апрель, гл. 2). Вызвано это было тем, что в газете «Северный вестник» (1877, № 8), некий «Наблюдатель» обвинил писателя в защите преступницы, в оправдании преступления против ребёнка. Писатель здесь подробно разъясняет свою позицию и своё участие в этом конкретном деле и свою позицию по «детскому вопросу», по судебной реформе, по психологии преступников вообще.
Глава вторая.
I. Смерть Некрасова. О том, что сказано было на его могиле.
II. Пушкин, Лермонтов и Некрасов.
III. Поэт и гражданин. Общие толки о Некрасове как о человеке.
IV. Свидетель в пользу Некрасова.
Первые четырё части второй главы посвящены памяти Н. А. Некрасова, скончавшегося 27 декабря 1877 г. Достоевский пишет о похоронах поэта, своих последних встречах с ним, вспоминает 1840-е гг., когда Некрасов одним из первых оценил его дебютный роман «Бедные люди» и свёл начинающего писателя с В. Г. Белинским, даёт свою оценку Некрасову как гражданину и поэту, определяет его значение в ряду других великих русских поэтов, его народность: «В служении сердцем своим и талантом своим народу он находил всё своё очищение перед самим собой. Народ был настоящею внутреннею потребностью его не для одних стихов. В любви к нему он находил своё оправдание. Чувствами своими к народу он возвышал дух свой. Но что главное – это то, что он не нашел предмета любви своей между людей, окружавших его, или в том, что чтут эти люди и пред чем они преклоняются. Он отрывался, напротив, от этих людей и уходил к оскорбленным, к терпящим, к простодушным, к униженным, когда нападало на него отвращение к той жизни, которой он минутами слабодушно и порочно отдавался; он шёл и бился о плиты бедного сельского родного храма и получал исцеление…»
V. К читателям. В заключительной подглавке Достоевский прощается «на время» с читателями «Дневника писателя», обещает через год возобновить его издание как только «отдохнёт» и напишет новый роман («Братья Карамазовы», работа над которыми заняла почти все оставшиеся до смерти три года), благодарит всех читателей и корреспондентов, писавших ему письма. В постскриптуме писатель горячо рекомендует всем прочесть только что вышедшую книгу «Восточный вопрос прошедшего и настоящего. Защита России. Сэра Т. Синклера, баронета, члена британского парламента. Перевод с английского», которую издал В. Ф. Пуцыкович и которая по теме и духу близка «Дневнику» во взгляде на Восточный вопрос.
Дневник писателя. 1880
Ежемесячное издание. Год III. Единственный выпуск на 1880.(XXVI)
А В Г У С Т.
Глава первая.
Объяснительное слово по поводу печатаемой ниже речи о Пушкине.
Глава вторая.
Пушкин (Очерк). Произнесено 8 июня в заседании Общества любителей российской словесности.
Глава третья.
Придирка к случаю. Четыре лекции на разные темы по поводу одной лекции, прочитанной мне г-ном А. Градовским. С обращением к г-ну Градовскому
I. Об одном самом основном деле.
II. Алеко и Держиморда. Страдания Алеко по крепостному мужику. Анекдоты.
III. Две половинки.
IV. Одному смирись, а другому гордись. Буря в стаканчике.
«Пушкинская речь», произнесённая Достоевским в Москве на открытии памятника А. С. Пушкину, была опубликована сначала в газете «Московские ведомости» (1880, № 162, 13 июня) и вызвала шквал обсуждений, полемики в прессе. Писатель, отложив работу над романом «Братья Карамазовы», подготовил и выпустил по этому поводу единственный выпуск «Дневника писателя» за 1880 г., в котором поместил целиком текст речи, свои комментарии к ней и ответы на главные возражения оппонентов, в первую очередь – профессора и публициста А. Д. Градовского, опубликовавшего свою статью «Мечты и действительность» в «Голосе» (1880, № 174, 25 июня).

«Дневник писателя. 1880». Страница черновика.
Дневник писателя. 1881
Ежемесячное издание. (XXVII)
Последний выпуск ДП за 1877 г. Достоевский закончил обещанием возобновить издание его через год. Однако «художническая работа» над романом «Братья Карамазовы» оказалась не менее срочной и тяжёлой, чем работа над ежемесячным «Дневником», так что к регулярному выпуску его (не считая единственного «пушкинского» номера за 1880 г.) писатель смог вернуться только с 1881 г. Огромный успех «Пушкинской речи», нового романа, не утихающая полемика вокруг августовского ДП за 1880 г. – всё это способствовало небывалому росту популярности Достоевского. Общество с нетерпение ждало его непосредственного прямого слова на страницах возобновлённого «Дневника». Но писатель, увы, успел подготовить только январский выпуск, который вышел уже после его скоропостижной смерти.
Я Н В А Р Ь.
Глава первая.
I. Финансы. Гражданин, оскорблённый в Ферсите. Увенчание снизу и музыканты. Говорильня и говоруны.
II. Возможно ль у нас спрашивать европейских финансов?
III. Забыть текущее ради оздоровления корней. По неуменью впадаю в нечто духовное.
IV. Первый корень. Вместо твёрдого финансового тона впадаю в старые слова. Море-океан. Жажда правды и необходимость спокойствия, столь полезного для финансов.
V. Пусть первые скажут, а мы пока постоим в сторонке, единственно чтоб уму-разуму поучиться.
«Господи, неужели и я, после трёх лет молчания, выступлю, в возобновлённом “Дневнике” моём, с статьёй экономической? Неужели и я экономист, финансист? Никогда таковыми не был. Несмотря даже на теперешнее поветрие, не заразился экономизмом, и вот туда же за всеми выступаю с статьей экономической…» Так, как бы извиняясь, начинает Достоевский возобновлённый ДП и далее обсуждает самую злободневную проблему для текущего состояния России – возрождение после войны. Свою основную мысль писатель формулирует так: «Для приобретения хороших государственных финансов в государстве, изведавшем известные потрясения, не думай слишком много о текущих потребностях, сколь бы сильно ни вопияли они, а думай лишь об оздоровлении корней – и получишь финансы…» А самый «первый», самый «главный корень» – простой народ, мужик. «Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду…», – советует автор ДП власть предержащим и всему «высшему обществу»…
Глава вторая.
I. Остроумный бюрократ. Его мнение о наших либералах и европейцах.
II. Старая басня Крылова об одной свинье.
III. Геок-Тепе. Что такое для нас Азия?
IV. Вопросы и ответы.
В качестве одной из кардинальных мер оздоровления финансов России в либеральной печати предлагалось сокращение военного бюджета и конкретно – сократить армию на пятьдесят тысяч солдат. Достоевский же считает, что в первую очередь надо подумать о сокращении армии бюрократов. Тем более, что армии русской и в мирное время дел хватает. И на следующих страницах «Дневника», как бы продолжая эту тему, писатель размышляет о будущем России в Азии. Как раз после долгих неудач экспедиции русских войск в Туркменистане была наконец 12 января 1880 г. взята штурмом крепость Геок-Тепе, а следом, через неделю, и – Асхабад (Ашхабад). По мнению Достоевского, Азия для России значит чрезвычайно много: «…с поворотом в Азию, с новым на неё взглядом нашим, у нас может явиться нечто вроде чего-то такого, что случилось с Европой, когда открыли Америку. Ибо воистину Азия для нас та же не открытая ещё нами тогдашняя Америка. С стремлением в Азию у нас возродится подъём духа и сил. Чуть лишь станем самостоятельнее, – тотчас найдём что нам делать, а с Европой, в два века, мы отвыкли от всякого дела и стали говорунами и лентяями…» И это, по сути, – завещание великого русского писателя.
Дорого стоят детишки…
Стихотворение. 1876—1877. (XVII)
Шуточное четверостишье, сохранившееся в записной тетради, обращено к жене писателя А. Г. Достоевской.
<Драма. В Тобольске…>
Неосущ. замысел, 1874. (XVII)
Набросок плана появился в записной тетради под датой 13 сентября 1874 г., в разгар работы над романом «Подросток». Во главу угла замысла положена трагедия мнимого отцеубийцы Дмитрия Ильинского, попавшего за преступление брата на каторгу, о которой уже шла речь в «Записках из Мёртвого дома». Судя по замыслу, значительная часть действия должна была разворачиваться в остроге и после возвращения Ильинского домой: он прощает брата, а тот в ответ прилюдно признаётся в убийстве отца… В этом плане-наброске уже содержится главная сюжетная линия будущих «Братьев Карамазовых».
Дядюшкин сон
(Из мордасовских летописей). Повесть. РСл, 1859, № 3. (II)
Основные персонажи:
Антипова Анна Николаевна;
Вася;
Зяблова Настасья Петровна;
Каллист Станиславич;
Князь К.;
Мозгляков Павел Александрович;
Москалев Афанасий Матвеевич;
Москалева Зинаида Афанасьевна;
Москалева Марья Александровна;
Паскудина Наталья Дмитриевна;
Степанида Матвеевна;
Фелисата Михайловна;
Фарпухина Софья Петровна;
Хроникёр.
В захолустном уездном городке Мордасове случилось событие из ряда вон: объявился проездом такой завидный жених, о котором местные невесты и мечтать не смели – князь К., столичная штучка, запросто бывавший в Париже и Вене… Мало дела, что из него уже песок сыплется и с головой не всё от старческого маразма в порядке, но зато толстый кошелёк и княжеский титул чрезвычайно скрашивают эти обстоятельства. Среди женского населения Мордасова вспыхивает-разворачивается нешуточная битва за руку и сердце князя – с интригами, подкупами, обманами. Результат битвы, увы, оказался трагическим: бедный князь не выдержал напряжённой жениховской жизни и скоропостижно умре, так и не успев никого осчастливить…
Это, по существу, второе дебютное произведение Достоевского – им начиналось новое вхождение в литературу после десяти лет каторги и солдатчины. Перед писателем стояла проблема из проблем – с чем ехать из Сибири в Россию? Для политического ссыльного трудность возвращения состояла лишь в деньгах, вернее, как всегда, – в их отсутствии. Для автора «Бедных людей» главным было не просто вернуться из «Мёртвого дома», из почти что забвения, но и сразу же вернуться в Литературу, найти-восстановить-занять в ней своё, потерянное было, место, заявить-напомнить о себе сразу и всерьёз. Причём, Достоевский, пристрастно читая все присылаемые братом журналы, отлично видел-знал: русская литература за эти минувшие без него почти десять лет на месте не стояла. Безусловно подтвердили своё реноме больших талантов уже известные ему И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков-Щедрин; громко заявили о себе и совершенно не знакомые ему А. Н. Островский и Л. Н. Толстой; небесталанным гляделся, к примеру, и А. Ф. Писемский… Между тем, за годы каторги сам Достоевский как бы потерял профессионализм, утратил писательские навыки и даже, страшно подумать, разучился вовсе писать-творить. Более трёх лет после острога, уже вполне имея возможность «держать перо в руках», он никак не может создать законченное цельное произведение – только наброски, планы, прожекты, намётки, мечты… Конечно, до получения офицерского чина его угнетала-сдерживала мысль, что ему всё равно не дозволено печататься. Однако ж, он уже решался публиковать свои вещи даже инкогнито (письмо к А. Е. Врангелю от 21 декабря 1856 г.), но готовая рукопись всё никак не могла появиться на свет. А ведь в письме к брату М. М. Достоевскому от 22 декабря 1856 г. писатель уверенно и убеждённо сообщал: «А в своих силах, если только получу позволение (Печататься. – Н. Н.), я уверен. Не сочти, ради Христа, за хвастовство с моей стороны, брат бесценный, но знай, смело, будь уверен, что моё литературное имя – непропадшее имя. Материалу в 7 лет накопилось у меня много, мысли мои прояснели и установились…»
Точно так же, как в начале 1840-х, заново начинающий писатель никак не может остановиться на одной какой-то «капитальной» идее. Если тогда он пробовал писать рассказы, исторические драмы, трагедии, пока не напал на счастливую мысль создать-сочинить реалистический роман в письмах, то и теперь он опять долго и мучительно ищет форму и способ сказать своё, новое,слово в литературе. Для начала он пробует писать воспоминания о каторге, затем берётся за большой «роман комический», о котором пишет-упоминает в письмах к А. Н. Майкову (18 янв. 1856 г.) и М. М. Достоевскому (9 нояб. 1856 г.), причём последнему сообщает: «…отрывки, совершенно законченные эпизоды, из этого большого романа, я бы желал напечатать теперь». Однако ж, через год (3 нояб. 1857 г.) Достоевский признаётся брату: «…весь роман, со всеми материалами, сложен теперь в ящик. Я взял писать повесть, небольшую (впрочем, листов в 6 печатных). Кончив её, напишу роман из петербургского быта, вроде «Бедных людей» (а мысль ещё лучше «Бедных людей»), обе эти вещи были давно мною начаты и частию написаны, трудностей не представляют, работа идет прекрасно, и 15-го декабря я высылаю в «Вестник» мою 1-ю повесть…» Речь в данном случае идёт, вероятнее всего, о повести «Село Степанчиково и его обитатели» и романе «Униженные и оскорблённые». Но к 15-му декабря рукопись повести выслана в «Русский вестник» не была – писатель закончил работу над ней только через полтора года, в июне 1859-го. А за петербургский роман Достоевский вплотную засядет и вовсе через три года…
А тогда, в Сибири, он сделал-совершил и вовсе невероятное: через Михаила Михайловича заключает в декабре 1857 г. договор с редактором-издателем только что созданного журнала «Русское слово» Г. А. Кушелёвым-Безбородко на публикацию своего романа и получает вперёд 500 рублей серебром; и тут же, буквально следом (11 января 1858 г.) он в письме к издателю РВ М. Н. Каткову предлагает большой роман, первую часть обязуется выслать в продолжение лета, так что «милостивый государь г-н издатель» может с сентябрьского номера роман уже и печатать. Причём Достоевский совершенно откровенно сообщает Каткову о своём соглашении-договоре с Кушелёвым-Безбородко, о 500-х рублях аванса, но так как он, Достоевский, «вошёл в долги», а так же «и для дальнейшего своего обеспечения» ему крайне и срочно необходимо иметь 1000 рублей, то он и просит у издателя московского журнала, в свою очередь, 500 рублей под будущий роман. Повесть «Дядюшкин сон» редакция РСл получит вместо апреля 1857-го только в январе следующего года, а в РВ повесть «Село Степанчиково и его обитатели» – и то частями! – дождутся только через год после обещанного срока, летом 1859-го. Но, надо подчеркнуть, писательское реноме автора «Бедных людей» было ещё столь высоко, что Кушелёв-Безбородко не огорчился опозданием «Дядюшкиного сна», а, напротив, тут же выслал Достоевскому новый аванс в тысячу рублей под ещё один обещанный им роман.
Ещё в Семипалатинске Достоевский жаждет узнать о том, какое впечатление производит на публику и производит ли вообще повесть «Дядюшкин сон». Первым откликается в письме поэт А. Н. Плещеев, который прочёл её в рукописи: в целом отзыв положителен («Вообще-то повесть весьма хороша…»), но друг юности и не скрывает, что ожидал большего, и что «роман отзывается спешностью». В этом же письме он уведомляет автора, что-де Тургенев страстно желает прочесть «Дядюшкин сон» как можно быстрее, ещё в корректуре. Думается, такое нетерпение со стороны именно Ивана Сергеевича весьма Достоевскому польстило. Но критика замолчит первую послекаторжную повесть Достоевского. Да и сам автор впоследствии не очень её ценил и понимал, что перестраховался, начав возвращение в литературу не с «Записок из Мёртвого дома», а с комических водевилей. Когда в 1873 г. московский студент М. П. Фёдоров попросил у писателя разрешения переделать историю «из мордасовских летописей» для сцены, Достоевский ему откровенно написал-объяснил: «…15 лет я не перечитывал мою повесть «Дядюшкин сон». Теперь же, перечитав, нахожу её плохою. Я написал её тогда в Сибири, в первый раз после каторги, единственно с целью опять начать литературное поприще, и ужасно опасаясь цензуры (как к бывшему ссыльному). А потому невольно написал вещичку и замечательной невинности…»
Примечательно, что в этой «голубиного незлобия» повести содержатся пародийные переклички не только со второстепенными водевилями того времени, но и с «Евгением Онегиным» А. С. Пушкина, «Ревизором» и «Мёртвыми душами» Н. В. Гоголя.
Евгения Гранде
Перевод романа О. де Бальзака. «Репертуар и Пантеон», 1844, № 6—7.
Несколько лет перед вступлением на путь профессионального литератора Достоевский только и занимался тем, что писал и уничтожал написанное. Известно из воспоминаний современников, А. Е. Ризенкампфа, например, о его таинственных ранних трагедиях «Борис Годунов» и «Мария Стюарт», о многочисленных рассказах, которые были-существовали, но которые никто не читал. А вступил будущий автор «Братьев Карамазовых» в литературу в 1844 г. переводом популярного романа «Eugenie Grandet» (1833) знаменитого тогда уже и в России французского писателя Бальзака. В то время такой путь был обычным: к примеру, за несколько лет до того переводом романа Поль де Кока «Магдалина» начал свою литературную карьеру В. Г. Белинский. Занимался переводами, но с немецкого и брат Достоевского – М. М. Достоевский. Увлечение молодого Достоевского творчеством Бальзака и хорошее знание французского языка определили выбор произведения для перевода. Исследователи отмечают, что Достоевский подошёл к работе творчески, внёс в психологию поведения героев, их язык, вообще в стилистику произведения много своего. И в то же время перевод романа живого классика французской литературы стал для начинающего русского романиста своеобразной школой, в какой-то мере отразился уже в первом произведении – романе «Бедные люди», а образ кроткой и страдающей заглавной героини «подсказал» некоторые черты в образе Александры Михайловны из «Неточки Незвановой».
Ёлка и свадьба
(Из записок неизвестного). Рассказ. ОЗ, 1848, № 9. (II)
Основные персонажи:
Господин с бакенбардами;
Девочка с приданным;
Мальчик;
Неизвестный;
Филипп Алексеевич;
Юлиан Мастакович.
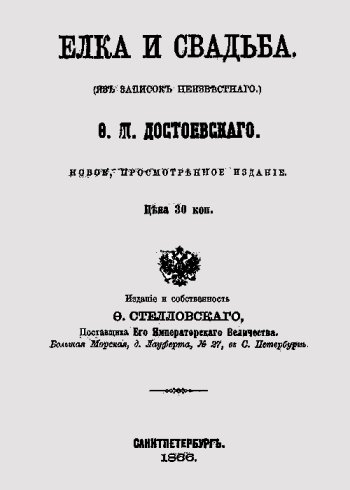
Неизвестный повествователь начинает было о свадьбе, которую случайно видел-наблюдал на днях, но обрывает сам себя и рассказывает вначале о детской новогодней ёлке, на которой довелось ему присутствовать лет за пять до того. И там он стал невольным свидетелем отвратительной сцены: пожилой господинчик с брюшком, узнав, что для одной 11-летней девочки-гостьи её отцом уже приготовлено триста тысяч приданного, начинает подмасливаться к ней и даже ревновать маленького нищего мальчишку, сына гувернантки. А через пять лет Неизвестный, увидев свадьбу у церкви, в женихе узнаёт этого господинчика с брюшком – Юлиана Мастаковича, а в невесте – ту самую Девочку с приданным…
Рассказ, видимо, должен был войти в цикл рассказов, объединённых образом «неизвестного» повествователя, который Достоевский задумал в 1847—1848 гг., поэтому сохранился общий подзаголовок с рассказом «Честный вор». А главный герой, лицемерный негодяй Юлиан Мастакович, до этого уже появлялся в «Петербургской летописи» и повести «Слабое сердце». Достоевский неизменно включал этот рассказ в прижизненные издания своих сочинений.
Жид Янкель
Неосущ. замысел, 1844. (XXVIII1)
Один из трёх драматургических опытов (наряду с «Борисом Годуновым» и «Марией Стюарт») начинающего писателя, которые не сохранились. Впервые упоминается о нём в письме к брату М. М. Достоевскому (2-я пол. янв. 1844 г.): «Клянусь Олимпом и моим “Жидом Янкелом” (оконченной драмой)…» Видимо, в центре несохранившейся драмы находился герой, навеянный образом Янкеля из повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» (1835—1841), которого Достоевский вспоминает и в «Записках из Мёртвого дома», описывая каторжника Бумштейна: «Каждый раз, когда я глядел на него, мне всегда приходил на память Гоголев жидок Янкель, из «Тараса Бульбы», который, раздевшись, чтоб отправиться на ночь с своей жидовкой в какой-то шкаф, тотчас же стал ужасно похож на цыплёнка…»
<Житие великого грешника>
Неосущ. замысел, 1869—1870. (IX)
Это – самый значительный замысел Достоевского. Он впрямую связан с неосуществлённым замыслом «Атеизм», вырос из него. Впервые это название появляется в рабочей тетради писателя под датой 8 /20/ декабря 1869 г., в Дрездене, в период подготовительной работы над романом «Бесы». Писатель задумал начать повествование о Великом грешнике с детства и последовательно показать в цикле связанных между собою нескольких романах историю его духовного развития до самой смерти. Довольно подробно о своём замысле сам Достоевский рассказал в письмах к Н. Н. Страхову (24 марта /5 апр. / 1870 г.) и особенно – А. Н. Майкову (25 марта /6 апр. / 1870 г.): «Это будет мой последний роман. Объемом в “Войну и мир” <…>. Этот роман будет состоять из пяти больших повестей (листов 15 в каждой; в 2 года план у меня весь созрел). Повести совершенно отдельны одна от другой, так что их можно даже пускать в продажу отдельно. Первую повесть я и назначаю Кашпиреву: тут действие еще в сороковых годах. (Общее название романа есть: “Житие великого грешника”, но каждая повесть будет носить название отдельно.) Главный вопрос, который проведётся во всех частях, – тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, – существование Божие. Герой, в продолжение жизни, то атеист, то верующий, то фанатик и сектатор, то опять атеист: 2-я повесть будет происходить вся в монастыре. На эту 2-ю повесть я возложил все мои надежды. Может быть, скажут наконец, что не всё писал пустяки. (Вам одному исповедуюсь, Аполлон Николаевич: хочу выставить во 2-й повести главной фигурой Тихона Задонского; конечно, под другим именем, но тоже архиерей, будет проживать в монастыре на спокое.) 13-летний мальчик, участвовавший в совершении уголовного преступления, развитый и развращенный (я этот тип знаю), будущий герой всего романа, посажен в монастырь родителями (круг наш образованный) и для обучения. Волчонок и нигилист-ребенок сходится с Тихоном (Вы ведь знаете характер и всё лицо Тихона). Тут же в монастыре посажу Чаадаева (конечно, под другим тоже именем). Почему Чаадаеву не просидеть года в монастыре? Предположите, что Чаадаев, после первой статьи, за которую его свидетельствовали доктора каждую неделю, не утерпел и напечатал, например за границей, на французском языке, брошюру, – очень и могло бы быть, что за это его на год отправили бы посидеть в монастырь. К Чаадаеву могут приехать в гости и другие: Белинский наприм<ер>, Грановский, Пушкин даже. (Ведь у меня же не Чаадаев, я только в роман беру этот тип.) В монастыре есть и Павел Прусский, есть и Голубов, и инок Парфений. (В этом мире я знаток и монастырь русский знаю с детства.) Но главное – Тихон и мальчик. Ради бога, не передавайте никому содержания этой 2-й части. Я никогда вперед не рассказываю никому моих тем, стыдно как-то. А Вам исповедуюсь. Для других пусть это гроша не стоит, но для меня сокровище. Не говорите же про Тихона. Я писал о монастыре Страхову, но про Тихона не писал. Авось выведу величавую, положительную, святую фигуру. Это уж не Костанжогло-с и не немец (забыл фамилию) в «Обломове», и не Лопухины, не Рахметовы. Правда, я ничего не создам, я только выставлю действительного Тихона, которого я принял в свое сердце давно с восторгом. Но я сочту, если удастся, и это для себя уже важным подвигом. Не сообщайте же никому. Но для 2-го романа, для монастыря, я должен быть в России. Ах, кабы удалось!..»
Упоминание в этом письме (как и в письме к Страхову) «Войны и мира» Л. Н. Толстого появилось-выскочило не случайно. Достоевский прекрасно понимал, что с появлением эпопеи Толстого русская литература (да и мировая) обрела новые масштабы. Достоевский намеревался вступить как бы в творческое соревнование с автором «Войны и мира» и противопоставить исторической эпопее Толстого с героями-дворянами в центре повествования эпопею развития души современника, представителя «случайного семейства»…
Цикл романов под общим названием «Житие великого грешника» так и не был написан. Судя по черновым записям, писателю упорно не давалась тема-идея «преодоления греховности» заглавным героем, убедительное изображение его духовного переворота, эволюцию от преступления к подвигу. Однако ж, в той или иной степени, фрагменты замысла нашли отражение в поздних романах Достоевского – «Подростке» и особенно «Братьях Карамазовых».
Журнальная заметка
О новых литературных органах и о новых теориях. Статья. Вр, 1863, № 1. (XX)
Статья появилась в журнале «Время» без подписи (авторство её засвидетельствовал после смерти Достоевского Н. Н. Страхов) и была посвящена состоянию русской журналистики и литературы того периода, когда после короткой волны общественного подъёма начались гонения на «передовые» журналы (были приостановлены «Современник» и «Русское слово»), однако ж возникали в большом количестве всё новые издания, а некоторые из прежних меняли своих хозяев. В частности, среди новых периодических изданий, объявленных на 1863 г., значились «Голос», газета А. А. Краевского, и газета «Весть», служащая продолжением «Русского листка» (издатели-редакторы В. Д. Скарятин и Н. Н. Юматов), а также сообщалось о слиянии газетного отдела «Современная летопись» журнала «Русский вестник» с «Московскими ведомостями», которые окончательно переходили от Московского университета к М. Н. Каткову и П. А. Леонтьеву и о соединении редакций «Акционера» и «Дня». «Журнальная заметка» является как бы продолжением предыдущих статей Достоевского, направленных против реакционной печати и, в первую очередь, журнала Каткова («Ответ “Русскому вестнику», «По поводу элегической заметки “Русского вестника”», «“Свисток” и “Русский вестник”»). Достоевский образно сравнивает периодические журналы определённого направления с кудахтающим «стадом куриц», которые вторят, как «петуху», своему предводителю – издателю «Русского вестника». А Катков, по мнению Достоевского, совсем не знает народ, не понимает современное ему русское общество, слепо преклоняется перед английским государственным устройством, несведущ в вопросах образования и пр. Язвителен тон в «Журнальной заметке» и в адрес затеваемой Краевским (которого Достоевский знал более чем хорошо) газеты «Голос», которая, судя по программе, конечно же, не должна была выходить за границы «умеренности и аккуратности». Более уважителен тон по отношению к славянофильской газете «День», с которой Достоевский полемизировал и раньше («Последние литературные явления. Газета “День”», «Два лагеря теоретиков»): «Время» роднило со славянофилами тезис о сближении общества с «почвой», но Достоевский не принимал в аксаковской газете идеализацию допетровской Руси и скептическое отношение к прогрессу. В «Журнальной заметке» язвительно высмеивается «Русский листок» и его редактор Скарятин за намёки на связь петербургских пожаров с «подмётной литературой», то есть с прокламацией «Молодая Россия».
Журнальные заметки
I. Ответ “Свистуну”. II. Молодое перо. Статья. Вр, 1863, № 2. (XX)
С января по апрель 1863 г. в Петербурге выходила газета «Очерки», фактическим редактором которой был сотрудник «Современника» Г. З. Елисеев. В 40-м номере этой газеты появилось письмо, направленное против журнала «Время», за подписью «Свистун», автором которого был или М. Е. Салтыков-Щедрин, или М. А. Антонович, или оба вместе. В 1-м номере С за 1863 г., который вышел практически одновременно с данным номером «Очерков», тоже содержался ряд резких выпадов против журнала братьев Достоевских, опять же, Щедрина, Антоновича и Елисеева. Достоевский, конечно, не мог не ответить. Его две заметки под общим заголовком появились в февральском номере без подписи, их принадлежность Достоевскому указана Н. Н. Страховым. Конкретным поводом для ответа «Свистуну» послужило то, что тот обвинил журнал «Время» в «явной недобросовестности и непоследовательности» в оценке деятельности и творчества покойного Н. А. Добролюбова, а во второй части, «Молодое перо», Достоевский отвечал анонимному автору (но давая понять, что узнал в нём Щедрина) рецензии на письмо-заметку А. Скавронского (Г. П. Данилевского) «Литературная подпись» (Вр, 1862, № 12). Демарш в отношении Салтыкова-Щедрина был особенно резок: Достоевский обвинил сатирика, по существу, в том, в чём тот упрекал других – в безыдейности его юмора, беспринципности, отходе от демократических идей.
Заметка «Молодое перо» окончательно определила памфлетный характер полемики Достоевского с Салтыковым-Щедриным, которая становилась всё ожесточённее в дальнейшем и предопределила тональность последующих «антищедринских» статей Достоевского – «Опять “Молодое перо”», «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах», «Необходимое заявление», «Чтобы кончить». А в целом «Журнальные заметки» стали новым этапом в жаркой полемике «Времени» и позднее «Эпохи» с «Современником», которая не прекращалась вплоть до закрытия второго журнала братьев Достоевских.
Зависть
Неосущ. замысел, 1870. (XI)
План этот появился в записной тетради Достоевского в начале 1870 г. и стал, по существу, первым вариантом рабочего плана романа «Бесы»: в намеченных действующих лицах уже можно угадать будущих героев «Бесов»: Князь А. Б. – Ставрогин, Учитель – Шатов, мать А. Б. – Варвара Петровна Ставрогина, Воспитанница – Дарья Шатова, Красавица – Лиза Тушина, Картузов – Лебядкин. На данном этапе предполагался чисто психологический роман с «романтическим» сюжетом. Несколько раз в этом плане подчёркивается, что главное в романе – характер «Князя», то есть будущего Ставрогина.
<Заметка о Слепцове>
Неосущ. замысел, 1864. (XXVIII2)
Первые месяцы 1864 г. Достоевский вынужденно жил в Москве из-за смертельной болезни жены М. Д. Достоевской. Журнал «Эпоха» к тому времени терпел уже окончательный крах. Писатель в очередном письме к брату М. М. Достоевскому (от 5 марта), сообщал, что из-за тяжёлого недомогания писать «физически» не в состоянии, но обещал: «…может быть, я изобрету как-нибудь способ, если легче будет, писать в постеле. Для этого послезавтра, может быть, напишу коротенькую заметку о Слепцове. Напишу умеренно, хвалить очень не буду…» К тому времени В. А. Слепцов (1836—1878) уже опубликовал свои первые рассказы и очерки и становился известен. Задуманная заметка-рецензия Достоевского в «Эпохе» так и не появилась.
Записки из Мёртвого дома
I—IV гл.: РМ, 1860, № 67, 1 сент.; 1861, № 1, 4 янв.; № 3, 11 янв.; № 7, 25 янв. Полностью: Вр, 1861, № 4, 9—11; 1862, № 1—3, 5, 12. (IV)
Основные персонажи:
А-в;
Аким Акимыч;
Акулина Анкудимовна;
Алей;
Алмазов;
Б—кий (Б—ский; Б.);
Б—м;
Баклушин Александр;
Белка;
Бумштейн Исай Фомич;
Варламов;
Васька (козёл);
Г—ков (Г—в);
Гаврилка;
Газин;
Гнедко;
Горянчиков Александр Петрович;
Двугрошовая;
Ёлкин;
Ж—кий;
Жеребятников;
Коллер;
Коренев (Каменев);
Куликов;
Культяпка;
Ломов;
Лука Кузьмич (Лучка);
М—цкий;
Морозов Филька;
Настасья Ивановна;
Неустроев;
Нецветаев;
Нурра;
Орёл;
Орлов;
Осип;
Острожский;
Отцеубийца;
Петров;
Плац-майор (Восмиглазый);
Поцейкин;
Сироткин;
Скуратов;
Смекалов;
Старовер;
Сушилов;
Т—ский (Т—вский);
Товарищ из дворян;
Устьянцев;
Чекунда;
Шарик;
Шишков.

В «Введении» поясняется, что автор-«публикатор» «Записок» (Достоевский) встретился и познакомился в одном из маленьких сибирских городков К. (возможно, Кузнецке) с поселенцем Александром Петровичем Горянчиковым – бывшим дворянином и помещиком, который за убийство своей жены отбыл десять лет каторги. Вскоре Горянчиков скоропостижно умер, после него осталось «целое лукошко» бумаг, среди которых и обнаружилась тетрадь с воспоминаниями о каторге, которые сам Горянчиков назвал «Сцены из Мёртвого дома». Со страниц тетради открывался «совершенно новый мир, до сих пор неведомый»… В опубликованном виде «Записки» состоят из 2-х частей: в 1-й – 11 глав, во 2-й – 10. Начинаются воспоминания с главы «Мёртвый дом», где дан самый общий «портрет» каторжного мира, затем в следующих трёх главах с общим названием «Первые впечатления» автор начинает уже подробный рассказ о своей жизни в Омском остроге и невольных соседях по нарам. И далее в главах с характерными заглавиями «Первый месяц», «Решительные люди. Лучка», «Госпиталь», «Каторжные животные» и др. вплоть до заключительной – «Выход из каторги» читатель узнавал всё новые и новые подробности, перед ним складывалась полная объёмная, живописная картина острожного мира, где есть свои радости, есть свои герои, есть свои порядки, правила и законы. Главу IV второй части «Записок» занимает вставной рассказ «Акулькин муж» – рассказ-исповедь каторжника Шишкова о своём преступлении: убийстве любимой жены из ревности…
«Записки из Мёртвого дома» занимают в творчестве Достоевского особое место, резко отличаются от всех других произведений тональностью, стилистикой, формой. Это – синтез мемуаров, физиологического очерка и художественной прозы. Основу их составили личные впечатления автора, отбывшего по приговору суда над петрашевцами четыре года каторги в Омском остроге. Замысел книги возник ещё в Сибири, но реальная работа над ней началась только в 1860 г., после возвращения в Петербург. Первые четыре главы появились в газете «Русский мир», которую издавал, между прочим, Ф. Т. Стелловский, сыгравший в дальнейшей судьбе писателя значительную роль. С первого же номера основанного братьями Достоевскими журнала «Время» публикация «Мёртвого дома» была перенесена на его страницы и началась опять с «Введения» и первых глав. Ещё только приступая к работе над «каторжными мемуарами» автор провидчески предсказал их успех у читающей публики и мотивировал его: «Эти “Записки из Мёртвого дома” приняли теперь, в голове моей, план полный и определённый. Это будет книжка листов в 6 или 7 печатных. Личность моя исчезнет. Это записки неизвестного; но за интерес я ручаюсь. Интерес будет наикапитальнейший. Там будет и серьезное, и мрачное, и юмористическое, и народный разговор с особенным каторжным оттенком (я тебе читал некоторые, из записанных мною на месте, выражений), и изображение личностей, никогда не слыханных в литературе, и трогательное, и, наконец, главное, – моё имя. <…> Я уверен, что публика прочтёт это с жадностию…» (М. М. Достоевскому из Твери, 9 окт. 1859 г.)
Достоевский опасался цензуры, но претензии её даже для него стали неожиданностью: изображение каторжного быта показалось ей недостаточно устрашающим и мрачным, дескать, из «Записок» можно получить превратное представление о лёгкости каторжного наказания. Автору пришлось срочно дописывать фрагмент, где он подробно объяснил тяжесть несвободы, неволи, жизни за решёткой и в кандалах, однако ж это дополнение так и не было включено в текст при первой публикации, так как запрет цензуры был всё же снят. Возникли некоторые трудности и с публикацией главы «Товарищи» (о политических преступниках), но и она была опубликована не в майском, а позже, вместе с заключительными главами «Записок», в декабрьском номере Вр за 1862 г.
В «Записках из Мёртвого дома» впервые появляются темы, которые займут в дальнейшем творчестве Достоевского важное место: преступление, психология преступника, «преступление и наказание», добровольное страдание, психология жертвы и психология палача, свобода мнимая и настоящая, разъединение высшего общества с народом… И ещё важно подчеркнуть, что ни в одном произведении Достоевского, включая самые «густонаселённые», нет столько персонажей и большая их часть – из народа. Отсюда в языке произведения много фольклорного материала, специфической лексики, источником которой служила «Сибирская тетрадь», составленная писателем на каторге. Примечательно, что автор, подтверждая ожидаемый успех «Записок» после публикации (из письма А. Е. Врангелю от 31 марта 1865 г.: «Мой “Мёртвый дом” сделал буквально фурор, и я возобновил им свою литературную репутацию…»), всё же огорчался, что произведение его не оценено должным образом именно с этой стороны. Уже в зените славы, в записной тетради 1876 г. он сетовал, что критика, посвящённая «народным романам», о «Записках из Мёртвого дома», «где множество народных сцен», – ни слова…» Но в целом современники и критика достойно оценили это произведение Достоевского. Наиболее значительная статья – «Погибшие и погибающие» – принадлежит перу Д. И. Писарева, которая появилась в 1866 г. в сборнике «Луч» и в которой критик разобрал-сопоставил «Записки из Мёртвого дома» с «Очерками бурсы» (1863) Н. Г. Помяловского. Очень ёмко и образно охарактеризовал «каторжные записки» Достоевского А. И. Герцен, написавший, что эпоха общественного подъёма 1860-х гг. «оставила нам одну страшную книгу <…>, которая всегда будет красоваться над выходом из мрачного царствования Николая, как надпись Данте над входом в ад: это “Мёртвый дом” Достоевского, страшное повествование, автор которого, вероятно, и сам не подозревал, что, рисуя своей закованной рукой образы сотоварищей каторжников, он создал из описания нравов одной сибирской тюрьмы фрески в духе Буонароти…» [Герцен, т. 18, с. 219]
Отдельным изданием при жизни автора «Записки из Мёртвого дома» выходили в 1862, 1865 и 1875 гг.

Ограда Омского острога.
Записки из подполья
Повесть. Э, 1864, № 1—2, 4. (V)
Основные персонажи:
Аполлон;
Зверков;
Лиза;
Офицер;
Подпольный человек;
Сеточкин Антон Антонович;
Симонов;
Трудолюбов;
Ферфичкин.
«Я человек больной… Я злой человек. Непривлекательный я человек…», – так начинаются эти эпатажные записки. Подпольный человек, автор-герой этой исповеди, был когда-то чиновником, но уже давно бросил службу, забился в свою конуру, в своё подполье и, переварив и обмыслив все свои обиды на окружающий мир, создал вот эти «Записки», которые отнюдь им не предназначались для печати. Состоят они из двух частей: «Подполье» и «По поводу мокрого снега». Достоевским к первой части дана разъяснительная сноска, где сказано: «И автор записок и самые “Записки”, разумеется, вымышлены. <…> В этом отрывке, озаглавленном “Подполье”, это лицо рекомендует самого себя, свой взгляд и как бы хочет выяснить те причины, по которым оно явилось и должно было явиться в нашей среде. В следующем отрывке придут уже настоящие “записки” этого лица о некоторых событиях его жизни». Итак, в первой части – философия подполья, во второй – реалии подпольной жизни. Главный тезис подпольной философии выражен, может быть, определённее всего в следующем пассаже героя: «Да я за то, чтоб меня не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку продам. Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить…» И это сказано-сформулировано Подпольным человеком уже во второй – «практической» – части, где он описывает, как, выбравшись из своего подполья в мир, он претерпел массу унижений от бывших сотоварищей по школе, после чего пригласил домой проститутку с улицы, приголубил, вызвал на доверчивую откровенность и тут же оскорбил её, унизил, выгнал, выместив все накопившиеся обиды на этом несчастном существе… Второй части «Записок» предпослан эпиграф из стихотворения Н. А. Некрасова «Когда из мрака заблужденья…»
В «Записках из подполья» с наибольшей силой проявился новаторский приём Достоевского: он полностью передал слово герою-повествователю и, не будучи во многом его единомышленником, наделил его рассуждения такой силой доказательности, что иные читатели, исследователи отождествляли Подпольного человека с автором. Даже А. П. Суслова – любимая женщина, близко знавшая Достоевского, после прочтения первой части повести называла её в письме к автору «скандальной», «цинической» вещью и советовала больше подобных не писать.
Эпатажность, «скандальность» повести связана, в первую очередь, с её полемической направленностью против идеологии революционных демократов, прежде всего – против теории «разумного эгоизма» Н. Г. Чернышевского, его романа «Что делать?» (1863). Свою точку зрения Достоевский сформулировал ещё в «Зимних заметках о летних впечатлениях»: «Конечно, есть великая приманка жить хоть не на братском, а чисто на разумном основании, то есть хорошо, когда тебя все гарантируют и требуют от тебя только работы и согласия. Но тут опять выходит загадка: кажется, уж совершенно гарантируют человека, обещаются кормить, поить его, работу ему доставить и за это требуют с него только самую капельку его личной свободы для общего блага, самую, самую капельку. Нет, не хочет жить человек и на этих расчетах, ему и капелька тяжела. Ему все кажется сдуру, что это острог и что самому по себе лучше, потому – полная воля…» В первой части «Записок из подполья» эта мысль развивается и доказывается. Рассуждения Подпольного человека близки в отдельных случаях философским идеям Канта, Шопенгауэра, Штирнера и, в свою очередь, оказали большое влияние на философскую концепцию крайнего индивидуализма Ницше и экзистенциалистов. Из письма автора к М. М. Достоевскому (от 26 марта 1864 г.) известно, что цензура исказила текст: «Свиньи цензора, там, где я глумился над всем и иногда богохульствовал для виду, – то пропущено, а где из всего этого я вывел потребность веры в Христа, – то запрещено…» Что имел в виду Достоевский, можно понять по записям-наброскам к так и ненаписанной статье «Социализм и христианство» в рабочей тетради 1864—1865 гг., сделанных вскоре после опубликования «Записок из подполья»: «…социалист не может себе и представить, как можно добровольно отдавать себя за всех, по его, это безнравственно. А вот за известное вознаграждение – вот это можно, вот это нравственно. А вся-то штука, вся-то бесконечность христианства над социализмом в том и заключается, что христианин (идеал), всё отдавая, ничего себе сам не требует…» Главное, что не принимал Достоевский в идеологии «социалистов-западников» – то, что они материальное благополучие человека ставили во главу угла. Недаром сразу после опубликования первой части «Записок» М. Е. Салтыков-Щедрин откликнулся на неё памфлетом-пародией «Стрижи». Наиболее полный разбор повести был дан уже после смерти писателя Н. К. Михайловским в статье «Жестокий талант» (1882).
«Записки из подполья» – переломное произведение в творчестве писателя. Это – подступ к самым значительным его романам, многие философские концепции, разрабатываемые в «великом пятикнижии», корнями уходят в эту повесть. Читая ее, необходимо помнить кредо Достоевского как писателя: «Точно как будто скрывая порок и мрачную сторону жизни, скроешь от читателя, что есть на свете порок и мрачная сторона жизни. Нет, автор не скроет этой мрачной стороны, систематически опуская ее перед читателем, а только заподозрит себя перед ним в неискренности, в неправдивости. Да и можно ли писать одними светлыми красками?.. О свете мы имеем понятие только потому, что есть тень…» (Из «Объяснений и показаний Ф. М. Достоевского по делу петрашевцев»). По Достоевскому, подпольность была присуща большинству «думающих» людей, и это отразилось не только в герое данной повести, но и многих других.
Записки лакея о своём барине
Неосущ. замысел, 1845. (XXVIII1)
Достоевский в письме М. М. Достоевскому от 8 октября 1845 г. упомянул, что для задуманного Н. А. Некрасовым альманаха «Зубоскал» он будет писать «Записки лакея о своём барине». Ни альманах, ни произведение на свет так и не появились.

Каллиграфия Достоевского.
Заседание общества
любителей духовного просвещения 28 марта. Корреспонденция. Гр, 1873, № 14, 2 апр., с подписью: Ф. Д. (XXI)
В 1872 г. в Петербурге открылся Отдел Общества любителей духовного просвещения с правом обсуждения на своих заседаниях церковных вопросов. Достоевский посещал эти собрания. В начале 1873 г. на трёх заседаниях обсуждался вопрос «о нуждах единоверия», о расколе, на которых разгорелась дискуссия между профессором Петербургской духовной академии И. Ф. Нильским и публицистом, членом редакции «Гражданина» Т. И. Филипповым. Отчёты об этих заседаниях печатались в Гр, о третьем, на котором очередь отвечать оппоненту была за Филипповым, написал Достоевский и безусловно поддержал точку зрения своего товарища по журналу: «Г-н Филиппов полагает, как читателям “Гражданина” уже известно, что соборным определением 13 мая 1667 г. употребление двоеперстия и некоторых других особенностей дониконовского обряда было воспрещено на будущее время безусловно, что тот, кто после этого определения решился бы удерживать эти особенности, явился бы, в силу одного этого, противником собора и что такое воспрещение дониконовского обряда продолжалось до 1763 г., то есть до царствования Екатерины II, при которой круто изменился взгляд правительства на старообрядцев. Г-н Нильский же думает, что клятвенное запрещение собора 1667 г. относится не к употреблению дониконовского обряда, а только к таким лицам, которые из-за этого обряда оставляли сами церковь, хулили её тайны и их совершителей, – и что если бы человек от церкви не удалялся и просил бы только о том, чтобы ему дозволено было содержать дониконовский обряд, то церковная власть против этого собственно вооружаться не стала бы и к исполнению такого желания не встретила бы с своей стороны препятствий. <…> мы, по ближайшим ознакомлениям с источниками, не колеблясь скажем, что в этом собственно вопросе г-ну Нильскому устоять против доводов его противника нет, по нашему убеждению, ни малейшей возможности. Не говоря уже про многочисленные свидетельства исторических документов, с совершенною ясностию подтверждающих взгляд г-на Филиппова на эту сторону дела, мы не можем пройти молчанием того, что в собственных статьях г-на Нильского, напечатанных в “Христианском чтении” за 1870 г., г-ном Филипповым отысканы и сообщены слушателям такие мнения, которые, если бы только скрыть имя автора, были бы непременно приписаны г-ну Филиппову или же его безусловному единомышленнику, но уж никак не г-ну Нильскому…»
Зимние заметки о летних впечатлениях
Вр, 1863, № 2, 3. (V)
Летом 1862 г. Достоевскому удалось осуществить давнюю свою мечту («рвался я туда чуть не с первого моего детства…») – увидеть своими глазами заграницу. Выехав из Петербурга 7 июня, он вернулся 24 августа, объехав за 2,5 месяца чуть не пол-Европы, побывал в Берлине, Дрездене, Висбадене, Кёльне, Париже, Лондоне, Дюссельдорфе, Майнце, Женеве, Люцерне, Турине, Флоренции, Генуе, Милане, Венеции, Вене, да в некоторых из них ещё и по два раза. Мысль написать о своих дорожных впечатлениях подал писателю брат и соредактор по журналу М. М. Достоевский. Однако ж во время самого путешествия времени у Достоевского не нашлось, и, создавая их уже в Петербурге и несколько месяцев спустя, автор названием подчеркнул эту характерную особенность. По жанру это получился синтез путевых заметок и художественного, «физиологического», очерка. Состоят «Зимние заметки» из восьми глав. Достоевский, несомненно, опирался на опыт предшественников, в первую очередь русских, создавших классические образцы путевых очерков (Н. М. Карамзин «Письма русского путешественника», Д. И. Фонвизин «Письма из-за границы», А. И. Герцен «Письма из Франции и Италии» и др.), но в русле своей журнальной политики наполнил «Заметки» злободневным содержанием, полемикой, публицистикой. Значительная часть его повествования, по словам самого Достоевского, посвящена выяснению того, «каким образом на нас в разное время отражалась Европа и постепенно ломилась к нам с своей цивилизацией в гости, и насколько мы цивилизовались…» В «Зимних заметках» проблемы взаимоотношения России и Запада прослеживаются с XVIII в., и здесь писатель во многом обобщал то, о чём писал уже в своих статьях начала 1860-х гг., в частности, в «Ряде статей о русской литературе». «Зимние заметки» насыщены резкой критикой в адрес европейской цивилизации и русских западников, и, в свою очередь, многие социально-критические идеи, рассматриваемые в этом произведении, получили в дальнейшем развитие на страницах поздних романов писателя. «Зимние заметки», в отличие от других публицистических произведений, опубликованных во «Времени», были включены автором в собрание своих сочинений 1865—1866 гг.
В личном плане эта первая поездка за границу имела чрезвычайно важное значение для Достоевского – 12 /24/ июня 1862 г. в Висбадене он впервые в жизни вошёл в игорный зал и на долгие десять лет заразился болезненной страстью к рулетке. Первые потрясающие ощущения от игры и психологию играющего человека он воссоздал впоследствии в романе «Игрок».
Знакомство моё с Белинским
Несохр. статья, 1867.
В период жизни за границей Достоевский в 1867 г., в Женеве, написал очерк под таким заглавием для литературного сборника «Чаша», затеваемый в Петербурге К. И. Бабиковым. Отправленный в сентябре 1867 г. А. Н. Майкову и переданный им книгоиздателю А. Ф. Базунову, очерк этот затерялся вместе с другими материалами несостоявшегося сборника. Содержание очерка «Знакомство моё с Белинским» позволяют представить в какой-то мере письма Достоевского 1867—1868 гг., сентябрьские записи в записной тетради 1872 г., статьи «Старые люди» (ДП 1873) и «…Старые воспоминания» (ДП, 1876, янв.), где речь идёт о В. Г. Белинском.
Зубоскал
Комический альманах в двух частях (в 8-ю д<олю> л<иста>), разделённых на 12 выпусков, от 3-х до 5-ти листов в каждом, и украшенных политипажами. Объявление. ОЗ, 1845, № 11, с подписью: Зубоскал. (XVIII)
Среди многочисленных литературных проектов молодого Н. А. Некрасова был и юмористический альманах «Зубоскал», первый номер которого должен был появиться в ноябре 1845 г. Данное объявление о выходе нового издания появилось в «Отечественных записках» с подписью «Зубоскал». Достоевский в письме брату М. М. Достоевскому (16 нояб. 1845 г.) сообщал: «Некрасов между тем затеял “Зубоскала” – прелестный юмористический альманах, к которому объявление написал я. Объявление наделало шуму; ибо это первое явление такой легкости и такого юмору в подобного рода вещах…». В более раннем письме к брату (8 окт. 1845 г.) Достоевский дал краткую, но ёмкую характеристику затеваемого издания, которую затем подробно развернул-расшифровал в тексте объявления: «Некрасов аферист от природы, иначе он не мог бы и существовать, он так с тем и родился – и посему в день же приезда своего, у меня вечером, подал проект летучему маленькому альманаху, который будет созидаться посильно всем литературным народом, но главными его редакторами будем я, Григоров<ич> и Некрасов. <…> Название его «Зубоскал»; дело в том, чтобы острить и смеяться над всем, не щадить никого, цепляться за театр, за журналы, за общество, за литературу, за происшествия на улицах, за выставку, за газетные известия, за иностранные известия, словом, за всё, всё это в одном духе и в одном направлении…» Для первого номера альманаха Достоевский собирался писать «Записки лакея о своём барине» (замысел остался неосуществлённым), написал «Роман в девяти письмах» и в соавторстве с Н. А. Некрасовым и Д. В. Григоровичем «фарс» «Как опасно предаваться честолюбивым снам». «Зубоскал» был запрещён цензурой и большинство материалов, предназначенных для него, были напечатаны позже в альманахе «Первое апреля».
Игрок
Роман. (Из записок молодого человека). Полн. собр. соч. в издании Ф. Т. Стелловского, 1866. Т. 3. (V)
Основные персонажи:
Blanche (mademoiselle Blanche; Бланш; m-lle Зельма);
Алексей Иванович;
Астлей (мистер Астлей);
Вурмергельм, барон;
Вурмергельм, баронесса;
Генерал;
Де-Грие;
Марья Филипповна;
Марфа;
Нильский (князь Нильский);
Полина Александровна;
Потапыч;
Тарасевичева Антонида Васильевна (бабушка).
В центре романа – семья русского генерала, волею случая обитающего в небольшом европейском городке Рулетенбурге (роман в рукописи так и назывался – «Рулетенбург»). Страсть к деньгам и любовные страсти-интриги правят бал в этом «случайном семействе». Сам генерал без памяти влюблён в mademoiselle Blanche, мадемуазель же не расстаётся с Де-Грие, «французика», в свою очередь, связывали с падчерицей генерала Полиной определённые отношения, в которые, к тому же, впутались какие-то деньги, к Полине совсем неравнодушен, казалось бы, хладнокровный англичанин мистер Астлей, но, главное, ни жить спокойно, ни спать из-за неё не может заглавный герой и автор «записок» Алексей Иванович – «молодой человек» с блестящим образованием и недюжинными задатками, вынужденный довольствоваться ролью домашнего учителя в генеральском доме. Интрига осложняется тем, что всё и вся в этом доме зависит от того, как скоро умрёт бабушка Антонида Васильевна Тарасевичева и оставит всем наследство, а «бабуленька» вдруг приезжает в Рулетенбург самолично и начинает проигрывать своё миллионное состояние на рулетке. В центре романа – судьба Алексея Ивановича, который по приказу Полины и для неё начинает играть, поначалу выигрывает и становится в конце концов неизлечимым Игроком, то есть, по определению мистера Астлея, «пропащим человеком»: в финале становится известно, что он скитается по «игорным» городам Европы, опускается до службы лакеем, попадает то и дело в долговую тюрьму…
Летом 1865 г. под влиянием тяжких долговых обязательств после смерти брата М. М. Достоевского и окончательного крушения журнала «Эпоха» Достоевский подписал с издателем Ф. Т. Стелловским кабальный договор на издание собрания своих сочинений, по которому обязался к 1-му ноября 1866 г. написать ещё один новый роман не менее 12 печатных листов и если не исполнит этот пункт договора, то издатель получал право издавать все его произведения – и прежние, и новые – в течение девяти лет «даром и как вздумается». Естественно, что писатель, как раз в этот период занятый работой над «Преступлением и наказанием», спохватился, когда до истечения срока договора осталось меньше месяца. С помощью юной стенографистки А. Г. Сниткиной (которая впоследствии стала его второй женой) Достоевский совершил творческий подвиг: за 26 дней написал роман объёмом в «Бедных людей» (над которыми в своё время работал почти год). Конечно, в успехе дела большую роль сыграло то, что замысел подобного произведения созрел у Достоевского уже давно, во время второго путешествия писателя за границу осенью 1863 г., и он подробно изложен в письме к Н. Н. Страхову из Рима (18 /30/ сент.): «Сюжет рассказа следующий: один тип заграничного русского. Заметьте: о заграничных русских был большой вопрос летом в журналах. Всё это отразится в моем рассказе. Да и вообще отразится вся современная минута (по возможности, разумеется) нашей внутренней жизни. Я беру натуру непосредственную, человека, однако же, многоразвитого, но во всем недоконченного, изверившегося и не смеющего не верить, восстающего на авторитеты и боящегося их. Он успокоивает себя тем, что ему нечего делать в России, и потому жестокая критика на людей, зовущих из России наших заграничных русских. <…> Главная же штука в том, что все его жизненные соки, силы, буйство, смелость пошли на рулетку. Он – игрок, и не простой игрок, так же как скупой рыцарь Пушкина не простой скупец. Это вовсе не сравнение меня с Пушкиным. Говорю лишь для ясности. Он поэт в своем роде, но дело в том, что он сам стыдится этой поэзии, ибо глубоко чувствует её низость, хотя потребность риска и облагораживает его в глазах самого себя. Весь рассказ – рассказ о том, как он третий год играет по игорным городам на рулетке.
Если «Мёртвый дом» обратил на себя внимание публики как изображение каторжных, которых никто не изображал наглядно до «Мёртвого дома», то этот рассказ обратит непременно на себя внимание как НАГЛЯДНОЕ и подробнейшее изображение рулеточной игры…»
«Игрок» – роман во многом автобиографический: перипетии любви-ненависти Алексея Ивановича и Полины очень напоминают сложные взаимоотношения самого Достоевского и А. П. Сусловой, а всепоглощающей страстью к рулетке, которой страдает Игрок, сам писатель болел долгих десять лет.
Идея <Чиновник, скучно…>
Неосущ. замысел, 1872. (XII)
Данный набросок плана (всего шесть строк) расположен в записной тетради среди материалов к «Бесам». Намеченная сюжетная ситуация («пощёчина», «убийство», «поджог», «уединённый остров») перекликается с мотивами, фигурировавшими в черновых материалах к «Преступлению и наказанию», в «Идиоте», «Бесах». Особенно важна в «Идее» строка, приписанная на полях: «Пустота души нынешнего самоубийцы», – предопределившая одну из главных тем будущего «Дневника писателя».
Идея. Юродивый (присяжный поверенный)
Неосущ. замысел, 1868. (IX)
Запись сделана среди черновых материалов в к «Идиоту» и по замыслу тесно связана с этим романом, а образ центрального героя Юродивого весьма близок образу Идиота. Сюжетные коллизии намечаемого романа (конфликт из-за одежды) в чём-то близки коллизиям «Шинели» Н. В. Гоголя. Мотивы дуэли без выстрела и рыцарского отношения героя к жене-изменнице были позже разработаны писателем в романе «Бесы».
Идиот
Роман в четырёх частях. РВ, 1868, № 1, 2, 4—12 и приложение к № 12. (VIII, IX)
Основные персонажи:
Алексей;
Барашкова Настасья Филипповна;
Бахмутов;
Белоконская (княгиня Белоконская);
Бурдовский Антип;
Дарья Алексеевна;
Докторенко Владимир;
Епанчин Иван Фёдорович;
Епанчина Аглая Ивановна;
Епанчина Аделаида Ивановна;
Епанчина Александра Ивановна;
Епанчина Елизавета (Лизавета) Прокофьевна;
Залёжев;
Иван Петрович;
Иволгин Ардалион Александрович;
Иволгин Гаврила Ардалионович (Ганя);
Иволгин Николай Ардалионович (Коля);
Иволгина (Птицына) Варвара Ардалионовна;
Иволгина Нина Александровна;
Келлер;
Князь Щ.;
Лебедев Лукьян Тимофеевич;
Лебедева Вера Лукьяновна;
Мари;
Медик;
Мышкин Лев Николаевич (князь Мышкин);
Павлищев Николай Андреевич;
Птицын Иван Петрович;
Радомский Евгений Павлович;
Рогожин Парфён Семёнович;
Рогожин Семён Парфёнович;
Рогожин Семён Семёнович;
Суриков Иван Фомич;
Терентьев Ипполит;
Терентьева Марфа Борисовна;
Тоцкий Афанасий Иванович;
Фердыщенко;
Чебаров;
Шнейдер.

Страница черновика романа «Идиот».
Князь Лев Николаевич Мышкин (ни внешностью, ни поведением не похожий на князя) после четырёх лет лечения в Швейцарии от нервной болезни (эпилепсии), так и не долечившись, возвращается в Россию в вагоне третьего класса. Ещё в поезде он знакомится с попутчиком, купцом Парфёном Рогожиным, который только что стал миллионером и которому суждено стать его названным братом и соперником в любви. Страсти же кипят вокруг главной инфернальной героини романа – роковой красавицы Настасьи Филипповны, жестоко обиженной судьбой и людьми ещё в ранней юности. Она, впрочем, стремится не столько к мести, сколько к тому, чтобы окончательно погубить себя. Странный князь поражает её, заставляет на время забыть о своих обидах, она уже и любовь в своё сердце впустить готова, но есть ещё Аглая Епанчина, не менее гордая, но «сердечная» красавица… Сердце и душа бедного князя разрываются между двумя, выбор сделать тяжело и даже невозможно. Финал трагичен: Настасья Филипповна убита, у тела её – убийца Парфён Рогожин, впавший в горячку, и князь Мышкин, впавший в безумие, ставший окончательно идиотом…
Роман этот был задуман Достоевским за границей и писался там – начат в сентябре 1867 г. в Женеве и закончен в январе 1869 г. во Флоренции. Работа шла мучительно, писатель, поджимаемый сроками (печатание романа в журнале шло практически параллельно с созданием), всё же не хотел из-за спешки портить «идею». В письме к А. Н. Майкову (31 дек. 1867 /12 янв. 1868/ г.) он приоткрыл дверцу в свою творческую лабораторию: «А со мной было вот что: работал и мучился. Вы знаете, что такое значит сочинять? Нет, слава Богу, Вы этого не знаете! Вы на заказ и на аршины, кажется, не писывали и не испытали адского мучения. Забрав столько денег в «Русском вестнике» (ужас! 4500 р.), я ведь с начала года вполне надеялся, что поэзия не оставит меня, что поэтическая мысль мелькнет и развернется художественно к концу-то года и что я успею удовлетворить всех. Это тем более казалось мне вероятнее, что и всегда в голове и в душе у меня мелькает и даёт себя чувствовать много зачатий художественных мыслей. Но ведь только мелькает, а нужно полное воплощение, которое всегда происходит нечаянно и вдруг, но рассчитывать нельзя, когда именно оно произойдёт; и затем уже, получив в сердце полный образ, можно приступить к художественному выполнению. Тут уже можно даже и рассчитывать без ошибки. Ну-с: всё лето и всю осень я компоновал разные мысли (бывали иные презатейливые), но некоторая опытность давала мне всегда предчувствовать или фальшь, или трудность, или маловыжитость иной идеи. Наконец я остановился на одной и начал работать, написал много, но 4-го декабря иностранного стиля бросил всё к черту. Уверяю Вас, что роман мог бы быть посредствен; но опротивел он мне до невероятности именно тем, что посредствен, а не положительно хорош. Мне этого не надо было. Ну что же мне было делать? ведь 4-ое декабря! <…> Затем (так как вся моя будущность тут сидела) я стал мучиться выдумыванием нового романа. Старый не хотел продолжать ни за что. Не мог. Я думал от 4-го до 18-го декабря нового стиля включительно. Средним числом, я думаю, выходило планов по шести (не менее) ежедневно. Голова моя обратилась в мельницу. Как я не помешался – не понимаю. Наконец 18-го декабря я сел писать новый роман, 5-го января (нового стиля) я отослал в редакцию 5 глав первой части…» Далее в этом же письме автор определяет кратко и главную тему своего романа: «изобразить положительно прекрасного человека».
«Идиот» значил для Достоевского, в судьбе Достоевского-писателя чрезвычайно много. Во-первых, он знал-чувствовал, что это было второе, после «Преступления и наказания», «капитальнейшее» произведение в его творчестве, и ситуацию по аналогии можно было сопоставить с дебютным, 1846-м, годом, когда после оглушительного успеха «Бедных людей» начинающий писатель мечтал-надеялся подтвердить, закрепить, упрочить и увеличить своё реноме литературного таланта «Двойником». Тогда, как известно, эти надежды-мечты потерпели крушение. Во-вторых, в «Идиоте» Достоевский поставил перед собою неимоверной величины и сложности творческую задачу – «изобразить положительно прекрасного человека». И, по существу, русский писатель как бы бросал перчатку всей мировой литературе. По крайней мере, в письме (1/13/ янв. 1868 г.) к любимой племяннице С. А. Ивановой, пользующейся его особой доверительностью, он это недвусмысленно сформулировал, утверждая, что все писатели «не только наши, но даже все европейские», пытавшиеся изобразить положительно прекрасного человека, всегда «пасовали». Наиболее близко подошёл к решению задачи, по мнению Достоевского, лишь Сервантес со своим Дон Кихотом да, в какой-то мере, – Диккенс (Пиквик) и Гюго (Жан Вальжан). И тут же Фёдор Михайлович как бы проговаривается племяннице о своих самых потаённых мечтах-притязаниях: «На свете есть одно только положительно прекрасное лицо – Христос, так что явление этого безмерно, бесконечно прекрасного лица уж конечно есть бесконечное чудо. (Всё Евангелие Иоанна в этом смысле; он всё чудо находит в одном воплощении, в одном появлении прекрасного.) Но я слишком далеко зашёл…» Здесь это «я слишком далеко зашёл» – о многом говорит и дорогого стоит: замахнуться в какой-то мере на творческое соревнование с евангелистами!.. И, в-третьих, наконец, своим новым романом, создаваемым за границей, Достоевский должен был доказать самому себе, своим читателям и всем литературным врагам, что и вдали от родины он не оторвался от «почвы», не отстал от текущей российской действительности, чувствует и понимает Россию.

Рисунки Достоевского из рукописи к роману «Идиот».
Название романа «Идиот» многозначно: в толковании В. И. Даля – «малоумный, несмысленный от рождения, тупой, убогий, юродивый»; в «Карманном словаре иностранных слов, входящих в состав русского языка, издаваемом Н. Кирилловым» (СПб., 1845) специально пояснялось, что современно толкование слова подразумевает человека «кроткого, не подверженного припадкам бешенства, которого у нас называют дурачком, или дурнем». Соответственно, остальные персонажи романа во многом характеризуют себя, относясь к Мышкину «по Далю» или «по Кириллову».
«Идиот» имел значительный читательский успех, но должного разбора и оценки в критике не получил. Достоевский, не раз называвший этот роман своим любимым, спустя несколько лет одновременно и с горечью, и с гордостью записал в рабочей тетради 1876 г.: «Меня всегда поддерживала не критика, а публика. Кто из критики знает конец «Идиота» – сцену такой силы, которая не повторялась в литературе. Ну, а публика знает…» И чуть позже в письме к А. Г. Ковнеру (14 фев. 1877 г.) написал: «…Вы выделяете как лучшее из всех «Идиота». Представьте, что это суждение я слышал уже раз 50, если не более. Книга же каждый год покупается и даже с каждым годом больше. Я про «Идиота» потому сказал теперь, что все говорившие мне о нём, как о лучшем моём произведении, имеют нечто особое в складе своего ума, очень всегда меня поражавшее и мне нравившееся…» Думается, и до сих пор этот замечательный роман Достоевского остаётся своеобразной «лакмусовой бумажкой», проверяющей «особенность склада ума» читателя…
Из дачных прогулок Кузьмы Пруткова и его друга
Фельетон. Гр, 1878, № 23—25, 10 окт., с подписью: Друг Кузьмы Пруткова. (XXI)
Фельетон написан в Старой Руссе в конце июля 1878 г. В фельетоне упоминается много злободневных реалий, имён популярных писателей, журналистов, политиков – Берлинский конгресс, «Отечественные записки», лорд Биконсфильд, Н. П. Вагнер, А. М. Бутлеров и т. д.
Иностранные события
Цикл статей. Гр, 1873, № № 38—46, 51, 52, 17, 24 сент., 1, 8, 15, 22, 29 окт., 5, 12 нояб., 17, 29 дек.; 1874, № 1, 7 янв., с подписью: Д. (XXI)
С середины сентября и до конца 1873 г. Достоевский, будучи редактором «Гражданина», писал еженедельные обзоры текущих международных событий под таким названием. Эта работа привлекла писателя возможностью относительно свободного обсуждения злободневных проблем европейской жизни. Особенно много внимания в «Иностранных событиях» уделялось Франции, пережившей полосу революционных потрясений, Италии, Испании и Германии. Конечно, при такой спешной работе, а также из-за чересчур пристрастного взгляда обозревателя встречались в этих политических обозрениях противоречия и спорные выводы, но зато содержалось в них и много проницательных комментариев, немало ярких, оригинальных характеристик политических событий и деятелей.
Исповедь
Неосущ. замысел, 1859—1863. (XXVIII1)
Большой роман под таким заглавием был задуман писателем в Сибири. В письме М. М. Достоевскому из Твери (9 окт. 1859 г.) он пишет: «Не помнишь ли, я тебе говорил про одну “Исповедь” – роман, который я хотел писать после всех, говоря, что ещё самому надо пережить. На днях я совершенно решил писать его немедля. <…> Я задумал его в каторге, лёжа на нарах, в тяжёлую минуту грусти и саморазложения. Он естественно разделится романа на 3 (разные эпохи жизни), каждый роман листов печатных 12. <…> Эффект будет сильнее «Бедных людей» (куда!) и «Неточки Незвановой». Я ручаюсь. <…> “Исповедь” окончательно утвердит моё имя…» Название этого романа было указано в объявлениях редакции журнала «Время» (1862, № 12; 1863, № 1). Однако ж замысел полностью так и не был осуществлён, в какой-то мере воплотился он в последующих «исповедальных» произведениях Достоевского, в первую очередь, – в «Записках из подполья».
<История Карла Ивановича>
Неосущ. замысел, 1876. (XVII)
Небольшой набросок без названия в записной тетради, позже в плане романа «Мечтатель» упоминается как «История Карла Иванов<ича>». Имя рассказчика совпадает с именем немца-учителя из «Детства» (1852) и «Отрочества» (1854) Л. Н. Толстого, которые Достоевский впервые прочёл в 1855 г. и позднее не раз перечитывал, работая над «Подростком» и «Дневником писателя». В отрывке-наброске имитирован или, скорее, спародирован стиль устного автобиографического рассказа этого толстовского героя – старого чудака-немца, коверкающего русский язык.
История о. Нила
Статья. Гр, 1873, № 24, 11 июня, без подписи. (XXI)
В газете «Русские ведомости» от 30 июня 1873 г. было опубликовано «Дело о девице Анне Васильевой Огурцовой, обвинявшейся в краже», перепечатанное затем другими изданиями. Суть заключалась в том, что монах Троице-Сергиевой лавры о. Нил имел любовную связь с двумя женщинами, одна другую из ревности обвинила в воровстве, дело получило огласку. Достоевский узнал об этой истории из заметки в газете «Русский мир», привёл-перепечатал её в «Гражданине» полностью и кратко прокомментировал по пунктам. Всего в комментарии девять пунктов, в которых ирония, сарказм, горечь писателя и редактора Гр направлены прежде всего против судебной системы, придавшей размах этому частному случаю, а также против монаха-фарисея.
Как опасно предаваться честолюбивым снам
Фарс совершенно неправдоподобный, в стихах, с примесью прозы. Соч. гг. Пружинина, Зубоскалова, Белопяткина и Ко. (Коллективное) «Первое апреля», 1846. (I)
Основные персонажи:
Пётр Иванович;
Фарафонтов Степан Федорыч;
Федосья Карповна.
Чиновнику Петру Ивановичу, почивающему в спальне с супругой Федосьей Карповной, снится сладкий сон, будто он богатый помещик, молод и красив, рядом молодайка, но вдруг сон становится безобразным – будто его перевели в простые писари. Внезапно проснувшись, он обнаруживает в спальне вора, устремляется за ним в погоню, по дороге встречает своего начальника, которого шокирует своим странным видом и поведением, а в итоге лишается своего места вовсе…
Рассказ написан совместно с Д. В. Григоровичем и Н. А. Некрасовым для задуманного альманаха «Зубоскал». Достоевскому предположительно принадлежат три главы (III, VI, VII) из восьми. После запрещения «Зубоскала» цензурой рассказ был опубликован в альманахе «Первое апреля». В. Г. Белинский, рекомендуя альманах читателям (ОЗ, 1846, № 4) отнёс этот рассказ к наиболее удачным из всех материалов.
Каламбуры в жизни и в литературе
Статья. Э, 1864, № 10, без подписи. (XX)
Статья эта очень важна для понимания позиции Достоевского-редактора, Достоевского-журналиста. Написана она в связи с публикацией в «Голосе» объявления об издании в 1865 г. «Отечественных записок» и направлена против хозяина этих изданий А. А. Краевского. Достоевского возмущало либерально-западническое направление «Голоса», делячество и приспособленчество издателя-толстосума, которого писатель хорошо знал с юности. Пафос статьи редактора «Эпохи» ярко обозначена в резкой фразе, которая, правда, осталась в записной книжке той поры: «А что такое “Голос”? Прихвостень». Но, несмотря на это, в дальнейшем «Голос» (как и «Московские ведомости») – главный поставщик информации для Достоевского.
<Картузов>
Неосущ. замысел, 1868—1869. (XI)
В записной тетради сохранились обширные наброски плана повести о капитане Картузове (почти на 30 страницах), из которого вырос образ Лебядкина в «Бесах» и который в переработанном виде составил одну из сюжетных линий – взаимоотношения капитана-пиита и Лизы Тушиной. Примечательно, что в «Бесах» среди случайных посетителей вечеров у Степана Трофимовича Верховенского наряду с «жидком» Лямшиным и каким-то «любознательным старичком» упомянут и некий «капитан Картузов».
Кашкадамов
Неосущ. замысел, 1864. (XXVII)
Составляя в записной тетради «План общего собрания сочинений» в 4-х т. в издании Ф. Т. Стелловского (1865—1870 гг.), Достоевский в том 4-й включил произведение под таким названием, которое так и не было написано. Возможно, из этого замысла позже, в 1869 г., вырос рассказ «Вечный муж», о котором автор писал Н. Н. Страхову (18 /30/ марта 1869 г.): «Этот рассказ я ещё думал написать четыре года назад, в год смерти брата…»
Книжность и грамотность
Статьи III и IV из цикла «Ряд статей о русской литературе». Вр, 1861, № 7, 8, без подписи. (XIX)
Эта фундаментальная статья-дилогия посвящена кардинальной проблеме – просвещению народа. В первой части Достоевский больше касается теории вопроса, повторяя-высказывая своё (и журнала «Время») мнение о своеобычном пути развития России, об исчерпанности реформ Петра I, о необходимости преодоления пропасти между народом и образованным обществом. Статья наполнена полемикой в первую очередь с «Русским вестником» и «Отечественными записками». Эти два издания затеяли между собою спор о народности, о значении А. С. Пушкина, что кажется Достоевскому комическим, ибо и С. С. Дудышкин (ОЗ) и М. Н. Катков (РВ) – оба по сути отрицали народность поэта. По мнению же Достоевского, «инстинкт общечеловечности», присущий русскому народу вообще, в верхнем слое общества проявился в приобщении к европейской цивилизации и культуре, а в Пушкине это стремление нашло наиболее полное и законченное выражение, что и есть высшее проявление его народности. И в подтверждение своих тезисов Достоевский даёт своё понимание «Бориса Годунова», «Капитанской дочки», «Повестей Белкина», но подробнее всего – «Евгения Онегина». Вторая статья трактата «Книжность и грамотность» посвящена изданиям для народа, в основном – проекту «Читальника» Н. Ф. Щербины («Опыт о книге для народа», ОЗ, 1861, № 2). Ранее в журнале «Время» о статье и проекте Щербины уже публиковалась заметка «Вместо фельетона» П. А. Кускова с рядом критических замечаний. Достоевский дал более обстоятельный разбор недостатков проекта. Причём, по его мнению, другие многочисленные проекты и книжки для народа совсем уж неудачны и даже внимания не стоят. Главное, что не приемлет писатель в подобного рода изданиях – или чрезмерную идеализацию, или сатирическое изображение народа, а также менторский тон. Именно стремление Щербины взять на себя роль учителя, обличителя и исправителя нравов особенно претит Достоевскому. Статья «Книжность и грамотность» во многом перекликается с «Записками из Мёртвого дома», занимает важное место в публицистике 1860-х гг., посвящённой проблеме просвещения народа, и в творчестве самого Достоевского. Основные положения статьи будут развиты им впоследствии в «Дневнике писателя» и очерке (речи) «Пушкин».
Крокодил
Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже, справедливая повесть о том, как один господин, известных лет и известной наружности, пассажным крокодилом был проглочен живьём, весь без остатка, и что из этого вышло. (Неоконч.) Э, 1865, № 2. (V)
Основные персонажи:
Елена Ивановна;
Иван Матвеевич;
Карльхен (крокодил);
Немец;
Прохор Саввич;
Стрижов Семён Семёнович;
Тимофей Семёнович.
Повесть не была окончена, состоит всего из 4-х глав. В журнальном варианте публикацию предваряло пространное «Предисловие редакции», в котором объяснялось, что данное сочинение доставлено в редакцию неизвестным автором, которому решено дать псевдоним Семён Стрижов, что сотрудник редакции Фёдор Достоевский любезно согласился поставить под сочинением своё имя и что редакция не отвечает, если всё рассказанное – ложь. Повести предпослан шуточный эпиграф – бессмысленное французское выражение: «Ohe, Lambert! Ou est Lambert? As-tu vu Lambert?» («Эй, Ламбер! Где Ламбер? Видел ты Ламбера?»). Суть же невероятной истории изложена в подзаголовке: почтенный чиновник Иван Матвеевич, который вместе с супругой Еленой Ивановной и другом дома Семёном Семёнычем пришёл в Пассаж посмотреть на крокодила, показываемого за деньги, был этим крокодилом проглочен, но, к удивлению всех и вся не погиб, а стал жить в чреве чудовища и даже решил, пользуясь свой растущей популярностью у публики, заняться из чрева крокодила «агитацией и пропагандой» идей, кои там его посещают, в то время, как друг семьи и жёнушка не очень-то огорчены его отсутствием…

Как ни подчёркивал автор невинность и шуточность произведения, но публикация уже первых глав вызвала бурю негодования в критике и прессе. Во-первых, повесть была переполнена сатирическими выпадами в адрес оппонентов Достоевского и журнала «Эпоха», а таковыми на тот период были журналы всех направлений – «Современник», «Русское слово», «Русский вестник», «Отечественные записки». Во-вторых и в главных, А. А. Краевский, язвительно высмеянный в «Крокодиле», в своей газете «Голос» обвинил автора в том, что это «Необыкновенное событие» – памфлет на Н. Г. Чернышевского, который в 1864 г. был осуждён и сослан в Сибирь: Иван Матвеевич, проповедующий из чрева крокодила, будто бы, – карикатура на автора «Что делать?», написавшего свой «пропагандистский» роман в Петропавловской крепости, а ветреная недалёкая супруга – злобный шарж на О. С. Чернышевскую. Для многих это показалось убедительным. Достоевский позже, в «Дневнике писателя» (1873, IV. «Нечто личное») с негодованием опроверг такие инвективы: дескать, неужели он, бывший каторжанин, способен был написать «пашквиль» на другого арестанта и ссыльного?! Автор «Крокодила» очень сожалел, что тогда же, по горячим следам, громогласно и печатно не протестовал против приписываемого ему злобного и безнравственного зубоскальства. Однако ж, он сразу оставил эту злосчастную повесть, не стал её продолжать-заканчивать. Сыграло в этом свою роль, разумеется, и закрытие «Эпохи» на этом же номере, но в черновых записях Достоевского сохранились довольно подробные намётки-планы продолжения «Необыкновенного события…», так что автору не составило бы труда произведение закончить. Он делать этого не стал. Впрочем, от самой повести в её опубликованном варианте Достоевский отнюдь не отрекался, не чувствуя за собой никакой вины, и со спокойной совестью включил её в собрание своих сочинений (1865), не предполагая даже, что вскоре в «Современнике» обругают его роман «Преступление и наказание» за «пашквильную аллегорию» на Чернышевского, и что ему вновь, уже печатно, придётся как бы оправдываться за «Пассаж в Пассаже» через несколько лет в ДП, когда поднимется оскорбительный шум вокруг «Бесов».
Кроткая
Фантастический рассказ. ДП, 1876, ноябрь. (XXIV)
Основные персонажи:
Ефимович;
Кроткая;
Лукерья;
Муж.
Рассказ занимает весь ноябрьский выпуск ДП за 1876 г., состоит из двух глав, десяти подглавок и предуведомления «От автора», в котором разъясняется форма: «Дело в том, что это не рассказ и не записки. Представьте себе мужа, у которого лежит на столе жена, самоубийца, несколько часов перед тем выбросившаяся из окошка. Он в смятении и ещё не успел собрать своих мыслей. <…> Вот он и говорит сам с собой, рассказывает дело, уясняет себе его…» Из сбивчивого, местами почти горячечного монолога вырисовываются постепенно все подробности трагедии. Он – бывший офицер, в силу обстоятельств ставший ростовщиком-процентщиком, сделал предложение бедной девушке-сироте, которая от безвыходности положения вышла за него замуж. Однако тайные надежды и виды спасителя-благодетеля на безмерную благодарность и горячую любовь со стороны кроткой жены никак не оправдывались. Больше того, она как бы совершенно отгородилась от него, закрылась, затаилась. А между тем сам-то офицер-ростовщик понимает, что теперь-то только он и начинает любить жену свою, и любовь-страсть эта разгорается всё сильнее. Но когда, казалось, он уже убедил её в своей любви, распахнул всю свою душу, и осталось Кроткой только лишь принять его любовь и ответить – она предпочла выброситься из окна с образом Божией Матери в руках…
Тема самоубийства – одна из самых «капитальных» в творчестве Достоевского вообще, а в возобновлённом ДП (1876) – особенно. Буквально с первой главы («Вместо предисловия о Большой и Малой Медведицах, о молитве великого Гёте и вообще о дурных привычках») писатель начал о самоубийствах, не раз возвращался к этой теме в следующих выпусках, а в октябрьском номере «Дневника» публикует сразу две «суицидальных» статьи «Приговор» и«Два самоубийства». В последней, в частности, говорилось: «Истребление себя есть вещь серьёзная, несмотря на какой бы там ни было шик, а эпидемическое истребление себя, возрастающее в интеллигентных классах, есть слишком серьёзная вещь, стоящая неустанного наблюдения и изучения…» Именно этим сам Достоевский и занимался – неустанным наблюдением и изучением. И всё время, неустанно как бы примеривал суицидальную ситуацию на себя. В рабочей тетради того периода появляются то и дело обрывочные, но какие глубинно-знаменательные записи-пометы вроде следующей: «Да, хорошо жить на свете, и жить и умирать». Или: «Господи, благодарю Тебя за лик человеческий, данный мне. (В противуположность самоубийцам)». И писателю, конечно, тесны были рамки документальной прозы, рамки публицистики, рамки дневникового жанра. В «Приговоре» он за них, за эти рамки, как бы уже вышел, применил художественный приём перевоплощения, надел личину своего героя, заговорил-высказался чужим голосом. Да так мастерски, что иные простодушные читатели приняли этот голос за голос самого автора. Оправдываться-объясняться он будет в декабрьском выпуске «Дневника» («О самоубийстве и о высокомерии»), а пока, разохотившись, на одном дыхании, создаёт и в ноябрьском выпуске публикует повесть «Кроткая». Опять чужой голос, опять исповедальный тон, опять речь о самоубийстве. Причём, если «Приговор» – это, по существу, развёрнутая в художественное повествование первая часть заметки «Два самоубийства» (о смерти дочери А. И. Герцена), которая в октябрьском выпуске непосредственно предшествовала «Приговору», то «фантастический рассказ» «Кроткая» родился из второй части, где речь шла о швее Марье Борисовой, выбросившейся из окна с образом Божией Матери в руках. Достоевский узнал об этом трагическом случае из сообщения в газете «Новое время» (1876, № 215, 3 окт.). Помимо этого, в сюжете повести использованы некоторые реалии судебного дела «о подлоге завещания капитана гвардии Седкова», которое широко освещалось в прессе и обвинителем в котором выступал А. Ф. Кони: петербургский ростовщик Седков, бывший офицер, выгнанный из полка, женился на 16-летней девушке, которая, спустя какое-то время, совершила попытку самоубийства…
Достоевский на предварительном этапе работы напряжённо искал тон, форму повествования. В предисловии «От автора», объясняя «фантастичность» своего произведения, он ссылается на «Последний день приговорённого к смертной казни» В. Гюго, где не только приведены мысли героя, но и даже допускается, что он до последней секунды жизни мог их записывать. И хотя сам автор стремился избежать чрезмерной психологии (Из подготовительных материалов: «NB. Главное: без психологии, одно описание…»), но именно благодаря форме внутреннего монолога героя-рассказчика в результате получился шедевр как раз психологического повествования. Именно так и оценили новое произведение Достоевского критики и читатели. Восторженно о «Кроткой» отзывались М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. К. Михайловский, К. Гамсун, А. Жид и многие другие писатели.
Литературная истерика
Статья. Вр, 1861, № 7, без подписи. (XIX)
В журнале братьев Достоевских «Время» (1861, № 4) был анонимно опубликованфельетон П. А. Кускова «Некоторые размышления по поводу некоторых вопросов», на который М. Н. Катков в своём «Русском вестнике» (1861, № 6) откликнулся статьёй «Одного поля ягоды», обвинив автора (намекая, что это – Достоевский) в любовании аморализмом и безнравственностью и распространяя своё заключение на позицию всего журнала. Достоевский, написав в защиту фельетона Кускова данную статью, дал резкую отповедь Каткову, считая, что «Одного поля ягоды» и особенно заключительные строки «писаны в болезни, именно в истерике», и что в «таких болезнях нужно уж обращаться к медицинским средствам; литературные не помогут»… «Литературная истерика» стоит в одном ряду с другими полемическими статьями-выступлениями Достоевского на страницах «Времени» против Каткова и его журнала – «“Свисток” и “Русский вестник”», «Ответ “Русскому вестнику”», «Образцы чистосердечия», «По поводу элегической заметки “Русского вестника”».
Маленькие картинки
(В дороге). Очерк. Сборник «Складчина», 1874. (XXI)
В 1873 г. случился голод в Самарской губернии. Русские литераторы всех направлений, забыв о ссорах и полемике, издали сборник в пользу пострадавших. Достоевский написал для него данный очерк с подзаголовком «В дороге» и первой же строке пояснил: «Я разумею дорогу паровую, чугунку и пароходы…» Содержание «Картинок» составили наблюдения и размышления писателя, который постоянно путешествовал по железной дороге (в Москву и за границу) и на пароходе (часть пути до Старой Руссы). По предложению И. А. Гончарова, редактора сборника, Достоевский исключил из очерка эпизод об «отрицательном типе» священника. Сборник «Складчина» вышел в конце марта 1874 г. и был, в основном, сочувственно встречен критикой. В частности, о произведении Достоевского характерен отзыв анонимного автора «Санкт-Петербургских ведомостей» (1874, № 90, 3 апр.): «Очерк г-на Достоевского “Маленькие картинки” может служить блистательным примером того, как крупный талант даже из самого избитого и обыкновенного сюжета способен сделать интересную и яркую вещь…»

Лист корректуры сборника «Складчина».
Маленький герой
(Из неизвестных мемуаров). Рассказ. ОЗ, 1857, № 8, с подписью: М—ий. (II)
Основные персонажи:
M-me M*;
M-r M*;
Блондинка;
Маленький герой;
Н—й;
Т—в;
Танкред.
«Без малого одиннадцатилетний» мальчик летом отдыхает у родственника в подмосковном имении, куда съехалось человек пятьдесят гостей. Прогулки, пикники, обеды, ужины. Попав в эту атмосферу праздника, где правит бал флирт, Маленький герой влюбляется первой пылкой любовью в великосветскую красавицу m-me M*, совершает ради неё подвиг (укрощает необъезженного жеребца), испытывает-переживает все муки ревности и разочарования первой любви…
В момент ареста за участие в кружке М. В. Петрашевского (апрель 1849 г.) Достоевский писал довольно мрачный по тону и колориту роман «Неточка Незванова», в центре которого – трагическая судьба ребёнка, девочки, её полная недетских страданий жизнь. В тёмном, душном и сыром каземате Петропавловской крепости писатель, в ожидании приговора, создал одно из самых своих светлых и лиричных произведений – «Детскую сказку», которая при первой публикации получила название «Маленький герой». Четверть века спустя (в 1874 г.) писатель в разговоре с Вс. С. Соловьёвым вспоминал, что в момент работы над рассказом ему «снились тихие, хорошие, добрые сны…» [Д. в восп., т. 2, с. 212] Рассказ и похож на сладкий сон, на театральный спектакль, где царят веселье, музыка, любовь, и всё это на фоне цветущего деревенского лета. «Равнодушный» к природе писатель (его не раз упрекали в этом критики) создаёт в мрачной тюремной камере произведение – настоящий гимн цветущей природе, под которым подписался бы и признанный «природовед» И. С. Тургенев.
После отправки Достоевского на каторгу рукопись «Детской сказки» осталась у брата, М. М. Достоевского. В письмах к нему (9 нояб. 1856 г., 9 марта 1857 г.) и А. Е. Врангелю (21 дек. 1856 г., 9 марта 1857 г.) из Сибири автор интересовался попытками напечатать рассказ, поторапливал их это сделать. Ему крайне важен был прецедент-доказательство, что ему вновь разрешено печататься. Однако ж, узнав о появлении рассказа в журнале, Достоевский высказал в письме к брату (1 марта 1858 г.) недовольство, ибо «давно думал её переделать…» К тому же потом он ещё и узнает об изменении А. А. Краевским в целях конспирации названия рассказа и подписи, из-за чего замысел литературной реабилитации писателя-петрашевца сводился на нет. При подготовке собрания сочинений 1860 г. Достоевский убрал несколько вступительных абзацев, где содержалось обращение повествователя к некоей Машеньке, сделал стилистическую правку.
Мальчик у Христа на ёлке
Рассказ. ДП, 1876, январь, гл. вторая, II. (XXII)
Рассказав в предыдущей, I-й, подглавке «Дневника» о «мальчике с ручкой», то есть – просящем милостыню, Достоевский пишет: «Но я романист, и, кажется, одну “историю” сам сочинил…» Это – грустная история о том, как совсем маленький, лет пяти-шести, и тоже нищий мальчик-сирота бродит по холодному огромному Петербургу в предрождественский вечер, заглядывает в окна, где стоят наряженные ёлки и играют весёлые дети. Попробовал он зайти в один такой дом, да его погнали, а затем какой-то «большой злой мальчик» побил его и картуз отобрал. Спрятался «маленький герой» (не путать со счастливым персонажем «Маленького героя»!) в каком-то дворе, за поленницей дров и стало ему так хорошо, уютно, сонливо. Вдруг кто-то позвал его за собой и привёл на чудесную рождественскую ёлку, все дети ему рады, с ним играют, и мама здесь – смеётся радостно. «– Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама!» – кричит ей мальчик и начинает расспрашивать добрых детей, что же это происходит. Ему разъясняют, что это «Христова ёлка» для тех «маленьких деточек», для которых там, на земле, нет своей ёлки… А наутро дворник нашёл за дровами тельце замёрзшего мальчика…
Одна из сквозных тем в январском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. – рождественские праздники. 26 декабря 1875 г. Достоевский с дочерью Любой (Л. Ф. Достоевской) побывал на рождественском детском празднике в С.-Петербургском клубе художников, на следующий день он вместе с А. Ф. Кони посетил колонию для малолетних преступников, и в эти дни он часто встречал-видел на улицах «мальчика с ручкой», просящего подаяния. Все эти впечатления и нашли воплощение на страницах ДП, в размышлениях о «теперешних русских детях» и их будущем. «Святочный рассказ» о том, как замёрший нищий мальчик попал на праздничную ёлку ко Христу – квинтэссенция этих размышлений, выраженная в художественной форме. Отталкиваясь от классических образцов жанра вроде «Девочки с серными спичками» Г. Х. Андерсена (1805—1875) и «Рождественских рассказов» Ч. Диккенса (1812—1870) и взяв за основу популярное стихотворение немецкого поэта Фридриха Рюккерта (1788—1866) «Ёлка сироты» (о котором есть упоминание в записной тетради с черновыми материалами к «Мальчику у Христа на ёлке»), Достоевский создал глубоко национально русское и оригинальное произведение. Рассказ этот, несомненно, связан незримыми нитями как с «Бедными людьми», «Ёлкой и свадьбой» и «Униженными и оскорблёнными», так и с будущими «Братьями Карамазовыми» (тема «слезинки ребёнка»). Критика положительно оценила рассказ «Мальчик у Христа на ёлке», сам Достоевский относил его к числу своих любимых и не раз читал его на публичных литературных чтениях. До конца XIX в. только отдельным изданием рассказ выходил в России более двадцати раз.
Мария Стюарт
Неосущ. замысел, 1842. – См. Борис Годунов.
<Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?..>
16 апреля 1864 г. Запись в записной книжке 1863—1864 гг. (XX)
Эта запись имеет большое значение для творчества и мировоззрения Достоевского, поэтому есть смысл поместить её среди произведений. Сделана она сразу после смерти первой жены писателя – М. Д. Достоевской. Ночью, находясь в комнате наедине с ещё не остывшим телом, Достоевский заносит в записную тетрадь свои размышления, которые сложились в своеобразный философский трактат о жизни и смерти, смерти и бессмертии, предназначении человека на земле. В этой записи и сконцентрированы-обозначены философские концепции Достоевского-писателя, Достоевского-мыслителя, которые он будет разрабатывать, углублять, исследовать во всех последующих своих великих романах. Стоит хотя бы тезисно вспомнить содержание этой записи:
Одна из главных заповедей Христа – возлюбить ближнего как самого себя – человеком на земле не исполняется в силу его, человека, несовершенства… Христос есть идеал человека во плоти и достичь этого идеала – цель человечества… Но если окончательная цель будет достигнута, то жизнь остановится-прекратится… Тогда получается, что «человек есть на земле существо только развивающееся, след<овательно>, не оконченное, а переходное»… «Следственно, есть будущая, райская жизнь»… И самый, может быть, главный вывод, который Достоевский помечает своим многознаменательным латинским «заметь хорошо»: «NB. Итак, всё зависит от того: принимается ли Христос за окончательный идеал на земле, то есть от веры христианской. Коли веришь во Христа, то веришь, что и жить будешь вовеки…»
Однако ж, будет ошибкой думать, что великий писатель был однозначно религиозным мистиком. Понятия «бессмертие», «вечная жизнь» имели для него и сугубо земное, так сказать, овеществлённое выражение: человек после физической смерти остаётся-продолжает жить в детях, в памяти людской. В этом плане особенно интересно рассуждение Достоевского, что «память великих развивателей человека живет между людьми <…>. Значит, часть этих натур входит и плотью и одушевленно в других людей…» То есть, стоит уточнить-конкретизировать для ясности: великие писатели-творцы уровня Достоевского, безусловные «развиватели человека», просто обречены на бессмертие. Но писателю-философу важно определить-осмыслить и космологический аспект бессмертия. Увы, вынужден он признать, конкретные его формы человеку представить не дано. Можно только догадываться. И знать-верить, что произойдёт «синтез», достижение Христова идеала, слияние с ним: «Всё себя тогда почувствует и познает навечно. Но как это будет, в какой форме, в какой природе, – человеку трудно и представить себе окончательно…» В конце этого философского эссе, вероятно, уже в свете занимающегося за окном апрельского утра, Достоевский формулирует окончательно и смысл земного существования человека: «Итак, человек стремится на земле к идеалу, противуположному его натуре. Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, то есть не приносил любовью в жертву своего я людям или другому существу (я и Маша), он чувствует страдание и назвал это состояние грехом. Итак, человек беспрерывно должен чувствовать страдание, которое уравновешивается райским наслаждением исполнения закона, то есть жертвой. Тут-то и равновесие земное. Иначе земля была бы бессмысленна…» Выходит, страдание – закон, неизбежность, данность земной жизни человека. Иллюстрациями к этому и послужат многие страницы последующих произведений писателя.
Мечтатель
Неосущ. замысел, 1876—1877. (XVII)
Мечтательство – сквозная тема в творчестве Достоевского. Уже в «Петербургской летописи» (1847) дана характеристика типа Мечтателя, затем она конкретизируется в образе героя-повествователя «Белых ночей», во многих персонажах последующих произведений. Фрагменты плана отдельного большого романа «Мечтатель» (всего их семь) разбросаны среди заметок к «Дневнику писателя» 1876 г. Писатель собирался публиковать «Мечтателя» в рамках «Дневника», однако замысел так и не был осуществлён. Судя по всему, в романе «Мечтатель» Достоевский собирался показать двойственную природу мечтательства, осознание трагедии мечтательства самим героем, который в финале должен был покончить жизнь самоубийством…
Молодое перо
См. Журнальные заметки.
Мужик Марей
Рассказ. ДП, 1876, февраль, гл. первая, III. (XXII)
Основные персонажи:
Газин;
Достоевский;
М—цкий;
Мужик Марей.
В каторжном остроге в праздничный день – обычная пьяная гульба, игра в карты, драки… Угнетённый происходящим Достоевский встречает во дворе поляка М—цкого (А. Мирецкого), который сказал ему по-французски, что ненавидит «этих разбойников». И вот бывший петрашевец вскоре, лёжа на нарах, вспоминает вдруг случай из детства, когда в деревне он играл один и вдруг померещилось ему, будто кто-то крикнул: «Волк бежит!» В ужасе бросился он бежать, выскочил на поляну прямо на пашущего мужика Марея, который его успокоил-защитил. На всю жизнь запомнились писателю самые, казалось бы, мелкие подробности: как протянул тот «тихонько свой толстый, с чёрным ногтем, запачканный в земле палец и тихонько дотронулся до вспрыгивающих моих губ», как улыбался «какою-то материнскою и длинною улыбкой»…
Этот мемуарный рассказ связан тематически с предыдущей, 2-й, подглавкой «Дневника писателя», где речь шла о сближении интеллигенции с «почвой», народом. «Мужик Марей» – свидетельство того огромного нравственного воздействия, какое в детстве оказал на будущего писателя простой крепостной крестьянин из имения его родителей, поразивший его величием духа и бескорыстностью любви. Рассказ этот вполне мог войти и в состав «Записок из Мёртвого дома».
Мысль на лету
Неосущ. замысел, 1870. (XII)
«В губернский город приезжает фельдмаршал с беременной любовницей» – с этой фразы начинается набросок, в котором упоминаются пощёчина, дуэль, убийства, описание казни в Париже преступника Ж.-Б. Тропмана (7 /19/ янв. 1870 г.) и прочие трагические страсти. Отдельные мотивы замысла вошли впоследствии в роман «Подросток».
На европейские события в 1854 году
Стихи, 1854. (II)
Это первое из трёх стихотворений одического жанра (кроме «На коронацию и заключение мира» и «На первое июля 1855 года»), написанных Достоевским в Семипалатинске, где после выхода из Омского острога он проходил солдатскую службу. Сочинялись они опальным писателем с одной целью – убедить правительственные круги в своей благонадёжности, добиться облегчения своей участи, получить разрешение печататься. Данная ода посвящена началу Крымской войны. Текст стихотворения по инстанции дошёл до III отделения, но разрешения на публикацию не получил, как и последующие два, и для облегчения участи бывшего петрашевца роли не сыграл.
<На коронацию и заключение мира>
Стихи, 1856. (II)
Одно из трёх (см. выше) одических стихотворений, написанных Достоевским в Сибири для облегчения своей участи. Посвящено оно заключению Парижского мира (18 /30/ марта 1856 г.) и коронации Александра II (26 августа 1856 г.). Благодаря хлопотам А. Е. Врангеля, текст этот дошёл до военного министра Н. О. Сухозанета, но к тому времени (июнь 1856 г.) уже прежние ходатайства частично достигли цели: царь разрешил унтер-офицера Достоевского «ввиду чистосердечного раскаяния» произвести в прапорщики, но приказал учредить за ним секретный надзор и только потом, убедившись в его благонадёжности, дозволить ему печатать свои литературные труды. Стихотворение это, как и предыдущих два, при жизни автора не публиковалось.

Ф. М. Достоевский. Фотография Н. Лейбина, 1858 г.
На первое июля 1855 года
Стихи, 1855. (II)
Вторая по времени создания стихотворная попытка (см. выше) писателя-петрашевца размягчить сердца царствующих особ высоким одическим стилем, дабы привлечь внимание к своей горькой участи. Написаны эти строки в июне 1855-го, посвящены дню рождения вдовствующей императрицы Александры Фёдоровны и, благодаря хлопотам А. Е. Врангеля, дошли до неё. Спустя несколько месяцев, в ноябре, рядовой Достоевский был произведён в унтер-офицеры. Стихотворение это, как и другие два, опубликовано не было. И – слава Богу: уж на что М. М. Достоевский, старший брат, ценил и уважал литературный талант Достоевского, с восторгом принимая всё, что ни выходило из-под пера его, и тот, оценивая оду «На коронацию и заключение мира», написал ему напрямик, без дипломатии: «Читал твои стихи и нашёл их очень плохими. Стихи не твоя специальность…» [Летопись. т. 1, с. 220] Больше того, слух об этих верноподданнических виршах Достоевского распространился в литературных кругах Петербурга и лёг пятном на репутацию бывшего петрашевца. Сам писатель впоследствии никогда не вспоминал об этих вынужденных поэтических опытах и сам бы, пожалуй, удивился, если б кто ему сказал-напомнил, что он способен был сочинять строки вроде следующих:
«Знакома Русь со всякою бедой!
Случалось ей, что не бывало с вами.
Давил её татарин под пятой,
А очутился он же под ногами…»
Наши монастыри
(Журнал «беседа» 1872 г.). Статья-рецензия. Гр, № 4, 22 янв., без подписи. (XXI)
В этой рецензии Достоевский высказал своё мнение по поводу серии статей «Наши монастыри их богатства и получаемые ими пособия», публиковавшихся в журнале либерально-славянофильского толка «Беседа» (издатель-редактор С. А. Юрьев) с 3-го по 11-й номер за 1872 г. В них проводилась мысль, что монастыри и монахи живут чересчур богато, а это-де никак не вяжется с идеалами монашества. Достоевский категорически не согласился с обобщениями анонимного автора «Беседы» и напомнил простую истину, что «половина правды не только есть ложь, но даже и хуже лжи».
Необходимое заявление
Статья. Э, 1864, № 7. (XX)
Эта статья – очередное звено в ожесточённой полемике между «Эпохой» и «Современником», ответ на памфлеты М. А. Антоновича «Торжество ерундистов» и «Стрижам» (С, 1864, № 7), которые, в свою очередь, появились как ответ на статью Достоевского «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах». На этот раз Достоевский сделал «Необходимое заявление», что отказывается вести полемику на таком уничижительном ругательном вплоть до оскорблений личного характера уровне. Антонович разразился в сентябрьском номере «Современника» сразу пятью статьями против Э, объединённых заглавием «Литературные мелочи». После этого Достоевский окончательно отказался иметь дело с данным господином («Чтобы кончить») и далее полемика между «Современником» и «Эпохой», вплоть до прекращения последней, велась между М. А. Антоновичем и Н. Н. Страховым.
Необходимое литературное объяснение
по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов. Статья. Вр, 1863, № 1, без подписи. (XX)
В ряде журналов появились полемические отклики на «Объявление о подписке на журнал “Время” на 1863 год», содержащее почвенническую программу журнала и скрытые резкие нападки на «Современник». В данном «Объяснении» Достоевский развил положения программного «Объявления», обращаясь к редакциям журналов «Современник», «Отечественные записки», «Русский вестник»и др. Название статьи связано с выражениями «свистуны из хлеба» и «свист из хлеба» из статьи А. Ленивцева (псевдоним А. В. Эвальда) «Недосказанные заметки» (ОЗ, 1862, № 10).
<Не разбойничай, Федул…>
Шуточные стихи, 1879. (XVII)
Неоконченное шуточное стихотворение (9 строк), обращённое к сыну (Ф. Ф. Достоевскому), дочери (Л. Ф. Достоевской) и жене (А. Г. Достоевской), набросанное среди записей к роману «Братья Карамазовы».
Несколько слов о Михаиле Михайловиче Достоевском
Некролог. Э, 1864, № 6. (XX)
Старший брат писателя М. М. Достоевский умер 10 июля 1864 г. В некрологе сказано о нём в основном как редакторе и писателе. Достоевский признаётся в конце, что о личном характере брата мог бы сказать много хорошего, но боится показаться пристрастным, так как «был слишком близок к покойному». Действительно, Михаил Михайлович был не просто братом, но и самым близким другом Достоевского с детских лет. Кроме данного некролога характеристике М. М. Достоевского посвящены также «Примечание к статье Н. Страхова “Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве» и реплика «За умершего» из апрельского выпуска «Дневника писателя» за 1876 г.
Неточка Незванова
Роман (неоконч.). ОЗ, 1849, № 1, 2, 5. (II)
Основные персонажи:
Александра Михайловна;
Б.;
Ефимов Егор Петрович;
Катя;
Княгиня Х—я;
Княжна-старушка;
Князь Х—ий;
Ларенька;
Мадам Леотар;
Матушка;
Мейер Карл Фёдорович;
Незванова Анна (Неточка);
Овров;
Пётр Александрович;
С—ц;
Саша;
Фальстаф;
Повествование ведётся от лица заглавной героини (в журнальной редакции стоял подзаголовок – «История одной женщины»). В опубликованной части – рассказ о детстве и отрочестве Неточки. Когда ей было два года, отец умер, мать вторично вышла замуж за музыканта Ефимова. Отчим, талантливый, но спившийся человек, доводит до гибели мать Неточки и погибает сам. Девочка-сирота по счастливой случайности попадает в дом князя Х—го, где обретает любовь, ласку, внимание почти всех домочадцев князя и дружбу его младшей дочери Кати. Однако ж Неточка, с её не по детски развитой душой, замечает, что старшая сестра Кати и падчерица князя, Александра Михайловна, крайне несчастна в своей семейной жизни и вдруг невольно проникает в её сердечную тайну…
Достоевский начал писать этот роман ещё в декабре 1846 г., сопоставляя новый замысел с «Двойником» («Это будет исповедь, как Голядкин, хотя в другом тоне и роде…» – из письма М. М. Достоевскому, янв.-фев. 1847 г.), но работа над романом затянулась. Из задуманных шести частей было написано три, каждая имела свой вполне законченный сюжет и заглавие – «Детство», «Новая жизнь», «Тайна». Работа над романом была оборвана 23 апреля 1849 г., когда Достоевский был арестован как участник кружка М. В. Петрашевского. Третья часть романа (гл. VI—VII) появилась в майском номере журнала без подписи, когда автор уже находился в Петропавловской крепости. В опубликованном фрагменте романа особенно важна тема, связанная с образом и судьбой Ефимова, и хотя речь идёт о музыканте, здесь много автобиографического, личных переживаний и раздумий писателя о своём творческом пути. Что касается «детской» и «женской» тематики, то в этом отношении «Неточка Незванова» тесно связана с произведениями западных и русских писателей – романами Жорж Санд, «Матильда, или Записки молодой женщины» (1841) Э. Сю (этот роман Достоевский собирался перевести ещё в 1844 г.), «Евгения Гранде» (переведён Достоевским в 1845 г.) О. де Бальзака, «Лавка древностей» (1841) и «Домби и сын» (1848) Ч. Диккенса, «Кто виноват?» (1847) и «Сорока-воровка» (опубл. – 1848) А. И. Герцена, «Полинька Сакс» (1847) А. В. Дружинина и др.
Судя по последним абзацам опубликованного в ОЗ текста, героиня в дальнейшем должна была покинуть дом князя Х—го, начать самостоятельную жизнь, стать певицей… Однако ж после каторги Достоевский, увлечённый новыми замыслами, отказался от мысли закончить роман и переработал опубликованный фрагмент в повесть о детстве Неточки: убрал ряд эпизодов и действующих лиц, снял деление на части и сделал сквозную нумерацию глав.
Новые повести
Неосущ. замысел, 1872. (XII)
Короткие планы-сюжеты двух повестей. Героем первой должен был стать «чиновник или кто-нибудь» – бесталанный неудачник, помышляющий о самоубийстве, и замысел этот перекликается с задуманным несколько месяцев спустя замыслом «Идея». Сюжет второй повести (дети убегают от отчима и скитаются по Петербургу), в свою очередь, тесно связан с замыслом ненаписанного романа под условным названием «Отцы и дети».
Об игре Васильева в «Грех да беда на кого не живёт»
Театральная рецензия (неоконч.). «Северный вестник», 1891, № 11. (XX)
Эта неоконченная заметка написана в феврале-марте 1863 г. и посвящена разбору игры известного трагического актёра П. В. Васильева 2-го в премьерном спектакле Александринского театра по пьесе А. Н. Островского «Грех да беда на кого не живёт», которая была опубликована в журнале «Время» (1863, № 1). Достоевский не завершил свой единственный опыт театральной рецензии, вероятно, по двум причинам: в февральском номере «Времени» уже появились статья А. А. Григорьева «Русский театр. Современное состояние драматургии и сцены» и письмо в редакцию Н. Косицы (Н. Н. Страхова), где о пьесе Островского и об исполнении роли Краснова Васильевым уже шла речь, а вскоре и журнал братьев Достоевских был закрыт.
Образцы чистосердечия
Статья. Вр, 1861, № 3, без подписи. (XIX)
Эта статья тесно связана с «Ответом “Русскому вестнику”», который появится в майском номере «Времени», и посвящена женскому вопросу и творчеству А. С. Пушкина. Весной 1861 г. на одном из благотворительных вечеров в Перми супруга председателя местной Казённой палаты Е. Э. Толмачёва выступила с публичным чтением «Египетских ночей»Пушкина, о чём в восторженных тонах сообщала газета «Санкт-Петербургские ведомости» (1861, № 36, 14 фев.). В еженедельнике «Век» её редактор П. И. Вейнберг напечатал под псевдонимом Камень-Виногоров фельетон, в котором едко высмеял восторги корреспондента СпбВед и саму Толмачёву, представив её новоявленной разнузданной Клеопатрой. Выходка «Века» вызвала волну возмущения в демократических кругах. И в этом Достоевский с ними был солидарен: он даёт суровую отповедь автору «Века», посмевшему и оскорбить женщину, и совершенно извратить Пушкина.
<Объявление о подписке на журнал «Время» на 1861 год>
«Сын отечества», «Северная пчела», «Санкт-Петербургские ведомости», «Русский инвалид», «Искра», «Journal de St.-Pétersbourg», «Афиши», 1860, сент., с подписью: М. Достоевский. (XVIII)
Это программное объявление об издании нового «почвеннического» журнала было подписано официальным издателем-редактором «Времени», М. М. Достоевским, но текст его «несомненно» принадлежит перу Ф. М. Достоевского, на что указал Н. Н. Страхов. «Объявление» состоит из двух частей. В первой разъяснена позиция журнала по злободневным проблемам и выдвигается главная задача «почвеннического» направления – «создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал», и не только соединение, примирение сторонников-последователей реформ Петра I с народным началом, но и примирение в универсальном, всемирном, смысле: «Мы предугадываем, и предугадываем с благоговением, что характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях; что, может быть, всё враждебное в этих идеях найдет своё примирение и дальнейшее развитие в русской народности. Недаром же мы говорили на всех языках, понимали все цивилизации, сочувствовали интересам каждого европейского народа, понимали смысл и разумность явлений, совершенно нам чуждых…» Мысль эта получит развитие во всём дальнейшем творчестве писателя вплоть до Пушкинской речи. Во второй части «Объявления» приведена литературная программа журнала и здесь сразу же было заявлено: «Мы решились основать журнал, вполне независимый от литературных авторитетов, – несмотря на наше уважение к ним – с полным и самым смелым обличением всех литературных странностей нашего времени…» С первых же своих номеров журнал братьев Достоевских подтвердил эту свою заявку-предупреждение – полемика с журналами практически всех направлений заняла центральное место на его страницах. И если «Современник» поначалу откликнулся на «Объявление» и первый номер «Времени» доброжелательно, «Русский вестник» сдержано, то, к примеру, «Отечественные записки» сразу ответили резкой статьёй С. С. Дудышкина «Русская литература и мнения “Времени”» (ОЗ, 1861, № 2). Основные программные положения «Объявления» были вскоре повторены и развиты Достоевским в «Ряде статей о русской литературе».
<Объявление о подписке на журнал «Время» на 1862 год>
Вр, 1861, № 9, с подписью: Редактор М. Достоевский. (XIX)
Во втором «Объявлении» Достоевский, фактический редактор и ведущий сотрудник «Времени», только вкратце повторяет программные заявления, сделанные в «Объявлении о подписке на журнал “Время” на 1861 год». И на этот раз текст получился явно полемичным, но теперь журнал братьев Достоевских намеревался вести литературную борьбу, главным образом, с изданиями «западнического» толка – «Современником», «Русским вестником», «Русским словом». Журнал Н. А. Некрасова на выпады и предупреждения, содержащиеся в «Объявлении» «Времени», ответил резкой статьёй М. А. Антоновича «О почве» (С, 1861, № 12). К моменту публикации «Объявления о подписке на журнал “Время” на 1863 год» полемика с «Современником» достигнет своего апогея.
<Объявление о подписке на журнал «Время» на 1863 год>
Вр, 1862, № 9, с подписью: Редактор-издатель М. Достоевский. (XX)
Перед началом третьего года издания «Время» имело большой читательский успех (тираж более 4300 экз.) и новое «Объявление о подписке» популярного журнала вызвало широкий интерес в публике и у конкурентов. Программную статью «почвеннического» издания широко обсуждали как в стане, по терминологии Достоевского, «теоретиков» («Современник», «Русское слово», «День»), так и «доктринёров» («Русский вестник», «Отечественные записки»). Причём С и РСл сразу не могли ответить журналу братьев Достоевских из-за приостановки на 8 месяцев, но с января 1863 г. первым же делом возобновили полемику со Вр, уделив много внимания именно «Объявлению». Особенно серьёзная полемика вокруг него вспыхнула снова уже после публикации заметки Достоевского «Необходимое литературное объяснение по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов» (Вр, 1863, № 1)
<Объявление об издании журнала «Эпоха» после кончины М. М. Достоевского>
Э, 1864, № 6, без подписи. (XX)
В этом кратком «Объявлении» подписчики журнала уведомляются, что издание будет продолжено, ответственным редактором после смерти М. М. Достоевского назначен А. У. Порецкий, опаздывающие номера будут выпущены и направление журнала останется прежним.
<Объяснения и показания Ф. М. Достоевского по делу петрашевцев>
1849. (XVIII)
С весны 1846 г. Достоевский начал посещать «пятницы» М. В. Буташевича-Петрашевского, на которых обсуждались «новые идеи», вопросы переустройства мира, кипели бурные политические дискуссии. Со временем писатель стал участником ещё более законспирированных и более радикальных кружков-фракций внутри петрашевцев – С. Ф. Дурова и Н. А. Спешнева. 23 апреля 1849 г. по доносу осведомителя П. Д. Антонелли Достоевский вместе с другими петрашевцами был арестован и провёл под следствием в Алексеевском равелине Петропавловской крепости восемь месяцев. Приговором Военно-ссудной комиссии он был приговорён к смертной казни «расстрелянием». Впоследствии генерал-аудиториат, а затем и Николай I смягчили приговор Военно-ссудной комиссии. Но 22 декабря 1849 г. на Семёновском плацу Достоевский прошёл-испытал весь обряд приготовления к казни (он будет не раз вспоминать об этих страшных минутах – в «Идиоте», «Дневнике писателя», частных разговорах), в последний момент услышал указ о помиловании и окончательный приговор: 4 года каторги и затем – служба рядовым. Каторгу писатель отбывал в Омском остроге, военную службу – в Семипалатинске. Опубликованные в ПСС материалы следствия включают в себя собственноручно написанное Достоевским «Объяснение», протоколы допросов, мемуарную запись писателя с подробностями ареста в альбом О. А. Милюковой и фрагменты-выписки из официальных документов следственной комиссии. Как видно из материалов, Достоевский на следствии держался очень осторожно и достойно, стремясь не повредить товарищам по несчастью, пытался всячески принизить значение собраний Петрашевского, представить их обычными вечерами разговоров на отвлечённые, сугубо теоретические темы. Вместе с тем, отвергая все и всяческие обвинения себя и сотоварищей в посягательстве на устои самодержавной России, в тайных революционных намерениях, писатель не скрывал на допросах суть своих воззрений по самым острым вопросам, например, об учении Ш. Фурье, которым были увлечены петрашевцы: «Фурьеризм – система мирная; она очаровывает душу своею изящностью <…> в системе этой нет ненавистей. Реформы политической фурьеризм не полагает; его реформа – экономическая <…> как ни изящна она, она всё же утопия, самая несбыточная. <…> Фурьеризм вреда нанести не может серьёзного…» Одним словом, ничего нет опасного и преступного в обсуждении фурьеризма… Интересно, что перед господами из Комиссии Достоевский отстаивал даже и право писателя на свободу, обличая непомерный гнёт цензуры: «Уже не могут существовать при строгости нынешней цензуры такие писатели, как Грибоедов, Фонвизин и даже Пушкин. <…> Ценсор во всём видит намёк, заподозревает, нет ли тут какой личности, нет ли желчи, не намекает ли писатель на чьё-либо лицо и на какой-нибудь порядок вещей. В самой невиннейшей, чистейшей фразе подозревается преступнейшая мысль <…> Точно как будто скрывая порок и мрачную сторону жизни, скроешь от читателя, что есть на свете порок и мрачная сторона жизни. Нет, автор не скроет этой мрачной стороны, систематически опуская её перед читателем, а только заподозрит себя перед ним в неискренности, в неправдивости. <…> О свете мы имеем понятие только потому, что есть тень…»

Алексеевский равелин Петропавловской крепости.
Через много лет, уже будучи известным писателем, автором «Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов», Достоевский в главе ДП за 1873 г. «Одна из современных фальшей», отвергая наветы, что он (как раз в «Бесах») предал будто бы идеалы юности, с глубоким убеждением и вполне понятной гордостью вспоминал-писал: «“Монстров” и “мошенников” между нами, петрашевцами, не было ни одного (из стоявших ли на эшафоте, или из тех, которые остались нетронутыми, – это всё равно). Не думаю, чтобы кто-нибудь стал опровергать это заявление моё. Что были из нас люди образованные – против этого, как я уже заметил, тоже, вероятно, не будут спорить. Но бороться с известным циклом идей и понятий, тогда сильно укоренившихся в юном обществе, из нас, без сомнения, еще мало кто мог. Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма. <…> Мы, петрашевцы, стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния. Без сомнения, я не могу свидетельствовать обо всех; но думаю, что не ошибусь, сказав, что тогда, в ту минуту, если не всякий, то, по крайней мере, чрезвычайное большинство из нас почло бы за бесчестье отречься от своих убеждений. Это дело давнопрошедшее, а потому, может быть, и возможен будет вопрос: неужели это упорство и нераскаяние было только делом дурной натуры, делом недоразвитков и буянов? Нет, мы не были буянами, даже, может быть, не были дурными молодыми людьми. Приговор смертной казни расстреляньем, прочтённый нам всем предварительно, прочтён был вовсе не в шутку; почти все приговоренные были уверены, что он будет исполнен, и вынесли, по крайней мере, десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти. В эти последние минуты некоторые из нас (я знаю положительно), инстинктивно углубляясь в себя и проверяя мгновенно всю свою, столь юную ещё жизнь, может быть, и раскаивались в иных тяжёлых делах своих (из тех, которые у каждого человека всю жизнь лежат в тайне на совести); но то дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое многое нам простится! И так продолжалось долго. Не годы ссылки, не страдания сломили нас. Напротив, ничто не сломило нас, и наши убеждения лишь поддерживали наш дух сознанием исполненного долга. Нет, нечто другое изменило взгляд наш, наши убеждения и сердца наши <…>. Это нечто другое было непосредственное соприкосновение с народом, братское соединение с ним в общем несчастии, понятие, что сам стал таким же, как он, с ним сравнён и даже приравнен к самой низшей ступени его…»

Обряд казни на Семёновском плацу. Художник Б. Покровский.
Одна мысль (поэма)
Тема под названием «император». (IX) Неосущ. замысел, 1867. (IX)
Набросок «поэмы» сделан среди подготовительных записей к «Идиоту». В основе сюжета – жизнь героя, который почти до 20 лет воспитывается в темнице и, впервые столкнувшись с людьми, познав человеческие страсти, умирает… Основным источником исторических сведений для сюжета поэмы «Император», вероятнее всего, послужила статья М. И. Семевского «Иоанн VI Антонович. 1740—1764 гг. Очерк из русской истории» (ОЗ, 1866, № 4). Видимо, не случайно Достоевский, неудовлетворённый образом гордого и страстного героя «Идиота», каким он складывался в первых редакциях романа, набросал среди черновых вариантов замысел сюжета о кротком герое-царе – как бы историческом прообразе князя Мышкина.
<Описывать всё сплошь одних попов…>
Эпиграмма, 1874. (XVII)
Эта эпиграмма-четверостишье на Н. С. Лескова написана в период полемических отношений между писателями (см. «Смятенный вид» и «Ряженый»). В ней обыгрывается («Теперь ты пишешь в захудалом роде…») заглавие лесковского романа «Захудалый род. Хроника князей Протозановых…» (1874).
Опять «Молодое перо»
Ответ на статью «Современника» «Тревоги “Времени”» («Современник», март, № 3). Статья. Вр, 1863, № 3, без подписи. (XX)
Данное остро полемичное по тону выступление «Времени» является очередным ответом на очередной выпад «Современника» и стоит в одном ряду с другими статьями Достоевского, направленными конкретно против М. Е. Салтыкова-Щедрина – «Молодое перо», «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах», «Необходимое заявление…», «Чтобы кончить». На этот раз Достоевского особенно задело то, что Щедрин успех «Времени» объяснил восьмимесячной приостановкой «Современника» в 1862 г. В ответ на попытки полной дискредитации своего журнала фактический редактор «Времени» использовал весь свой талант памфлетиста, дабы, в свою очередь, дискредитировать и «Современник», и Салтыкова-Щедрина как сатирика, причисляя его к «свистунам, свистящим из хлеба». Но главное, чего добивался Достоевский, – ещё раз убедительно заявить самостоятельность и прогрессивность «Времени», отличающегося как от реакционных и либеральных, так и от революционно-демократических изданий.
Ответ редакции «Времени» на нападение «Московских ведомостей»
Собр. соч. 1883 г., т. I (в тексте воспоминаний Н. Н. Страхова, засвидетельствовавшего здесь же авторство Достоевского), с подписью: Редакция «Времени». (XX)
В апрельской книжке «Времени» за 1863 г. была помещена (за подписью: Русский) статья Н. Н. Страхова «Роковой вопрос» по поводу польского восстания. В газете М. Н. Каткова «Московские ведомости» (1863, № 109, 22 мая) тут же появился донос «По поводу статьи “Роковой вопрос” в журнале “Время”», подписанный сотрудником катковских изданий К. А. Петерсоном, в котором издатели Вр обвинялись в том, что, опубликовав эту «антипатриотическую» статью анонимно, в качестве редакционной, они как бы солидаризировались с её автором и уподобились «бандитам», которые «наносят удары с маской на лице»… Достоевский сразу понял угрозу, нависшую над журналом, и срочно написал «Ответ», который для оперативности направил в газету «Санкт-Петербургские ведомости». Статья в газете была набрана, но цензор, уже знавший о неблагоприятной реакции на «Роковой вопрос» в правительственных кругах, не пропустил её, а 24 мая 1863 г. по «высочайшему повелению» журнал «Время» был закрыт. В «Ответе» Достоевский пытался объяснить, что Петерсон понял «Роковой вопрос» совершенно превратно, что она как раз насквозь патриотична и обвинил автора «Московских ведомостей» и само издание в доносительстве. О «Роковом вопросе» Достоевский позже, в письме И. С. Тургеневу (17 июня 1863 г.), напишет: «Мысль статьи <…> была такая: что поляки до того презирают нас как варваров, до того горды перед нами своей европейской цивилизацией, что нравственно (то есть самого прочного) примирения их с нами на долгое время почти не предвидится…»
Ответ «Русскому вестнику»
Статья. Вр, 1861, № 5, без подписи. (XIX)
Это – вторая статья (после «Образцов чистосердечия»), в которой Достоевский продолжил дискуссию (теперь уже напрямую с «Русским вестником») о женском вопросе и «Египетских ночах» А. С. Пушкина, поводом для которой послужил фельетон П. И. Вейнберга (под псевдонимом Камень-Виногоров) в редактируемом им еженедельнике «Век» (1861, № 8, 22 фев.)
Большое место здесь занимает художественный анализ «Египетских ночей», Достоевский ещё раз, как бы продолжая развивать тезисы ещё одной своей статьи – «“Свисток” и “Русский вестник”» – опровергает утверждение М. Н. Каткова о недостаточной будто бы глубине пушкинского творчества.
Ответ «Свистуну»
См. Журнальные заметки.
Отцы и дети
Неосущ. замысел, 1876. (XVII)
Записи к этому роману опять с «чужим» названием (см. «Борис Годунов») появились в записной тетради среди материалов к мартовскому выпуску «Дневника писателя». Не случайно название (конечно, – условное, предварительное) перекликается с известным произведением И. С. Тургенева: две главные темы тургеневского романа «Отцы и дети» (1862) – «нигилизм» и столкновение-спор «отцов» и «детей» – уже в те годы тоже крайне интересовали Достоевского. В «Преступлении и наказании», «Идиоте», «Вечном муже» и особенно «Подростке» писатель уже в какой-то мере касался этих тем, а в январском выпуске ДП за 1876 г. сообщил читателям: «Я давно уже поставил себе идеалом написать роман о русских теперешних детях, ну и, конечно, о теперешних их отцах, в теперешнем взаимном их соотношении. <…> я возьму отцов и детей по возможности из всех слоёв общества и прослежу за детьми с их самого первого детства.<…> А пока я написал лишь “Подростка” – эту первую пробу моей мысли…» Роман «Отцы и дети» Достоевский так и не написал, но основные коллизии плана-замысла в какой-то мере воплотились впоследствии в романе «Братья Карамазовы».
Петербургская летопись
Фельетоны. СПбВед, 1847, № 93, 27 апр.; № 104, 11 мая; № 121, 1 июня; № 133, 15 июня, с подписью: Ф. Д.; а также № 81, 13 апр. (коллективное), с подписью: Н. Н. (XVIII)
Под фельетоном в середине XIX в. понимался «отдел росказней в газете» (В. И. Даль). По сути, тогдашний фельетон – это синтез репортажа, обозрения и эссе «обо всём и ни о чём», рассуждения на злобу дня, зарисовки городской жизни с элементами физиологического очерка. В «Санкт-Петербургских ведомостях» воскресный фельетон имел постоянное название «Петербургская летопись», и в этом разделе печатались поочерёдно несколько авторов. Очередной фельетон в номере от 13 апреля 1847 г. сопровождался примечанием, что из-за внезапной кончины постоянного фельетониста Э. И. Губера редакция вынуждена была обратиться к «одному из наших молодых литераторов». Им, по мнению исследователей, был – А. Н. Плещеев, который привлёк к соавторству своего товарища, тоже «молодого литератора» Достоевского, уже широко известного к тому времени после публикации «Бедных людей» и «Двойника». А уже следующий фельетон, в номере СпбВед от 27 апреля, и ещё три Достоевский написал самостоятельно и подписал своими инициалами. Главная тема фельетонов Достоевского – Петербург; сквозной герой-рассказчик – «фланёр-мечтатель». Размышления «фланёра-мечтателя» о Петербурге, его роли в истории России, типологии жителей столицы перемежаются бытовыми зарисовками, уличными сценками, набросками характеров. Всё это послужило своеобразными эскизами к произведениям, которые писатель уже вскоре создаст – «Слабое сердце», «Белые ночи», «Неточка Незванова» и др. А, к примеру, сластолюбивый Юлиан Мастакович не только целиком «перейдёт» из «Летописи» в повесть «Слабое сердце» и рассказ «Ёлка и свадьба», но и отразится, в какой-то мере, в образах таких героев поздних произведений Достоевского, как Трусоцкий в «Вечном муже» и Свидригайлов в «Преступлении и наказании». Опыт фельетониста впоследствии пригодился как Достоевскому-журналисту («Петербургские сновидения в стихах и прозе»), так и Достоевскому-художнику, в романах которого фельетонность играла такую значительную роль.
Петербургские сновидения в стихах и прозе
Фельетон. Вр, 1861, № 1, без подписи. (XIX)
Достоевский, начиная вместе с братом М. М. Достоевским издание «Времени», очень большое значение придавал литературному фельетону. Для первого номера такой фельетон написал поэт-сатирик Д. Д. Минаев. Однако уже после прохождения номера через цензуру, перед самым выходом журнала в свет, Достоевский заменил фельетон Минаева на свои «Петербургские сновидения», оставив в тексте лишь его стихотворные фрагменты. Скорее всего, фактического редактора «Времени» не удовлетворили и художественный уровень минаевского фельетона, и его идеологическая направленность. В композиционном плане «Петербургские сновидения» близки «Петербургской летописи»: в центре внимания – личность фельетониста-рассказчика, «мечтателя и фантазёра», его переживания, мнения. Юмористическое и эксцентричное в начале повествование сменяется полными лиризма автобиографическими воспоминаниями о петербургской юности писателя. Очень важен для понимания творческого кредо Достоевского его взгляд на роль и задачи фельетониста, сформулированный в «Петербургских сновидениях»: «А знаете ли, что такое иногда фельетонист (разумеется, иногда, а не всегда)? Мальчик, едва оперившийся, едва доучившийся, а часто и не учившийся, которому кажется, что так легко писать фельетон: “Он без плана, думает он, это не повесть, пиши о чем хочешь <…>!” Иному современному строчиле (вольный перевод слова “фельетонист”) и в голову не приходит, что без жара, без смысла, без идеи, без охоты – всё будет рутиной и повторением, повторением и рутиной. Ему и в голову не приходит, что фельетон в наш век – это… это почти главное дело. Вольтер всю жизнь писал только одни фельетоны…» В свете этого суждения дополнительный смысл получают многочисленные иронические и пародийные упоминания в «Петербургских сновидениях» фельетонов Нового Поэта (И. И. Панаева) в «Современнике». Судя по финалу, Достоевский собирался продолжить фельетон в следующих номерах журнала, но это намерение не осуществилось.
План для рассказа (в «Зарю»)
Неосущ. замысел, 1869. (IX)
После завершения работы над «Идиотом», Достоевский, живший в то время за границей, через Н. Н. Страхова предложил журналу «Заря» своё новое будущее произведение, «повесть, т. е. роман» размером с «Бедных людей», но затем, когда выяснилось, что аванс редакция заплатить не в силах, писатель взамен согласился написать для «Зари» рассказ «весьма небольшой, листа в 2 печатных». В это время и появился в рабочей тетради данный план, начинавшийся весьма красноречиво: «Рассказ вроде пушкинского (краткий и без объяснений, психологически откровенный и простодушный)…» В конце концов для «Зари» Достоевским был написан «Вечный муж», а некоторые коллизии данного «Плана для рассказа» (любовная история хроменькой девочки, пощёчина без ответа, дуэль без выстрела…) воплотились, в какой-то мере, в романе «Бесы».
Повесть об уничтоженных канцеляриях
Неосущ. замысел, 1846. (XXVIII1).
Повесть под таким названием, как и «Сбритые бакенбарды», Достоевский собирался написать для альманаха «Левиафан», затеваемого В. Г. Белинским. Замысел частично был использован вскоре при создании повести «Господин Прохарчин».
Подросток
Роман. ОЗ, 1875, № 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12. (XIII, XVI, XVII)
Основные персонажи:
Александр Семёнович;
Андреев Николай Семёнович;
Андроников Алексей Никанорович;
Арина;
Афердов;
Ахмаков;
Ахмакова Катерина Николаевна;
Ахмакова Лидия;
Барон Р.;
Бьоринг (барон Бьоринг);
Васин Григорий;
Вердень Альфонсина Карловна, де (Альфонсинка);
Версилов Андрей Петрович;
Версилова Анна Андреевна;
Версилов-младший;
Дарзан Алексей Владимирович;
Дарья Онисимовна (Настасья Егоровна);
Дергачёв;
Долгорукая Елизавета Макаровна;
Долгорукая Софья Андреевна;
Долгорукий Аркадий Макарович (Подросток);
Долгорукий Макар Иванович;
Зверев Ефим;
Зерщиков;
Крафт;
Кудрюмов;
Ламберт;
Мальчик-самоубийца;
Марья Ивановна;
Марья;
Матвей;
Нащокин Ипполит Александрович;
Николай Семёнович;
Олимпиада;
Оля;
Осетров;
Пётр Ипполитович;
Пётр Степанович;
Пруткова Татьяна Павловна;
Семён Сидорович (Рябой);
Скотобойников Максим Иванович;
Сокольский Николай Иванович (князь Сокольский);
Сокольский Сергей Петрович (князь Серёжа);
Стебельков;
Студент;
Тихомиров;
Тришатов;
Тушар;
Червяков.

Роман состоит из 3-х частей, по форме это – записки-воспоминания заглавного героя Аркадия Долгорукого о событиях годичной давности, когда он был ещё 19-летним «подростком». Тогда он приехал из Москвы, где учился в частном пансионе, в Петербург, где жили его мать, сестра и настоящий отец дворянин Андрей Петрович Версилов («юридическим» отцом Аркадия считался бывший дворовый Версилова – крестьянин Макар Долгорукий). Приехал же Подросток в столицу не просто для того, чтобы воссоединиться с семьёй, но для осуществления своей «идеи», которая должна была вознести его над миром, сделать могущественным человеком, тайным властелином всего и вся. Его идея – «стать Ротшильдом», то есть путём «упорства и непрерывности» разбогатеть как миллионщик Ротшильд, ибо «деньги – это единственный путь, который приводит на первое место даже ничтожество». Но при этом, став миллионщиком, оставаться внешне почти нищим, жить тихо, уединённо, отгородившись своим миллионом от всего мира – вот в чём суть идеи Подростка: внутреннее могущество при внешнем смирении… Однако ж в Петербурге уже вскоре «идея» Аркадия терпит крах, как указано автором в подготовительных материалах, «от многих причин, а именно: 1) от столкновения с людьми и от того, что не утерпел и обнаружил идею: стыд за неё; 2) социализм пошатнул верование: хочет и идею и остаться благородным; 3) свысока отношение ЕГО [Версилова] к идее <…> 4) столкновение с жизнью, сластолюбие, честолюбие, не своё общество <…> Всё рушится через обиды, которые вновь возвращают его к своей идее, но уже не теоретически, а взаправду, озлобленного и желающего отомстить <…> 5) отношение к Княгине [Ахмаковой], честолюбие, страсть и заговор <…> Но на заговор он решился отнюдь не из идеи, а из страсти; 6) Макар Иванов и те (Мать и сестра. – Н. Н.)…» Да, Подросток оказывается втянут буквально во все и всяческие взаимоотношения и столкновения остальных героев романа. Версилов переживает перипетии поздней любви к Катерине Николаевне Ахмаковой, и Аркадий оказывается замешан в самую сердцевину этих запутанных трагических отношений… Свой сложный роман развивается у сестры Лизы с князем Серёжей – и здесь Подросток оказывается вовлечённым в самую гущу событий… Как раз в это время возникает и действует в столице Российской империи тайный кружок нигилистов-заговорщиков Дергачёва – и с ним Аркадий Долгорукий умудряется связаться, чуть совсем не погубив свою будущность, а, может, и жизнь… Ну и, разуметься, первую и безответную страсть-любовь к недосягаемой красавице предстояло испытать юному герою именно в этот период… Но, конечно, самое главное жизненное приключение, какое он пережил за этот год – трудный переход-путешествие из мира детства, отрочества во взрослую жизнь, из подростков в юноши…
«Подросток» был написан в период с февраля 1874 по ноябрь 1875 г. Создавался он после «антинигилистических» «Бесов» и редактирования «реакционного» «Гражданина», так что кажется совершенно невероятным появление нового романа Достоевского на страницах демократических «Отечественных записок». Сделано это было по предложению одного из руководителей журнала Н. А. Некрасова, высоко ценившего талант Достоевского с юности. Писатель, у которого перед этим во время публикации «Бесов» возникали с издателем «Русского вестника» М. Н. Катковым серьёзные разногласия (тот отказался печатать главу «У Тихона»), с охотой согласился. Но характерно в этом плане признание-утверждение из его письма к жене, А. Г. Достоевской, от 20 декабря 1874 г.: «Некрасов вполне может меня стеснить, если будет что-нибудь против их направления: он знает, что в “Р<усском> вестнике” теперь (т. е., на будущий год) меня не возьмут, так как “Русский вестник” завален романами. Но хоть бы нам этот год пришлось милостыню просить, я не уступлю в направлении ни строчки!..» И это заявил человек, знающий, можно сказать, в буквальном смысле, что значит – просить милостыню (стоит вспомнить только его отчаянные письма-мольбы из-за границы о денежной помощи к таким, например, людям, как И. С. Тургенев). Большую роль в подготовке замысла и создания «Подростка» сыграл «Дневник писателя» 1873 г., в котором Достоевский исследовал вопросы текущей действительности, уяснял для себя и читателей «капитальные вопросы» дня. В этом плане особый интерес представляет глава «Одна из современных фальшей», где он писал об особой трудности познания «добра» и «зла» для представителей тех русских семейств, в которых разрыв с народом «преемствен и наследствен ещё с отцов и дедов…» Замысел романа о «детстве», «отрочестве» и «юности» героя корнями уходит в неосуществлённый замысел «Житие великого грешника» (1869—1870), недаром в черновиках намечался подзаголовок к роману – «Исповедь великого грешника, писанная для себя». Важен для понимания «Подростка» и другой неосуществлённый замысел, возникший позже – «Отцы и дети» (1876). Сам автор в январском выпуске ДП за 1876 г. пояснял: «Я давно уже поставил себе идеалом написать роман о русских теперешних детях, ну и, конечно, о теперешних их отцах, в теперешнем взаимном их соотношении. <…> Когда, полтора года назад, Николай Алексеевич Некрасов приглашал меня написать роман для “Отечественных записок”, я чуть было не начал тогда моих “Отцов и детей”, но удержался, и слава Богу: я был не готов. А пока я написал лишь “Подростка” – эту первую пробу моей мысли. Но тут дитя уже вышло из детства и появилось лишь неготовым человеком, робко и дерзко желающим поскорее ступить свой первый шаг в жизни. Я взял душу безгрешную, но уже загаженную страшною возможностью разврата, раннею ненавистью за ничтожность и “случайность” свою и тою широкостью, с которою ещё целомудренная душа уже допускает сознательно порок в свои мысли, уже лелеет его в сердце своём <…> Всё это выкидыши общества, “случайные” члены “случайных” семей…» Для понимания замысла и воплощения «Подростка» чрезвычайно важны и две записи в черновых материалах: 1) «Нет у нас в России ни одной руководящей идеи…»; 2) «ГЛАВНАЯ ИДЕЯ. Подросток хотя и приезжает (в Петербург. – Н. Н.) с готовой идеей, но вся мысль романа та, что он ищет руководящую нить поведения, добра и зла, чего нет в нашем обществе, этого жаждет он, ищет чутьём, и в этом цель романа…»
Поначалу Достоевский главным героем хотел сделать Версилова, но акцент повествования сместился на образ Подростка, на «детей» после того, как бывший петрашевец и автор «Бесов» познакомился в прессе с материалами процесса над членами революционно-народнического кружка А. В. Долгушина, который проходил в Сенате с 9 по 15 июля 1875 г. Кружок Дергачёва в романе, общение с его участниками (прообразами которых послужили долгушинцы), особенно с Васиным и Крафтом, сыграли большую роль в поисках Аркадием «руководящей идеи».
«Подросток» – это роман-исповедь. И – самая крупная и сложная по сюжету исповедь в мире Достоевского. Если, к примеру, «Записки из подполья» «писал» уже сложившийся, потерявший во многое веру и отчаявшийся герой-автор, и вследствие этого читателю приходится сквозь словеса его «сверхисповеди», под напускной шелухой самонаговоров угадывать его истинную сущность, то Подросток в своём дневнике перед читателем, как на ладони. Даже в стиле (Достоевский долго искал «тон» этих записок, добиваясь того, чтобы буквально был слышен молодой, ещё ломкий голос формирующейся на наших глазах личности Аркадия Долгорукого) проявляются возраст и характер Подростка. Как и многие авторы-герои Достоевского, он горячо отрекается от звания литератора, потому что творчество для него – не лестница к славе и не средство наживы, нет, такие люди по самой своей богатой творческой натуре хотя бы раз в жизни не могут не выплеснуть свои чувства и мысли в литературной «автобиографии», не исповедаться хотя бы на бумаге. В соответствии со своим возрастом Подросток начинает записки с броского максималистского афоризма: «Надо быть слишком подло влюблённым в себя, чтобы писать без стыда о самом себе…» Себя он оправдывает тем, что пишет в первый и последний раз в жизни. Поставив перед собою творческую задачу – обнажить полностью свою душу в момент её формирования, Аркадий подводит под это прочный теоретический фундамент: «Сделаю предисловие: читатель, может быть, ужаснётся откровенности моей исповеди и простодушно спросит себя: как это не краснел сочинитель? Отвечу, я пишу не для издания; читателя же, вероятно, буду иметь разве через десять лет <…>. А потому, если я иногда обращаюсь в записках к читателю, то это только приём. Мой читатель – лицо фантастическое…» Не верить этому заявлению нельзя (как и аналогичному Подпольного человека), без такой внутренней установки, конечно же, никогда бы не получилось и не могло получиться полной откровенности. Принцип откровенности в творчестве был одним из краеугольных у самого Достоевского. Характерно в этом плане заявление Подростка-писателя: «Я записываю лишь события, уклоняясь всеми силами от всего постороннего, а главное, от литературных красот, литератор пишет тридцать лет и в конце совсем не знает, для чего он писал столько лет. Я – не литератор, литератором быть не хочу и тащить внутренность души моей и красивое описание чувств на их литературный рынок почёл бы неприличием и подлостью…» Здесь чрезвычайно знаменательно упоминание о тридцати годах: во время работы над «Подростком» у Достоевского за плечами были как раз эти тридцать лет творческой деятельности и в письмах, «Дневнике писателя» того периода у него не раз проскальзывали мысли, выражающие сомнение в могуществе литературы, в значимости всего им сделанного…

Страница черновика романа «Подросток».
Критика на «Подростка» была неоднозначной. Ещё в период печатания романа появились развёрнутые отзывы В. Г. Авсеенко в «Русском мире» (1875, № 27, 55), А. М. Скабичевского в «Биржевых ведомостях» (1875, № 35), Вс. С. Соловьёва в «С.-Петербургских ведомостях» (1875, № 32, 58), П. Н. Ткачёва в «Деле» (1876, № 4—8) и ряд других, но они совершенно не удовлетворили Достоевского – ему было ясно, что его опять не понимают. Продолжая работать над романом, он заносит для памяти в записную книжку: «В финале Подросток: “Я давал читать мои записки одному человеку, и вот что он сказал мне” (и тут привести мнение автора, то есть моё собственное)…» Что это за мнение? От имени своего героя, Николая Семёновича, Достоевский, намекая, в первую очередь, на Л. Н. Толстого, с выстраданной убеждённостью констатирует: «Если бы я был русским романистом и имел талант, то непременно брал бы героев моих из русского родового дворянства, потому что лишь в одном этом типе культурных русских людей возможен хоть вид красивого порядка и красивого впечатления, столь необходимого в романе для изящного воздействия на читателя. <…> Признаюсь, не желал бы я быть романистом героя из случайного семейства!
Работа неблагодарная и без красивых форм. Да и типы эти, во всяком случае – ещё дело текущее, а потому и не могут быть художественно законченными. Возможны важные ошибки, возможны преувеличения, недосмотры. Во всяком случае, предстояло бы слишком много угадывать. Но что делать, однако ж, писателю, не желающему писать лишь в одном историческом роде и одержимому тоской по текущему? Угадывать и… ошибаться…»
Но, несмотря на это «самооправдание» Достоевского, упрёки современников в искажении действительности и т. п. в его адрес продолжали раздаваться. Каково же было Достоевскому сознавать это непонимание при твёрдой уверенности в правильности своего литературного пути, творческого метода! У него невольно прорывались, может быть, не совсем скромные (и то на взгляд обывателя!) восклицания вроде следующего (в главе «Ряженый» из ДП, 1873 г.): «Но я всё-таки выскажу, что только гениальный писатель или уж очень сильный талант угадывает тип современно и подаёт его своевременно; а ординарность только следует по его пятам, более или менее рабски, и работая по заготовленным уже шаблонам…»
Наиболее интересные и точные суждения о «Подростке» содержались в цикле очерков «Вперемежку» Н. К. Михайловского, которые начали публиковаться в «Отечественных записках» с января 1876 г.
Пожар в селе Измайлове
Статья. Гр, 1873, № 24, 11 июня, без подписи. (XXI)
В «Московских ведомостях» (1873, № 134, 1 июня) появилось сообщение о большом пожаре в подмосковном селе Измайлове. Достоевского в заметке привлекли «особые обстоятельства», сообщённые корреспондентом – пожар нечем оказалось тушить, так как крестьяне пропили в кабаках все ломы, топоры и вёдра… Отталкиваясь от этого и других подобных сообщений, редактор «Гражданина» продолжил разговор на злободневную тему, поднятую им незадолго до того в «Дневнике писателя» («Мечты и грёзы») и которая остро интересовала его всегда (см. «Пьяненькие») – повсеместное пьянство на Руси, «спаивание народа».
Ползунков
Рассказ. «Иллюстрированный альманах, изданный И. Панаевым и Н. Некрасовым», 1848. (II)
Основные персонажи:
Марья Федосеевна;
Марья Фоминишна;
Ползунков Осип Михайлович;
Федосей Николаевич.
Чиновник Ползунков в кругу своих сослуживцев вспоминает горький анекдот, случившийся с ним в прежней канцелярии за 6 лет до того: подшантажировал он своего начальника Федосея Николаевича (было за что!) и получил с него мзду-взятку. Однако ж Федосей Николаевич приманил его своей дочкой-невестой, обещанием приданного, обкрутил, объегорил, свои деньги назад выманил, да и ещё и со службы Ползункова «по собственному желанию» выгнал, ибо тот имел глупость в качестве первоапрельской шутки написать собственноручно будущему тестю прошение об отставке…
Рассказ написан в 1847 г. специально для альманаха, задуманного Н. А. Некрасовым как приложение к «Современнику». В письмах и объявлениях об издании «Иллюстрированного альманаха» произведение Достоевского упоминалось под названиями «Рассказ Плисмылькова» и «Шут». После прохождения корректуры через цензуру альманах был отпечатан в нескольких экземплярах с рассказом Достоевского уже под заглавием «Ползунков», но в сентябре 1848 г. повторная цензура, ожесточившаяся после революционных событий во Франции, запретила альманах. После хлопот И. И. Панаева редакции «Современника» разрешили издать другой сборник-приложение, куда был допущен и «Ползунков», но рассказ Достоевского в «Литературный сборник» не попал, вероятно. из-за расхождения писателя с кругом С.
«Ползунков» стоит в одном ряду с другими ранними произведениями Достоевского – «Бедные люди», «Двойник», «Господин Прохарчин» и по жанру близок к физиологическому очерку из петербургской жизни. В «Иллюстрированном альманахе» рассказ Достоевского был украшен тремя рисунками П. А. Федотова (1815—1852), что, вероятно, послужило впоследствии рождению сплетни в литературных кругах о том, будто молодой Достоевский, возомнив себя гением, требовал выделять при публикации свои произведения «каймой» (см. П. А. Анненков).
По поводу элегической заметки «Русского вестника»
Статья. Вр, 1861, № 10, без подписи. (XIX)
Это – очередная отповедь М. Н. Каткову в ответ на его новые выпады против журнала братьев Достоевских, содержащихся в «Заметке для журнала “Время”» и «Элегической заметке» (РВ, 1861, № 7 и № 8). Катков же, в свою очередь, полемизировал в них с прежними статьями Достоевского – «“Свисток” и “Русский вестник”», «Ответ “Русскому вестнику”», «Литературная истерика». Достоевский-публицист этого периода – периода полемики с катковским «Русским вестником» – во многом солидарен с представителями демократического лагеря, в частности, с Н. Г. Чернышевским, о котором идёт речь в статье. Заканчивает же Достоевский напоминанием, что уже ранее («Книжность и грамотность») предрекал М. Н. Каткову повторение в русской журналистике неблаговидного пути Ф. В. Булгарина (1789—1859): «Да, “Русский вестник”, мы уже вам пророчили прежде, что вы рано ли, поздно ли поворотите на одну дорожку. Дорожка эта торная, гладкая. Вероятно, найдёте и товарищей… Счастливый путь! И весело, и выгодно! Останавливать не будем!»
Попрошайка
Рассказ. Гр, 1873, № 39, без подписи. (XXI)
Основные персонажи:
NN (Иван NN, генерал NN);
С. Павел Михайлович.
Некий Д. рассказывает историю о некоем уже покойном Павле Михайловиче С., который имел дар выпрашивания. Этому Д. понадобилось получить от генерала NN, который славился своей неприступностью, рекомендательное письмо для своего родственника, и Павел Михайлович по его просьбе с этой задачей блистательно справляется – выпрашивает рекомендацию в считанные полчаса. Его дар попрошайки зиждется на даре психолога: он разгадал сущность генерала-скряги и сыграл на этом, сделав поначалу вид, будто пришёл просить у того взаймы значительную сумму…
Этот малоизвестный рассказ Достоевского, написанный им в период работы редактором «Гражданина», напоминает анекдотичностью сюжета ранние произведения писателя («Ползунков», «Роман в девяти письмах»). Авторство установлено на основании стилистического анализа и гонорарной ведомости.
Последние литературные явления. Газета «День»
Статья V из цикла «Ряд статей о русской литературе». Вр, 1861, № 11, без подписи. (XIX)
В предыдущих статьях цикла определилось отношение «почвеннического» журнала братьев Достоевских к либеральным и демократическим изданиям – «Отечественным запискам», «Современнику», «Русскому вестнику». В данной, заключительной, статье «выясняются отношения» со славянофилами. Газета «День», орган славянофильства, начала выходить в Москве с 15 октября 1861 г. (издатель-редактор И. С. Аксаков). Первые же номера разочаровали Достоевского, и он довольно резко высказал своё разочарование. А не устраивали его во взглядах славянофилов, ярко выраженных на страницах первых номеров своей газеты, – догматичность, неумение и нежелание считаться с духом времени, категоричность суждений, полное отрицание всего, что было после Петра I. Достоевский же считал, что западничество не менее русское явление, чем славянофильство. Совершенно не удовлетворили редактора «Времени» и «литературные вопросы» в славянофильской газете – оторванные от живой жизни, далёкие от подлинного реализма, высокомерные по тону. «Да что ж вы-то делали, К. Аксаков? а не вы, так все ваши славянофилы? Читаешь иные ваши мнения и, наконец, поневоле придёшь к заключению, что вы решительно в стороне себя поставили, смотрите на нас как на чуждое племя, точно с луны к нам приехали, точно не в нашем царстве живете, не в наши годы, не ту же жизнь переживаете! Точно опыты над кем-то делаете, в микроскоп кого-то рассматриваете. Да ведь это ваша же литература, ваша, русская? Что же вы свысока-то на неё смотрите, как козявку её разбираете? Да ведь вы сами литераторы, господа славянофилы. Ведь вы хвалитесь же знанием народа, ну и представьте нам сами ваши идеалы, ваши образы…» В дальнейшем Достоевский продолжил на страницах «Времени» полемику с газетой «День» в статьях «Славянофилы, черногорцы и западники», «Два лагеря теоретиков», «О новых литературных органах и о новых теориях».
<Предисловие к публикации перевода романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»>
Вр, 1862, № 9, под названием «Предисловие от редакции» и без подписи. (XX)
В 1862 г. вышел из печати новый роман В. Гюго «Отверженные», имевший необычайный успех. На волне этого успеха журнал «Время» решил опубликовать впервые полный перевод романа «Собор Парижской Богоматери», написанный за 30 лет до того (1831). Достоевский, предваряя перевод Ю. П. Померанцевой кратким предисловием, счёл нужным пояснить-подсказать читателям, что ранний роман французского писателя уже содержит в себе истоки социальной проблематики его позднейших произведений, в том числе и – «Отверженных». «Его мысль, – подчеркнул Достоевский, – есть основная мысль всего искусства девятнадцатого столетия, и этой мысли Виктор Гюго как художник был чуть ли не первым провозвестником. Это мысль христианская и высоконравственная; формула её – восстановление погибшего человека, задавленного несправедливо гнётом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков. Эта мысль – оправдание униженных и всеми отринутых парий общества…»
<Предисловие к публикации «Три рассказа Эдгара Поэ»>
Вр, 1861, № 17, с подписью: Ред. (XIX)
Творчество американского писателя Эдгара Аллана По (1809—1849) уже достаточно широко было известно русскому читателю с конца 1840-х гг. Данное предисловие предпослано публикации впервые переведённых на русский язык (Д. Михайловым) трёх рассказов По – «Сердце-обличитель», «Чёрный кот» и «Чёрт в ратуше». Ранее, в № 3 «Времени» за тот же год, была опубликована новелла этого же автора «Похождения Артура Гордона Пэйма». Подбор произведений и предисловие Достоевского – первая в России попытка адекватно представить и оценить творчество американского писателя-новатора. Сопоставляя его с Э. Т. А. Гофманом, русский писатель подчёркивает «материальную фантастичность» По, убедительность бытовых деталей в его невероятных по сюжету произведениях: «…в Эдгаре Поэ есть именно одна черта, которая отличает его решительно от всех других писателей и составляет резкую его особенность: это сила воображения. Не то чтобы он превосходил воображением других писателей; но в его способности воображения есть такая особенность, какой мы не встречали ни у кого: это сила подробностей…» Достоевский-художник, как известно, и сам исповедовал в творчестве подобный принцип.
Преступление и наказание
Роман в шести частях с эпилогом. РВ, 1866, № 1, 2, 4, 6—8, 11, 12. (VI, VII)
Основные персонажи:
Алёна Ивановна;
Афросиньюшка;
Ахиллес;
Девочка-невеста;
Дементьев Николай (Миколка);
Дуклида;
Заметов Александр Григорьевич;
Зарницына Наталья Егоровна;
Зарницына Прасковья Павловна;
Зосимов;
Капернаумов;
Кох;
Лебезятников Андрей Семёнович;
Лизавета Ивановна;
Липпевехзель Амалия Людвиговна (Ивановна; Фёдоровна);
Лужин Пётр Петрович;
Луиза (Лавиза) Ивановна;
Мармеладов Семён Захарович;
Мармеладова Катерина Ивановна;
Мармеладова Полина (Поля);
Мармеладова Софья Семёновна (Соня);
Мещанин;
Миколка;
Настасья;
Никодим Фомич;
Пестряков;
Порох Илья Петрович;
Порфирий Петрович;
Пьяная девушка;
Разумихин Дмитрий Прокофьич;
Раскольников Родион Романович;
Раскольникова Авдотья Романовна;
Раскольникова Пульхерия Александровна;
Ресслих Гертруда Карловна;
Свидригайлов Аркадий Иванович;
Свидригайлова Марфа Петровна;
Тит Васильич;
Филипп.

Автограф Достоевского (дарственная надпись А. Н. Островскому)
на издании романа «Преступление и наказание» 1877 г.
«Это – психологический отчёт одного преступления.
Действие современное, в нынешнем году. Молодой человек, исключённый из студентов университета, мещанин по происхождению, и живущий в крайней бедности, по легкомыслию, по шатости в понятиях поддавшись некоторым странным “недоконченным” идеям, которые носятся в воздухе, решился разом выйти из скверного своего положения. Он решился убить одну старуху, титулярную советницу, дающую деньги на проценты. Старуха глупа, глуха, больна, жадна, берёт жидовские проценты, зла и заедает чужой век, мучая у себя в работницах свою младшую сестру. “Она никуда не годна”, “для чего она живет?”, “Полезна ли она хоть кому-нибудь?” и т. д. Эти вопросы сбивают с толку молодого человека. Он решает убить её, обобрать; с тем, чтоб сделать счастливою свою мать, живущую в уезде, избавить сестру, живущую в компаньонках у одних помещиков, от сластолюбивых притязаний главы этого помещичьего семейства – притязаний, грозящих ей гибелью, докончить курс, ехать за границу и потом всю жизнь быть честным, твёрдым, неуклонным в исполнении “гуманного долга к человечеству”, чем, уже конечно, “загладится преступление”, если только может назваться преступлением этот поступок над старухой глухой, глупой, злой и больной, которая сама не знает, для чего живёт на свете, и которая через месяц, может, сама собой померла бы.
Несмотря на то, что подобные преступления ужасно трудно совершаются – то есть почти всегда до грубости выставляют наружу концы, улики и проч. и страшно много оставляют на долю случая, который всегда почти выдает винов<ных>, ему – совершенно случайным образом удаётся совершить своё предприятие и скоро и удачно.
Почти месяц он проводит после того до окончательной катастрофы. Никаких <…> подозрений нет и не может быть. Тут-то и развёртывается весь психологический процесс преступления. Неразрешимые вопросы восстают перед убийцею, неподозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце. Бoжия правда, земной закон берёт своё, и он – кончает тем, что принуждён сам на себя донести. Принуждён, чтобы хотя погибнуть в каторге, но примкнуть опять к людям; чувство разомкнутости и разъединённости с человечеством, которое он ощутил тотчас же по совершении преступления, замучило его. <…> Преступн<ик> сам решает принять муки, чтоб искупить своё дело…» (Из письма М. Н. Каткову, 10 /22/ – 15 /27/ сентября 1865 г.) Так сам Достоевский представлял главную сюжетную линию своего будущего романа, предлагая его издателю «Русского вестника». Чуть далее в том же письме обозначена и главная идея романа, выразившаяся затем в его названии: «В повести моей есть, кроме того, намек на ту мысль, что налагаемое юридическ<ое> наказание за преступление гораздо меньше устрашает преступника, чем думают законодатели, отчасти и потому, что он и сам его нравственно требует…»
В начале лета 1865 г. Достоевский срочно уезжает за границу. Дела его ужасны: в ушедшем году умерли один за другим брат М. М. Достоевский и жена М. Д. Достоевская, только что окончательный крах потерпел и журнал «Эпоха», случился-произошёл окончательный разрыв с А. П. Сусловой, многочисленные кредиторы грозят долговой тюрьмой, семейство Михаила Михайловича, пасынок П. А. Исаев, больной младший брат Н. М. Достоевский и другие бедные родственники не просто ждут, а требуют от него помощи, бесконечные изнуряющие припадки падучей замучили окончательно… За границей он намеревался хотя бы на время скрыться от кредиторов (да и родственников) и найти выход из очередного жизненного тупика. Надежды на очередной Рулетенбург и на этот раз не оправдались: выиграть разом и большую сумму не удалось, больше того, – проиграл последние гроши. Оставалась, как всегда, последняя надежда – на литературу, на свой талант. Ещё перед отъездом-бегством из Петербурга он предложил свою будущую повесть под названием «Пьяненькие» издателям «Санкт-Петербургских ведомостей» В. Ф. Коршу и «Отечественных записок» А. А. Краевскому. Получил отказ. Тогда, от безвыходности положения, писатель, уже из-за границы, и решился обратиться с предложением к Каткову. Надо помнить, что совсем незадолго до того Достоевский на страницах своих журналов «Время» и «Эпоха» вёл ожесточённую полемику с «Русским вестником», «Московскими ведомостями» и персонально с их издателем – нелицеприятных слов с обеих сторон было высказано немало (см.: «“Свисток” и “Русский вестник”», «Ответ “Русскому вестнику”», «Литературная истерика», «По поводу элегической заметки “Русского вестника”»). Катков предложение принял, просимый автором аванс в триста рублей выслал. И – получил произведение, которое произвело потрясение в читающей публике и увеличило тираж журнала на несколько сот экземпляров. Но, самое главное, первый роман из «великого пятикнижия» Достоевского окончательно утвердил его реноме глубочайшего писателя-психолога, поднял его авторитет в мыслящей России (а позже и за рубежом) на должную высоту.
Появление «Преступления и наказания» было подготовлено всем предыдущим творчеством Достоевского. Тема Петербурга («Слабое сердце»), тема подполья («Записки из подполья»), тема мечтательства («Белые ночи»), тема преступления и наказания («Записки из Мёртвого дома») – эти и многие другие темы переплавились-слились в новом романе, приобрели углублённый философский смысл. Но одна тема, только лишь мимоходом затронутая-упомянутая прежде в «Господине Прохарчине», через 20 лет именно в «Преступлении и наказании» заняла главенствующее место, была исследована-показана автором во всей её сложности и глубине. В раннем рассказе один из героев, «дрожа от досады и бешенства», кричит Прохарчину: «Что вы, один, что ли, на свете? для вас свет, что ли, сделан? Наполеон вы, что ли, какой? что вы? кто вы? Наполеон вы, а? Наполеон или нет?! Говорите же, сударь, Наполеон или нет?..» Господин Прохарчин на вопрос этот иступлённый не ответил, да и вопрос был риторическим. А вот для Раскольникова это как раз вопрос отнюдь не риторический, от него зависит не только вся его будущность, но и просто-напросто – жизнь. Вопрос о наполеонизме в «Преступлении и наказании» сформулирован главным героем так: «Тварь ли я дрожащая или право имею?..»
«Преступление и наказание», по сути – криминальный роман. Тема преступления, которую писателю-петрашевцу довелось непосредственно изучать четыре года на нарах Омского острога, также именно в этом произведении впервые у Достоевского (как впоследствии в «Бесах» и «Братьях Карамазовых») была положена в сердцевину сюжета, стала предметом психологического исследования. В результате этого исследования темы наполеонизма, переплетённой с темой преступления, Достоевским была обоснована главная философско-этическая идея романа – невозможность для человека основать своё личное счастье на несчастье других людей.
Несомненна связь «Преступления и наказания» и образа его главного героя с русской и мировой литературой. Прежде всего, это – А. С. Пушкин (поединок Германна с богатой старухой-графиней в «Пиковой даме», «бунт» Евгения в «Медном всаднике», Борис Годунов, страдающий под гнётом своего преступления, ода «Наполеон», известные строки в «Евгении Онегине» о том, что-де «Мы все глядим в Наполеоны…» и т. д.); это и М. Ю. Лермонтов («Герой нашего времени», «Маскарад»), и Н. В. Гоголь («Портрет»). Из западных авторов в этом плане прежде всего стоит упомянуть французов Ш. Нодье и его роман «Жан Сбогар» (1818), с заглавным героем которого сам Достоевский сопоставлял Раскольникова в черновых материалах, а также О. де Бальзака – его Растиньяка из романа «Отец Горио» (1835), о котором автор «Преступления и наказания» вспоминал и много позже, в черновиках к Пушкинской речи: «У Бальзака в одном романе один молодой человек в тоске перед нравственной задачей, которую не в силах ещё разрешить, обращается с вопросом к любимому своему товарищу, студенту, и спрашивает его: “Послушай, представь себе, ты нищий, у тебя ни гроша, и вдруг где-то там, в Китае, есть дряхлый, больной мандарин, и тебе стоит только здесь, в Париже, не сходя с места, сказать про себя: умри, мандарин, и за смерть мандарина тебе волшебник пошлёт сейчас миллион, и никому это неизвестно…”» Но принципиальное различие между Раскольниковым и его литературными предшественниками-«двойниками» состоит в том, что и пушкинский Германн, и бальзаковский Растиньяк думают прежде всего о своей выгоде, для них «наполеоновский бунт» – средство возвыситься в так ненавидимом ими обществе, сделать карьеру. А Раскольников недаром же сравнивает себя не только с Наполеоном, но и с Магометом: он стремится совершить «бунт» во имя не только своего личного блага, но и блага других – общего блага.
Сразу же после публикации начальных глав началась история критики «Преступления и наказания». Первым откликнулась газета «Голос» (1866, № 48, 17 фев. /1 марта/) А. А. Краевского, который, как упоминалось, имел за год до того недальновидность отказаться от предложенного Достоевским нового романа. Однако ж отзыв анонимного рецензента «Голоса» вполне восторжен, и он справедливо и дальновидно заявил, что новый «роман обещает быть одним из капитальных произведений автора “Мёртвого дома”». Неожиданной была первая реакция органа демократов – «Современника» (1866, № 2, 3), а вслед за ним и «Искры» (1866, № 12—14), где Достоевского обвинили в клевете на молодое поколение. Наиболее фундаментальные разборы романа сделали: Н. Н. Страхов «Наша изящная словесность. “Преступление и наказание”» (ОЗ, 1867, № 3—4), Д. И. Писарев «Борьба за жизнь» («Дело», 1867, № 5; 1868, № 8), Н. Д. Ахшарумов «“Преступление и наказание”. Роман Ф. М. Достоевского» («Всемирный труд», 1867, № 3).

Страница наборной рукописи «Преступления и наказания».
Первые главы «Преступления и наказания» были только-только сданы в РВ и готовились к публикации, как 12 января 1866 г. в Москве некий студент Данилов убил и ограбил ростовщика Попова и его служанку Нордман – то есть, по существу, «одновременно» с Раскольниковым совершил аналогичное преступление, только без философской подкладки. Достоевский позже (11 /23/ дек. 1868 г.), в письме к А. Н. Майкову, имея, в первую очередь, в виду именно этот случай, с понятной гордостью писал, противопоставляя своё понимание реализма взглядам своих «литературных врагов»: «Ихним реализмом – сотой доли реальных, действительно случившихся фактов не объяснишь. А мы нашим идеализмом пророчили даже факты…»
Трагическим летом 1864 г. в письме к младшему брату А. М. Достоевскому (29 июля) автор «Записок из подполья», сломленный потерей старшего брата и жены и, словно повторяя своего героя, угрюмо себе пророчит: «Впереди холодная одинокая старость и падучая болезнь моя…» Менее чем через два с половиной года, осенью 1866 г., вот как сбылись-оправдались мрачные прогнозы писателя-пророка: В «Русском вестнике» публикуются последние главы «Преступления и наказания», вызывающего ажиотаж в публике – слава Достоевского растёт и ширится; всего за 26 дней в силу обстоятельств создан-написан новый замечательный роман «Игрок»; он встречается с А. Г. Сниткиной, с которой предстоит ему пережить последнюю и самую сильную любовь, которая до конца жизни станет его незаменимым помощником, другом, соратницей, любовницей, женой, матерью его детей… Хороши пророчества! Можно сказать, этот период – период создания «Преступления и наказания» – был самым лучшим, переломным и основополагающим периодом в личной и творческой судьбе Достоевского.
Приговор
«Предсмертная записка». ДП, 1876, октябрь, гл. первая, IV. (XXIII)
В предыдущей, третьей, подглавке выпуска Достоевский сопоставил два самоубийства: «материалистическое» – дочери А. И. Герцена Елизаветы Герцен и «кроткое» – швеи Марьи Борисовой (послужившей затем прототипом заглавной героини повести «Кроткая»). В «Приговоре», который в черновых материалах имел заглавие «Дочь Герцена», он от имени самоубийцы-«матерьялиста», как бы изнутри, показал «философию» этой категории «самоубийц от скуки», о которых речь уже шла в связи с самоубийством Надежды Писаревой (ДП, 1876, май, гл. 2, II). Основные тезисы «Приговора» таковы: «…В самом деле: какое право имела эта природа производить меня на свет, вследствие каких-то там своих вечных законов? Я создан с сознанием и эту природу сознал: какое право она имела производить меня, без моей воли на то, сознающего? Сознающего, стало быть, страдающего, но я не хочу страдать – ибо для чего бы я согласился страдать? Природа, чрез сознание моё, возвещает мне о какой-то гармонии в целом. Человеческое сознание наделало из этого возвещения религий. Она говорит мне, что я, – хоть и знаю вполне, что в “гармонии целого” участвовать не могу и никогда не буду, да и не пойму её вовсе, что она такое значит, – но что я всё-таки должен подчиниться этому возвещению, должен смириться, принять страдание в виду гармонии в целом и согласиться жить. Но если выбирать сознательно, то, уж разумеется, я скорее пожелаю быть счастливым лишь в то мгновение, пока я существую, а до целого и его гармонии мне ровно нет никакого дела после того, как я уничтожусь, – останется ли это целое с гармонией на свете после меня или уничтожится сейчас же вместе со мною. <…> Для чего устроиваться и употреблять столько стараний устроиться в обществе людей правильно, разумно и нравственно-праведно? На это, уж конечно, никто не сможет мне дать ответа. Всё, что мне могли бы ответить, это: «чтоб получить наслаждение». Да, если б я был цветок или корова, я бы и получил наслаждение. Но, задавая, как теперь, себе беспрерывно вопросы, я не могу быть счастлив, даже и при самом высшем и непосредственном счастье любви к ближнему и любви ко мне человечества, ибо знаю, что завтра же всё это будет уничтожено: и я, и всё счастье это, и вся любовь, и всё человечество – обратимся в ничто, в прежний хаос. А под таким условием я ни за что не могу принять никакого счастья, – не от нежелания согласиться принять его, не от упрямства какого из-за принципа, а просто потому, что не буду и не могу быть счастлив под условием грозящего завтра нуля. Это – чувство, это непосредственное чувство, и я не могу побороть его. Ну, пусть бы я умер, а только человечество оставалось бы вместо меня вечно, тогда, может быть, я всё же был бы утешен. Но ведь планета наша невечна, и человечеству срок – такой же миг, как и мне. И как бы разумно, радостно, праведно и свято ни устроилось на земле человечество, – всё это тоже приравняется завтра к тому же нулю. <…> уж одна мысль о том, что природе необходимо было, по каким-то там косным законам её, истязать человека тысячелетия, прежде чем довести его до этого счастья, одна мысль об этом уже невыносимо возмутительна. Теперь прибавьте к тому, что той же природе, допустившей человека наконец-то до счастья, почему-то необходимо обратить всё это завтра в нуль, несмотря на всё страдание, которым заплатило человечество за это счастье, и, главное, нисколько не скрывая этого от меня и моего сознанья, как скрыла она от коровы, – то невольно приходит в голову одна чрезвычайно забавная, но невыносимо грустная мысль: “ну что, если человек был пущен на землю в виде какой-то наглой пробы, чтоб только посмотреть: уживется ли подобное существо на земле или нет?” <…> в моём несомненном качестве истца и ответчика, судьи и подсудимого, я присуждаю эту природу, которая так бесцеремонно и нагло произвела меня на страдание, – вместе со мною к уничтожению… А так как природу я истребить не могу, то и истребляю себя одного, единственно от скуки сносить тиранию, в которой нет виноватого. N. N.»
На Достоевского посыплются обвинения в апологии самоубийства, так что вскоре, уже в декабрьском выпуске ДП, ему придётся оправдываться и расставлять точки над i заново.
Примечание <к статье Н. Страхова «Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве»>
Э, 1864, № 9. (XX)
Случилось так, что А. А. Григорьев, один из ведущих сотрудников «Времени», в середине 1861 г. из-за разногласий с братьями Достоевскими и в силу разных прочих обстоятельств покинул журнал и уехал из Петербурга в Оренбург, где без малого год служил учителем в кадетском корпусе. Однако ж связи с редакцией журнала он не терял и активно переписывался с Н. Н. Страховым, делясь в письмах своими размышлениями о литературе, «почвенничестве», своих взаимоотношениях с редакцией журнала. Николай Николаевич, публикуя после смерти А. Григорьева в сентябрьском номере «Эпохи» воспоминания о нём, включил в текст и одиннадцать писем поэта и критика. Достоевский счёл нужным сделать примечание, пояснив в первых строках: «Никак не могу умолчать о том, что в первом письме Григорьева касается меня и покойного моего брата…» И далее по пунктам писатель уточняет, что: 1) М. М. Достоевский в качестве редактора журнала ни в коем случае не «загонял как почтовую лошадь высокое дарование Ф. Достоевского»; 2) во взглядах редакции и Григорьева на славянофильство имелись расхождения, но никогда редактор не требовал от Григорьева «отступничества от прежних убеждений»; 3) в первые годы существования «Времени» действительно были колебания, но – «не в направлении, а в способе действия»; 4) суждения Григорьева о сотрудниках и принципах работы редакции только доказали, что «он не имел ни малейшего понятия о практической стороне издания журнала». И в конце Достоевский несколькими штрихами ярко характеризует, отдавая ему должное, Аполлона Григорьева как яркого поэта, критика и публициста (см. А. А. Григорьев).
<Примечание к статье Н. Н. Страхова «Нечто об “опальном журнале” (письмо к редактору)»>
Вр, 1862, № 5, с подписью: Ред. (XX)
В 1862 г. ожесточённую полемику с «Современником» и «Русским словом» на страницах «Времени» вёл ведущий критикжурнала Н. Н. Страхов (Н. Косица). Редакция «Времени» до этого письма Страхова прямо в его полемику (в основном с «Современником») не вмешивалась, однако, когда накал полемики достиг критического градуса, Достоевский счёл необходимым добавить к очередной статье своего сотрудника несколько резко язвительных замечаний в адрес сотрудника «Современника» М. А. Антоновича.
<Примечание к статье «Процесс Ласенера»>
Вр, 1861, № 2, с подписью: Ред. (XIX)
По инициативе Достоевского редакция «Времени» со второго номера начала публикацию цикла материалов, посвящённых нашумевшим в Европе уголовным процессам. Всего во «Времени», а затем в «Эпохе» было опубликовано семь таких очерков. Первая публикация, которую Достоевский снабдил примечанием, была посвящена процессу над Пьером-Франсуа Ласенером (1800—1836), приговорённым судом в Париже за воровство и убийства к смертной казни. Преступник этот примечателен был кроме всего прочего тем, что писал в заключении стихи и мемуары, в которых изобразил себя «жертвой общества» и «мстителем». Образ Ласенера, о котором в «Примечании» сказано как о «личности человека феноменальной, загадочной, страшной и интересной», в какой-то мере был использован Достоевским при работе над образами некоторых героев будущих произведений, в первую очередь – Раскольникова.
Пушкин
(Очерк). Произнесено 8 июня в заседании Общества любителей российской словесности.МВед, 1880, № 162, 13 июня. (XXVI)
С 6 по 8 июня 1880 г. в Москве проходили торжества по случаю открытия памятника А. С. Пушкину работы А. М. Опекушина. В празднестве приняли участие за малым исключением все крупнейшие писатели земли русской – Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, А. Н. Островский, Д. В. Григорович, А. Ф. Писемский, Я. П. Полонский, А. Н. Майков, А. Н. Плещеев и др. Впрочем, к «малому» исключению принадлежали И. А. Гончаров (по болезни) и Л. Н. Толстой с М. Е. Салтыковым-Щедриным, не пожелавшие участвовать в празднике в силу своих убеждений. Достоевский, прервав работу над «Братьями Карамазовыми» и уединившись в Старой Руссе, на едином дыхании за неделю (с 13 по 21 мая) написал свою «Пушкинскую речь». В Москву он приехал 23 мая, ещё не зная, что из-за кончины императрицы Марии Александровны (жены Александра II) пушкинские торжества перенесены с 25 мая на более поздний срок. Речь свою писатель, к счастью не уехавший обратно в Петербург, как поначалу намеревался, произнёс 8 июня – на второй день юбилейного заседания Общества любителей российской словесности. Ещё только работая над текстом речи, Достоевский писал К. Д. Победоносцеву (19 мая 1880 г.): «Приехал же сюда в Руссу не на отдых и не на покой: должен ехать в Москву на открытие памятника Пушкина, да при этом ещё в качестве депутата от Славянского благотворительного общества. И оказывается, как я уже и предчувствовал, что не на удовольствие поеду, а даже, может быть, прямо на неприятности. Ибо дело идет о самых дорогих и основных убеждениях. Я уже и в Петербурге мельком слышал, что там в Москве свирепствует некая клика, старающаяся не допустить иных слов на торжестве открытия, и что опасаются они некоторых ретроградных слов, которые могли бы быть иными сказаны в заседаниях Люб<ителей> российской словесности, взявших на себя всё устройство праздника. Меня же именно приглашал председатель Общества и само Общество (официальной бумагою) говорить на открытии. Даже в газетах уже напечатано про слухи о некоторых интригах. Мою речь о Пушкине я приготовил, и как раз в самом крайнем духе моих (наших то есть, осмелюсь так выразиться) убеждений, а потому и жду, может быть, некоего поношения. Но не хочу смущаться и не боюсь, а своему делу послужить надо и буду говорить небоязненно. Профессора ухаживают там за Тургеневым, который решительно обращается в какого-то личного мне врага. <…> Впрочем, что Вас утруждать мелкими сплетнями. Но в том-то и дело, что тут не одни только сплетни, а дело общественное и большое, ибо Пушкин именно выражает идею, которой мы все (малая кучка пока ещё) служим, и это надо отметить и выразить: это-то вот им и ненавистно. Впрочем, может быть, просто не дадут говорить. Тогда мою речь напечатаю…»
Достоевскому не только дали говорить – его выступление стало апофеозом всего празднества. С первых же слов речи «“Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа”, – сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое…», – и до заключительных: «Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унёс с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем», – переполненный зал Дворянского собрания слушал Достоевского буквально затаив дыхание и периодически взрываясь громом аплодисментов. А вроде бы, на первый взгляд, оратор не говорил ничего особенного или совершенно нового. Сам писатель, публикуя свою речь в виде очерка в единственном выпуске «Дневника писателя» за 1880 г., предварил её «Объяснительным словом», где по пунктам обозначил главные темы речи: «1) То, что Пушкин первый своим глубоко прозорливым и гениальным умом и чисто русским сердцем своим отыскал и отметил главнейшее и болезненное явление нашего интеллигентного, исторически оторванного от почвы общества, возвысившегося над народом. Он отметил и выпукло поставил перед нами отрицательный тип наш, человека, беспокоящегося и не примиряющегося, в родную почву и в родные силы её не верующего, Россию и себя самого (то есть своё же общество, свой же интеллигентный слой, возникший над родной почвой нашей) в конце концов отрицающего, делать с другими не желающего и искренно страдающего. Алеко и Онегин породили потом множество подобных себе в нашей художественной литературе… <…> 2) Он первый (именно первый, а до него никто) дал нам художественные типы красоты русской, вышедшей прямо из духа русского, обретавшейся в народной правде, в почве нашей, и им в ней отысканные. Свидетельствуют о том типы Татьяны, женщины совершенно русской, уберегшей себя от наносной лжи, типы исторические, как, например, Инок и другие в “Борисе Годунове”, типы бытовые, как в “Капитанской дочке” и во множестве других образов <…>. Главное же, что надо особенно подчеркнуть, – это то, что все эти типы положительной красоты человека русского и души его взяты всецело из народного духа… <…> Третий пункт, который я хотел отметить в значении Пушкина, есть та особая характернейшая и не встречаемая кроме него нигде и ни у кого черта художественного гения – способность всемирной отзывчивости и полнейшего перевоплощения в гении чужих наций, и перевоплощения почти совершенного… <…> 4) Способность эта есть всецело способность русская, национальная, и Пушкин только делит её со всем народом нашим, и, как совершеннейший художник, он есть и совершеннейший выразитель этой способности, по крайней мере в своей деятельности, в деятельности художника. Народ же наш именно заключает в душе своей эту склонность к всемирной отзывчивости и к всепримирению и уже проявил её во всё двухсотлетие с петровской реформы не раз…»
Сам писатель вечером того же 8 июня по горячим следам дрожащими от волнения руками описывал А. Г. Достоевской происшедшее так: «Утром сегодня было чтение моей речи в «Любителях». Зала была набита битком. Нет, Аня, нет, никогда ты не можешь представить себе и вообразить того эффекта, какой произвела она! Что петербургские успехи мои! Ничто, нуль сравнительно с этим! Когда я вышел, зала загремела рукоплесканиями и мне долго, очень долго не давали читать. Я раскланивался, делал жесты, прося дать мне читать – ничто не помогало: восторг, энтузиазм (всё от «Карамазовых»!). Наконец я начал читать: прерывали решительно на каждой странице, а иногда и на каждой фразе громом рукоплесканий. Я читал громко, с огнём. Всё, что я написал о Татьяне, было принято с энтузиазмом. (Это великая победа нашей идеи над 25-летием заблуждений!). Когда же я провозгласил в конце о всемирном единении людей, то зала была как в истерике, когда я закончил – я не скажу тебе про рёв, про вопль восторга: люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а любить. Порядок заседания нарушился: всё ринулось ко мне на эстраду: гранд-дамы, студентки, государственные секретари, студенты – всё это обнимало, целовало меня. Все члены нашего общества, бывшие на эстраде, обнимали меня и целовали, все, буквально все плакали от восторга. Вызовы продолжались полчаса, махали платками, вдруг, например, останавливают меня два незнакомые старика: “Мы были врагами друг друга 20 лет, не говорили друг с другом, а теперь мы обнялись и помирились. Это вы нас помирили, Вы наш святой, вы наш пророк!”. “Пророк, пророк!” – кричали в толпе. Тургенев, про которого я ввернул доброе слово в моей речи, бросился меня обнимать со слезами. Анненков подбежал жать мою руку и целовать меня в плечо. “Вы гений, вы более чем гений!” – говорили они мне оба. Аксаков (Иван) вбежал на эстраду и объявил публике, что речь моя – есть не просто речь, а историческое событие! Туча облегала горизонт, и вот слово Достоевского, как появившееся солнце, всё рассеяло, всё осветило. С этой поры наступает братство и не будет недоумений, “Да, да!” – закричали все и вновь обнимались, вновь слёзы. Заседание закрылось. Я бросился спастись за кулисы, но туда вломились из залы все, а главное женщины. Целовали мне руки, мучали меня. Прибежали студенты. Один из них, в слезах, упал передо мной в истерике на пол и лишился чувств. Полная, полнейшая победа! Юрьев (председатель) зазвонил в колокольчик и объявил, что Общество люб<ителей> рос<сийской> словесности единогласно избирает меня своим почётным членом. Опять вопли и крики. После часу почти перерыва стали продолжать заседание. Все было не хотели читать. Аксаков вошел и объявил, что своей речи читать не будет, потому что всё сказано и всё разрешило великое слово нашего гения – Достоевского. Однако мы все его заставили читать. Чтение стало продолжаться, а между тем составили заговор. Я ослабел и хотел было уехать, но меня удержали силой. В этот час времени успели купить богатейший, в 2 аршина в диаметре лавровый венок, и в конце заседания множество дам (более ста) ворвались на эстраду и увенчали меня при всей зале венком: “За русскую женщину, о которой вы столько сказали хорошего!”. Все плакали, опять энтузиазм. Городской глава Третьяков благодарил меня от имени города Москвы. – Согласись, Аня, что для этого можно было остаться: это залоги будущего, залоги всего, если я даже и умру…»
Эти сведения подтверждаются многочисленными воспоминаниями свидетелей триумфа Достоевского. Однако ж, уже через несколько дней и особенно после публикации текста речи в «Московских ведомостях» она вызвала острую полемику, что побудило автора выпустить в августе специальный выпуск ДП с текстом «Пушкинской речи» и своими комментариями к ней. Но это только подлило масла в разгоревшийся спор вокруг неё, который не утихал практически до последних дней жизни Достоевского.
Пушкинская речь
См. Пушкин (Очерк).
Пьяненькие
Неосущ. замысел, 1864. (VII)
Наброски к роману под таким заглавием появились в рабочей тетради в 1864 г. После краха журнала «Эпоха» Достоевский, надеясь получить аванс под будущее произведение, предлагал издателям «Санкт-Петербургских ведомостей» В. Ф. Коршу и журнала «Отечественные записки» А. А. Краевскому свой новый роман. В частности, последнему он писал 8 июня 1865 г.: «Роман мой называется “Пьяненькие” и будет связан с теперешним вопросом о пьянстве. Разбирается не только вопрос, но представляются и все его разветвления, преимущественно картины семейств, воспитание детей в этой обстановке…» Предложение издателями было отклонено, а замысел «Пьяненьких» впоследствии влился в состав «Преступления и наказания» в качестве сюжетной линии, связанной с семейством Мармеладовых.
Рассказ Плисмылькова
См. Ползунков.
Рассказы Н. В. Успенского
Статья. Вр, 1861, № 12, без подписи. (XIX)
Как и статья «Выставка в Академии художеств за 1860—61 год», данная статья не была включена Н. Н. Страховым в список анонимных статей Достоевского, опубликованных в журналах «Время» и «Эпоха», составленный им по просьбе А. Г. Достоевской для первого посмертного издания мужа. Авторство Достоевского по содержанию и стилистическим признакам установлено позже (в частности, – Л. П. Гроссманом). Статья написана в связи с выходом первого сборника рассказов Н. В. Успенского (Рассказы Н. В. Успенского, ч. 1—2, СПб., 1861), в который вошли произведения молодого писателя-демократа, опубликованные в «Современнике». Книга эта стала событием в литературной и общественной жизни России того времени, вызвала в печати многочисленные отклики и полемику. Споры в основном шли о задачах и способах изображения народа, народной жизни в литературе. Говоря об Успенском, Достоевский проводит мысль, что русская литература «не доросла ещё до широкого и глубокого взгляда» на народ: «Да не подумает, впрочем, читатель, что мы хоть сколько-нибудь сравниваем его с Островским, Тургеневым, Писемским и т. д. Предшествовавшие ему замечательные писатели, о которых мы сейчас говорили, сказали во сто раз более, чем он, и сказали верно, и в этом их слава. И хоть они все вместе взглянули на народ вовсе не так уж слишком глубоко и обширно (народа так скоро разглядеть нельзя, да и эпоха не доросла еще до широкого и глубокого взгляда), но, по крайней мере, они взглянули первые, взглянули с новых и во многом верных точек зрения, заявили в литературе сознательно новую мысль высших классов общества о народе, а это для нас всего замечательнее. Ведь в этих взглядах наше всё: наше развитие, наши надежды, наша история…» Успенский, считает Достоевский, в изображении народа руководствуется самыми лучшими чувствами и побуждениями, но… И писатель-критик высказывает мнение, которое перекликается с его кредо, уже высказанным в статье о выставке в Академии художеств: для правды изображения жизни мало одной фотографичности (одного «дагерротипизма»). И в конце статьи-рецензии высказаны пожелания и надежды: «Не знаем, разовьётся ли далее г-н Успенский. То, что движет его внутренне, – верно и хорошо. Он подходит к народу правдиво и искренно. Вы это чувствуете. Но может ли он взглянуть глубже и дальше, сказать собственно своё, не повторять чужого, и, наконец, суждено ли ему развиться художественно? Суждено ли ему развить в себе свою мысль и потом ясно, осязательно её высказать? Всё это вопросы. Но задатки очень хороши; будем надеяться».
Роман в девяти письмах
С, 1847, № 1. (I)
Основные персонажи:
Евгений Николаевич;
Иван Петрович;
Пётр Иванович.
Это и вправду «роман», ибо, как выясняется на последней странице, главная интрига заключена в любви и супружеской измене; но не только в девяти письмах, а ещё и приплюсовано две записочки жён Петра Ивановича и Ивана Петровича к Евгению Николаевичу. Суть же в том, что пока два ловких шулера вели между собою переписку на тему, как бы им покапитальнее обчистить Евгения Николаевича в карты, тот, оказывается, весьма ловко и успешно наставлял им рога…
Эту шутливую вещицу молодой Достоевский написал в одну ночь в середине ноября 1845 г. для первого номера затеваемого Н. А. Некрасовым юмористического альманаха «Зубоскал». После запрещения последнего «Роман…», за который автор уже получил гонорар в размере 125 рублей ассигнациями, был опубликован в «Современнике». Вскоре после написания «Романа в девяти письмах», 16 ноября 1845 г., автор сообщал в письме к М. М. Достоевскому: «Вечером у Тургенева читался мой роман во всём нашем круге <…> и произвёл фурор…» Но сразу после публикации произведения оно вызвало разочарование у В. Г. Белинского, И. С. Тургенева и других членов «нашего круга», то есть кружка Белинского. Однако ж А. А. Григорьев в «Московском городском листке» (1847, № 52, 5 марта), обозревая январские и февральские номера журналов, выделил рассказ Достоевского из всех произведений натуральной школы и назвал его «прекрасным».
<Роман о князе и ростовщике>
Неосущ. замысел, 1869—1870. (IX)
Три фрагмента, условно объединённые этим названием, – промежуточное звено между планом «Жития Великого грешника» и замыслом «Бесов». Намечаемые здесь образы Князя, Красавицы, Воспитанницы, Учителя и других персонажей продолжали развиваться в планах «Зависти» и воплотились впоследствии в образы героев романа «Бесы».
<Роман о помещике>
Неосущ. замысел, 1868. (IX)
Короткий, в один абзац, набросок плана записан среди черновых материалов к «Идиоту». В сюжете, судя по первым словам («Помещик. Отца убили. Спорное поле…»), должны были отразиться детские воспоминания писателя о времени, когда родители приобрели сельцо Даровое, странные обстоятельства смерти отца, М. А. Достоевского. Романа о своём отце писатель так и не написал.

Даровое. Дом Достоевских.
Ростовщик
Неосущ. замысел, 1866. (V)
Набросок плана сделан в рабочей тетради в начале 1866 г. Намечался, судя по всему, бурный сюжет – с насмешками, оскорблениями, дуэлями и самоубийствами. Герои обозначены как: «Граф (Сол-б)», «Vielgors.» и «Данилов, О П.», над последним сверху приписано – «Черн.». Вероятно, прототипами персонажей должны были стать В. А. Соллогуб, М. Ю. Виельгорский, Н. Г. Чернышевский. В романе «Преступление и наказание», над которым писатель работал как раз в это время, тема ростовщичества играла важную роль, будет затрагиваться она и в романе «Идиот» (1867), замысле под условным названием «Роман о Князе и Ростовщике» (1870), «Подростке» (1875). Но ещё большую роль играла тема ростовщичества в жизни самого Достоевского. Взять только небольшой период его жизни из минувшего 1865 г.: 2-го апреля писатель относит к ростовщику Готфридту золотую булавку за 10 рублей серебром и под 5 процентов; 20-го апреля закладывает у того же Готфридта ещё одну булавку за ту же цену и под те же проценты; 15-го мая выпрашивает у ростовщицы Эриксан под заклад серебряных ложек 15 рублей – к Готфридту идти, видимо, уже невмоготу; но через пять дней, 20-го мая, Достоевский всё же опять обращается к Готфридту, однако ж – через посредника, свою знакомую П. П. Аникееву, и закладывает на этот раз ватное пальто за десятку… Нет, недаром писатель через полгода намеревался писать роман «Ростовщик» и не случайно в «Преступлении и наказании» образ процентщицы Алёны Ивановны получился столь полнокровен и отвратителен.
Рулетенбург
См. Игрок.
Ряд статей о русской литературе
Вр, 1861, № 1, 2, 7, 8, 11, без подписи. (XVIII, XIX)
Цикл из пяти частей включил в себя статьи: I. «Введение»; II. «Г-н —бов и вопрос об искусстве»; III, IV. «Книжность и грамотность»; V. «Последние литературные явления. Газета “День”»; «Вопрос об университетах». Достоевский ещё в Сибири замысливал писать циклы статей под названием «Письма об искусстве», «Письма из провинции». С первого же номера основанного вместе с братом М. М. Достоевским журнала «Время» писатель осуществляет давнюю идею под новым названием – «Цикл статей о русской литературе». По замыслу автора статьи-части цикла должны были регулярно появляться в каждом номере журнала, однако ж срочная работа над «Униженными и оскорблёнными», «Записками из Мёртвого дома», другими художественными и публицистическими произведениями, сложные обязанности редактора не позволили это сделать. В течение 1861 г. было написано только четыре статьи («Книжность и грамотность» состояла из двух частей), а с 1862 г. цикл уже не возобновлялся. На первый взгляд, в цикле нет единой скрепляющей идеи, но все статьи объединены одной кардинальной темой – русская литература, её развитие и состояние. Во всех статьях встречается немало автобиографических фрагментов – воспоминаний Достоевского о начале своего творческого пути, о периоде каторги и ссылки, ссылки на другие его произведения. Полемическая направленность «Ряда статей» выдержана в духе программы журнала братьев Достоевских, сформулированной в «Объявлении о подписке на журнал “Время” на 1861 год». Именно здесь, особенно во «Введении» и «Книжности и грамотности», уточняются и окончательно обосновываются положения «почвенничества». С позиций «почвенничества» ведётся в рамках цикла статей полемика с «Современником», «Отечественными записками», «Русским вестником», газетой «День». Именно такая позиция позволяла находить рациональное зерно как в политике западников, так и в направлении славянофилов, что обеспечило «Времени» уже на первом году издания успех у самой широкой читающей публики. «Введение», как и весь первый номер журнала братьев Достоевских, встретило доброжелательный приём в изданиях разных направлений. Положительные отклики появились в «Северной пчеле» (1861, № 54, 9 марта), «Московских ведомостях» (1861, № 13, 17 янв.), С (1861, № 1) и др. Только ОЗ в январском и затем в февральском номерах в обзорах С. С. Дудышкина по понятным причинам (в 1-м номере Вр содержалось немало иронических замечаний в их адрес) весьма придирчиво, в брюзгливом тоне оценили программные материалы нового журнала.
Сбритые бакенбарды
Неосущ. замысел, 1846. (XXVIII1).
В 1846 г. уйдя из «Отечественных записок», В. Г. Белинский собирался издать альманах «Левиафан», к участию в котором пригласил и Достоевского. Молодой писатель, в тот период как раз пожинавший первые упоительные плоды славы после публикации «Бедных людей» и «Двойника», был полон замыслов. В письме к брату М. М. Достоевскому от 1 апреля 1846 г. он, в частности, сообщает о своём сотрудничестве с Белинским: «Я пишу ему две повести: 1-я) “Сбритые бакенбарды”, 2-я) “Повесть об уничтоженных канцеляриях”, обе с потрясающим трагическим интересом и – уже отвечаю – сжатые донельзя. Публика ждет моего с нетерпением. Обе повести небольшие. <…> “Сбритые бакенбарды” я кончаю…» Вероятно, сюжет был вязан с указом императора Николая I (1837 г.) о запрете носить усы и бороды гражданским чинам. Увы, ни альманах не вышел, ни «Сбритые бакенбарды» так и не были кончены и черновик не сохранился. Отзвуки этого замысла можно обнаружить в «Селе Степанчикове и его обитателях», где полковник Ростанев по приказу Фомы Опискина вынужден был сбрить бакенбарды.
«Свисток» и «Русский вестник»
Статья. Вр, 1861, № 3, без подписи. (XIX)
Данная статья появилась в одном номере со статьёй «Образцы чистосердечия», непосредственно связана с нею и продолжает цикл публикаций «Времени» в ходе полемики с М. Н. Катковым и его журналом («Ответ “Русскому вестнику”», «По поводу элегической заметки “Русского вестника”»). Непосредственным поводом для написания данной статьи стало программное выступление «Русского вестника» (1861, № 1) «Несколько слов вместо “Современной летописи”», носившее подчёркнуто антидемократический характер и высмеивающее, уничижающее не только «Свисток» (сатирическое приложение к журналу «Современник»), но и содержащее выпады против всей русской литературы: по мнению Каткова, – «скудной», «ничтожной», неспособной на самобытное развитие. Вступая в спор о литературе Достоевский утверждает величие русской словесности и в первую очередь ведёт спор о значении творчества А. С. Пушкина не только с «Русским вестником», но и с «Современником», и с «Отечественными записками», предвосхищая своими формулировками будущую «Пушкинскую речь» (1880): «Русская мысль уже начала отражаться и в русской литературе, и так плодотворно, так сильно, что трудно бы, кажется, не заметить русскую литературу, а вы спрашиваете: “что такое русская литература?” Она началась самостоятельно с Пушкина. Возьмите только одно в Пушкине, только одну его особенность, не говоря о других: способность всемирности, всечеловечности, всеотклика. Он усвоивает все литературы мира, он понимает всякую из них до того, что отражает её в своей поэзии, но так, что самый дух, самые сокровеннейшие тайны чужих особенностей переходят в его поэзию, как бы он сам был англичанин, испанец, мусульманин или гражданин древнего мира…»
Село Степанчиково и его обитатели
Из записок неизвестного. Повесть. ОЗ, 1859, № 11, 12. (III)
Основные персонажи:
Бахчеев Степан Алексеевич;
Видоплясов Григорий;
Гаврила Игнатьевич;
Григорий (Гришка);
Ежевикин Евграф Ларионыч;
Ежевикина Настасья Евграфовна (Настенька);
Коровкин;
Крахоткин (генерал Крахоткин);
Крахоткина (генеральша Крахоткина);
Мизинчиков Иван Иванович;
Обноскин Павел Семёнович;
Обноскина Анфиса Петровна;
Опискин Фома Фомич;
Перепелицына Анна Ниловна (девица Перепелицына);
Ростанев Егор Ильич;
Ростанев Илья (Илюша);
Ростанева Александра (Сашенька);
Ростанева Прасковья Ильинична;
Сергей Александрович;
Татьяна Ивановна;
Фалалей.
Повествование состоит из двух частей, 18-ти глав (в 1-й – 12; во 2-й – 6) и ведётся от лица Сергея Александровича, племянника полковника Ростанева, который, приехав к дяде в имение, становится свидетелем-летописцем бурных событий. Уже в названиях некоторых глав подчёркнута водевильность содержания: «Про белого быка и про комаринского мужика», «Объяснение в любви», «Фома Фомич созидает всеобщее счастье» и пр. А суть происходящего в следующем: отставной полковник Ростанев, добрейшей души человек, живёт в своём сельце Степанчикове, но вместо того, чтобы наслаждаться счастьем и покоем, терпит тиранию своей маменьки генеральши Крахоткиной и ещё более тотальную тиранию ничтожного приживальщика – Фомы Фомича Опискина, фаворита генеральши-вдовы. Бедный полковник не смеет без его разрешения ни день рождения сына как следует отпраздновать, ни предложение любимой девушке сделать. Впрочем, воодушевлённый как раз пламенем любви к Настеньке и пристыженный племянником-гостем, Ростанев решается-таки на бунт против домашнего тирана, вышвыривает его из дому, но… то была лишь буря в стакане воды и в финале Фома опять возведён на трон…
«Село Степанчиково», вторая (после «Дядюшкиного сна») сибирская повесть Достоевского, написана в Семипалатинске в 1857—1859 гг. Предназначалась она поначалу для «Русского вестника». Писатель придавал ей большое значение, даже называл «романом» и писал М. М. Достоевскому (9 мая 1859 г.): «Этот роман, конечно, имеет величайшие недостатки и, главное, может быть, растянутость; но в чём я уверен, как в аксиоме, это то, что он имеет в то же время и великие достоинства и что это лучшее моё произведение. Я писал его два года (с перерывом в средине “Дядюшкина сна”). Начало и средина обделаны, конец писан наскоро. Но тут положил я мою душу, мою плоть и кровь. Я не хочу сказать, что я высказался в нём весь; это будет вздор! Ещё будет много, что высказать. К тому же в романе мало сердечного (то есть страстного элемента, как например в “Дворянском гнезде”), – но в нём есть два огромных типических характера, создаваемых и записываемых пять лет, обделанных безукоризненно (по моему мнению), – характеров вполне русских и плохо до сих пор указанных русской литературой. Не знаю, оценит ли Катков, но если публика примет мой роман холодно, то, признаюсь, я, может быть, впаду в отчаяние. На нём основаны все лучшие надежды мои и, главное, упрочение моего литературного имени. <…> Конечно, я могу очень ошибаться в моем романе и в его достоинстве, но на этом все мои надежды…» Однако ж и в «Русском вестнике» М. Н. Каткова, и затем в «Современнике» товарища юности Н. А. Некрасова новое произведение автора «Бедных людей» по достоинству не оценили, его условия приняты не были, и повесть появилась в конце концов в журнале А. А. Краевского, который заплатил по 120 рублей с листа. Надежды Достоевского на триумф «романа» у критики и читателей также не оправдались – он прошёл незамеченным. Свою роль сыграло и то, что фамилия автора была указана без инициалов, так что часть публики могла приписать авторство Михаилу Достоевскому, который регулярно публиковался в ОЗ как беллетрист. Только через много лет, уже после кончины автора, этому произведению и особенно образу Фомы Опискина было отдано должное. К примеру, Н. К. Михайловский в своей фундаментальной статье «Жестокий талант» (1882) причислил Опискина к классическим для Достоевского психологическим типам. Первые произведения Достоевского, написанные после долгих лет вынужденного молчания, после почти десяти лет каторги и солдатчины, оказались на удивление весёлыми по содержанию, юмористическими. В «Селе Степанчикове», в частности, большое место занимает пародия, в том числе и на Н. В. Гоголя и его «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847). Сам писатель объяснял «водевильность» и «незлобивость» первых своих послекаторжных повестей тем, что ужасно опасался цензуры (см. «Дядюшкин сон»).
<Сибирская тетрадь>
1852—1860. (IV).
Это – первая сохранившаяся так называемая рабочая (записная) тетрадь Достоевского – весь ранний архив писателя, арестованного 23 апреля 1849 г. за участие в кружке М. В. Петрашевского, попал в III Отделение и до нас не дошёл. Велась она тайно в Омском остроге (в основном в периоды, когда писатель-петрашевец лежал в госпитале) и затем в Семипалатинске, куда он был переведён рядовым в линейный полк. Представляет она собой 28 листов писчей бумаги, сшитых в самодельную тетрадку, без переплёта и без заглавия. Сам Достоевский в записной тетради 1872—1875 гг. упомянет о ней так: «Мою тетрадку каторжн<ую>». Содержится в ней 486 пронумерованных записей – в основном, словечки, выражения, мини-диалоги из каторжного мира («Переменил участь», «Придётся понюхать кнута» «Пробуровил тысячу»…), а также пометки автобиографического характера, касающиеся взаимоотношений писателя с будущей женой М. Д. Исаевой. Материалы «Сибирской тетради» особенно помогли Достоевскому при работе над «Записками из Мёртвого дома». Но не только. Подсчитано, что записи из «Каторжной тетрадки» использованы писателем в художественных текстах: «Село Степанчиково и его обитатели» – 55 раз; «Бесы» – 50; «Братья Карамазовы» – 32; «Подросток» – 28; «Преступление и наказание» – 21; «Униженные и оскорблённые» – 14; «Идиот» – 8; Дядюшкин сон» – 4; «Записки из подполья» – 2.
Скверный анекдот
Рассказ. Вр, 1862, № 11. (V)
Основные персонажи:
Зубиков Аким Петрович;
Клеопатра Семёновна;
Медицинский студент;
Млекопитаев;
Млекопитаева (дочь);
Млекопитаева (мать);
Никифоров Степан Никифорович;
Офицер;
Пралинский Иван Ильич;
Пселдонимов Порфирий Петрович;
Пселдонимова;
Сотрудник «Головешки»;
Трифон;
Шипуленко Семён Иванович.
Однажды в зимний петербургский вечер собрались в одном доме три «ваших превосходительства» за бокалом доброго вина и заспорили на животрепещущую тему – о либерализме, сближении с простым народом, гуманном отношении к подчинённым… Самый молодой из генералов и самый, как он считал, прогрессивный – Иван Ильич Пралинский, который горячее всех и ратовал за «сближение», возвращаясь из гостей домой в подпитом и благодушном настроении, попадает вдруг по воле случая и своему желанию на свадьбу своего подчинённого – чиновника Пселдонимова. И – лучше бы этого не делал: такой конфуз с ним произошёл, такой скверный анекдот случился, что ни приведи Господь – напился, буянил, глупости говорил и делал, на посмешище себя выставил со своим либерализмом. Так что наутро, на тяжелейшее угарное утро, увы, не осталось от мечтаний либеральных в генеральской похмельной душе и следа…
Рассказ был написан Достоевским в период, когда эйфория в обществе от либеральных реформ в России начала 1860-х исчезла-растворилась окончательно. Стало совершенно ясно, что высшие бюрократические круги, все эти «ваши превосходительства» как консервативного, так и либерального толка озабочены только тем, чтобы реформы не поколебали сущность прежних общественных отношений. «Скверный анекдот» по тематике близок «Сатирам в прозе» М. Е. Салтыкова-Щедрина, в которых период реформ назван «эпохой конфузов». И главная мысль сатирического рассказа Достоевского: так называемые реформы сверху обманули всех – и «пралинских», и «пселдонимовых».
Слабое сердце
Повесть. ОЗ, 1848, № 2. (II)
Основные персонажи:
Артемьева Елизавета Михайловна (Лизанька);
Мадам Леру;
Нефедевич Аркадий Иванович;
Шумков Василий Петрович (Вася);
Юлиан Мастакович.
В жизни Васи Шумкова, мелкого чиновника, писаря, наметился счастливый перелом: он сделал предложение любимой девушке, предложение принято, впереди свадьба, да и на службе всё хорошо – Вася с его чудесным каллиграфическим почерком пользуется благорасположением начальства, есть виды на повышение жалования… Да вот беда, и к свадьбе готовиться надо, и работу срочную закончить, а времени в обрез. Ну никак не успевает бедный Вася, как ни мучился. И ведь взбрело же, вскочило в голову несчастному, что его не просто накажут за нерадение, а – забреют в солдаты. Не выдержало слабое сердце, погиб Вася и вместо венца и семейной уютной квартирки отправился он прямиком на седьмую версту, в жёлтый дом, в небытие. А спешное дело, которое он переписывал, как потом выяснилось, не было таким уж спешным и вполне могло подождать…
«Слабое сердце» стоит в ряду других ранних произведений Достоевского с героями из чиновничьего мира – «Бедные люди», «Двойник», «Господин Прохарчин». С другой стороны, в этой повести продолжена тема «мечтательства» и тема Петербурга, заявленные прежде в «Петербургской летописи» и «Хозяйке», и которые будут затем продолжены в «Белых ночах». Не исключено, что в тот – «докаторжный» – период творчества Достоевский намеревался, по примеру О. де Бальзака с его «Человеческой комедией», создать повествовательный цикл со сквозными темами, связанными сюжетами, общими героями. По крайней мере, Юлиан Мастакович, перешедший в «Слабое сердце» из «Петербургской летописи» появится вскоре в «Ёлке и свадьбе». И уже в тот период молодой писатель, для которого главным было сказать в литературе своё «новое» слово, пытался определить именно свой путь, свою непохожесть на всех других писателей той эпохи. Достоевский, в конце концов, создал свой особый вид романа, резко отличающийся от типичного русского романа, создаваемого И. С. Тургеневым, Л. Н. Толстым, И. А. Гончаровым. И в этом плане получает дополнительный глубинный смысл его ироническая усмешка в первых же строках ранней повести «Слабое сердце»: «Автор, конечно, чувствует необходимость объяснить читателю, почему один герой назван полным, а другой уменьшительным именем<…> Но для этого было бы необходимо предварительно объяснить и описать и чин, и лета, и звание, и должность, и, наконец, даже характеры действующих лиц; а так как много таких писателей, которые именно так начинают, то автор предполагаемой повести, единственно для того чтоб не походить на них (то есть, как скажут, может быть, некоторые, вследствие неограниченного своего самолюбия), решается начать прямо с действия…» Конечно, камешек в огород И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова и других «некоторых» из окружения В. Г. Белинского, содержащийся в скобках, показывает, что суждение это сделано Достоевским в пылу и в азарте незаконченного спора, но высказанное кредо стало действительно правилом во всём творчестве писателя: описания занимают мизерную часть в его произведениях, на первом месте – действие и диалоги.
Первые критические отзывы на «Слабое сердце» были противоречивы: так, С. С. Дудышкин (ОЗ, 1849, № 1) назвал эту повесть наряду с «Белыми ночами» в числе лучших произведений за 1848 г., рецензент же «Современника» (1849, № 1) П. В. Анненков, напротив, признал новое произведение Достоевского слезливым, надуманным и вообще неудачным. Думается, в похвалах первого свою роль сыграло то, что повести были опубликованы в ОЗ, а в суровой критике второго – личные неприязненные отношения к автору. Правда, сам Достоевский в первое своё собрание сочинений (1860) «Слабое сердце» всё же не включил.
Славянофилы, черногорцы и западники, самая последняя перепалка
Статья. Вр, 1862, № 9, без подписи. (XX)
В войне с Турцией 1861—1862 гг. за свою независимость славянская Черногория потерпела поражение. В некоторых российских газетах, широко освещавших эти события, была объявлена подписка, сбор средств в пользу черногорцев. Как ни странно, зачинщицей доброго дела выступила газета крайне западнического направления «Современное слово» (1862, № 63), затем это объявление перепечатали другие издания самых разных направлений, в том числе и славянофильская газета «День». Но вместе с этим, между «Современным словом» и «Днём» вспыхнула резкая полемика по вопросу о помощи Черногории со взаимными упрёками и обвинениями в неискренности намерений. Достоевский, довольно язвительно прокомментировав эту не делающую чести ни славянофилам, ни западникам «перепалку», в конце убеждённо заявляет, что «западничество» и «славянофильство» со временем уступят место «почвенничеству»: «Мы верим, что эти две наивнейшие и невиннейшие теперь в мире теории умрут наконец сами собою, как две дряхлые ворчливые бабушки в виду молодого племени, в виду свежей национальной силы, которой они до сих пор не верят и с которой до сих пор, по привычке всех бабушек, обходятся как с несовершеннолетней малюткой…»

Каллиграфия Достоевского.
Смерть поэта (Идея)
Неосущ. замысел, 1869. (IX)
Замысел состоит из двух набросков планов произведения и одного диалога, предположительно отнесённого к этому замыслу. Заглавным героем должен был стать живущий в «углах» молодой человек, вся горькая судьба которого намечена одним ёмким предложением: «Поэт, 26 лет, бедность, заработался, воспаление в крови и нервы, чистый сердцем, не ропщет, умирает, брюхатая Жена и двое детей». Среди героев обозначены Атеист, Раскольник, Попик, Племянник, Доктор-нигилист и др., упоминается дважды фамилия С. Г. Нечаева. Первоначальный план данной повести возник в тесной связи с замыслом романа «Атеизм», затем частично вошёл в замысел <«Романа о Князе и Ростовщике»>.
Сон смешного человека
Фантастический рассказ. ДП, 1877, апрель. (XXV)
Основные персонажи:
Девочка;
Смешной человек;
Спутник.
По форме это – рассказ-монолог Смешного человека о том, как он открыл «истину». Однажды, в ноябрьский дождливый поздний вечер он возвращался голодный и уставший в свой угол, отогнал по дороге маленькую Девочку, которая умоляла его куда-то пойти, спасти её умирающую мать. Прогнал же он её потому, что «всё ему было всё равно» – он решил в этот вечер застрелиться. Но уже дома, в своей конуре от хозяев под крышей на пятом этаже, он начинает думать об этой девочке, не может никак прогнать её из памяти, момент самоубийства всё отодвигается и он незаметно для себя засыпает. И снится Смешному человеку, что он таки простреливает себе сердце из револьвера, его хоронят, но он продолжает всё понимать, чувствовать и ощущать. И вот могила разверзлась, кто-то увлекает его в фантастическом полёте через миры и пространства космоса на звезду-планету, которую пристально разглядывал он в тот вечер в разрыве туч. Планета та оказалась удивительно похожа на землю, только, в отличие от земли, люди там жили удивительно счастливо. И никогда Смешной человек «не видывал на нашей земле такой красоты в человеке», глаза этих людей «сверкали ясным блеском», лица «сияли разумом», в голосах их «звучала детская радость». И понял Смешной человек, что это «была земля, не осквернённая грехопадением», и люди здесь жили, как и предки землян когда-то, «в раю»… А далее герой «фантастического рассказа» с горечью, стыдом и ужасом вспоминает-рассказывает, как он развратил тамошних счастливых людей, привил им все пороки землян, погубил чудесную райскую планету… Но, к счастью, это был только сон. Проснувшись, Смешной человек понял, что обрёл-понял истину: «…я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. <…> Главное – люби других как себя <…> Если только все захотят, то сейчас всё устроится…» Так просто! Но Смешной человек, только ещё собираясь идти проповедовать эту простую истину, уже знает-предполагает, что его посчитают за сумасшедшего…
«Сон смешного человека» – единственное художественное произведение в ДП за 1877 г. Этот «фантастический рассказ» имеет такой же подзаголовок, как и «Кроткая», но здесь «фантастичность» не просто условное обозначение формы повествования, а художественный приём, суть произведения. Для понимания этого надо вспомнить суждение Достоевского из письма к Ю. Ф. Абаза от 15 июня 1880 г.: «Фантастическое должно до того соприкасаться с реальным, что Вы должны почти поверить ему. Пушкин, давший нам почти все формы искусства, написал «Пиковую даму» – верх искусства фантастического. И вы верите, что Германн действительно имел видение, и именно сообразное с его мировоззрением, а между тем, в конце повести, то есть прочтя её, Вы не знаете, как решить: вышло ли это видение из природы Германна, или действительно он один из тех, которые соприкоснулись с другим миром, злых и враждебных человечеству духов…» Недаром в черновых набросках к своему «фантастическому рассказу» Достоевский упомянул и Э. По, о «фантастическом реализме» которого писал за десять с лишним лет до того в <Предисловии к публикации «Три рассказа Эдгара Поэ»> в журнале «Время».
В «Сне смешного человека» с наибольшей силой отразились и сконцентрировались размышления Достоевского о «золотом веке», который, как он (вслед за А. Сен-Симоном, Ш. Фурье и другими утопистами при всём расхождении с их идеями-теориями) верил, находится не позади, а впереди человечества. При жизни Достоевского этот глубоко философский и просто прекрасный рассказ критика не удостоила вниманием.
Сороковины
Книга странствий. Неосущ. замысел, 1875—1877. (XVII)
Произведение, судя по небольшому наброску плана в записной тетради, должно было состоять из «мытарств» 1-го, 2-го и т. д. Замысел этот позже воплотился в какой-то мере в «Братьях Карамазовых» (кн. 9, гл. III—V и кн. 11, гл. IX), где показано «хождение души по мытарствам» Дмитрия Карамазова, а также в сцене встречи-диалога Ивана Карамазова с Чёртом.
Социализм и христианство
Неосущ. замысел, 1864—1865. (XX).
В записной тетради сохранилось несколько черновых набросков под таким заглавием. Судя по всему, в этой статье Достоевский намеревался развить ряд идей, содержащихся в «Зимних заметках о летних впечатлениях» и в записи от 16 апреля 1864 г. «Маша лежит на столе…» В плане статьи намечены многие вопросы, важные для понимания мировоззрения Достоевского в 1860—1870-е гг.
Стена на стену
Статья. Гр, 1873, № 24, 11 июня, без подписи. (XXI)
Заглавие статьи связано с заметкой в № 145 «Русского мира», в которой сообщалось о кулачном бое «стенка на стенку» в подмосковной деревне Свистухе со смертоубийством одного из участников. Об этом случае Достоевский упоминал в статье «Пожар в селе Измайлове». На этот раз редактор «Гражданина» вновь обращается к сообщениям в газетах «Русский мир», «Биржевые ведомости», «Современность» о случаях нелепых разборок-тяжб, самоуправства, преступлений, о начальниках-самодурах и дворянах-преступниках, чтобы поднять вопрос о падении нравов. Достоевский с горькой иронией констатирует, что «рыцарские обычаи уничтожаются повсеместно и мы демократизируемся повсеместно». И ещё: «Вся Россия заражена в известном смысле страшною мнительностью, во всех сословиях и во всех занятиях и именно насчёт власти. Каждый думает про себя: “А ну как подумают про меня, что у меня не так много власти?..»
Столетняя
Рассказ. ДП, 1876, март, гл. первая, II. (XXII)
Основные персонажи:
Дама;
Макарыч;
Марья Максимовна;
Миша;
Пётр Степанович;
Сергей.
Одна знакомая Дама (по свидетельству А. Г. Достоевской, это была она) рассказала автору, как встретила в одно утро несколько раз одну и ту же древнюю старушку, куда-то упорно с передышками-остановками поспешающую. Порасспросила её, пятачок подала (хотя старушка и не нищенка) и оказалось, что бабушке этой уже сто четыре годочка, из дому уже редко выходит, а тут – «тепло, солнышко светит» и решила она: «дай пойду к внучкам пообедать». И вот никак у писателя из ума не идёт рассказ об этой «столетней», полной «душевной силы», и в воображении дорисовал он «продолжение о том, как она дошла к своим пообедать». Он придумал-домыслил и внучку, и её мужа-цирюльника, и трёх детишек, и гостя, который сидел у них, когда бабушка пришла, всем имена дал. И получилась «правдоподобная меленькая картинка» – светлая и печальная одновременно – о том, как эту душевную столетнюю старушку сподобил Господь Бог добраться в солнечный день до дома внучки, и там прямо во время разговора с ними умереть – окончить свой путь земной тихо и без мучений, среди родных и близких людей…
У Тихона
Глава из романа «Бесы». (XI)
Основные персонажи:
Лебядкин Игнат Тимофеевич;
Лебядкина Марья Тимофеевна;
Матрёша;
Ставрогин Николай Всеволодович;
Тихон (отец Тихон).
В главе, которая должна была быть девятой, рассказывается, как Ставрогин посетил живущего в монастыре на покое архиерея Тихона и дал прочесть ему свою исповедь. В этой откровенной и циничной до предела исповеди Ставрогин признавался-живописал, как несколько лет тому назад изнасиловал 14-летнюю Матрёшу, затем спокойно наблюдал в щёлку, как девочка эта вешается, а через некоторое время женился на убогой и хромой Марье Лебядкиной. Редакция «Русского вестника» отказалась публиковать уже набранную главу, несмотря даже и на то, что Достоевский переделывал-смягчал текст. А между тем, глава эта имеет чрезвычайно важное значение для характеристики Ставрогина, и мыслилась автором как идейный и композиционный центр романа. Однако ж в дальнейшем, при отдельном издании романа, Достоевский главу «У Тихона» почему-то так и не восстановил. Сохранилась она в виде гранок декабрьской книжки РВ за 1871 г. с правкой Достоевского и в виде копии, сделанной А. Г. Достоевской с рукописи и не доведённая до конца.
Униженные и оскорблённые
Роман в четырёх частях с эпилогом. Вр, 1861, № 1—7, с подзаголовком: «Из записок неудавшегося литератора» и посвящением М. М. Достоевскому. (III)
Основные персонажи:
Азорка;
Александр Петрович;
Александра Семёновна;
Архипов;
Безмыгин;
Бубнова Анна Трифоновна (мадам Бубнова);
Валковский Алексей Петрович (Алёша);
Валковский Пётр Александрович (князь Валковский);
Иван Петрович;
Ихменев Николай Сергеевич;
Ихменева (Шумилова) Анна Андреевна;
Ихменева Наталья Николаевна (Наташа);
Маслобоев Филипп Филиппович;
Матрёна;
Митрошка;
Нелли (Елена);
Сизобрюхов Степан Терентьевич;
Смит Иеремия;
Филимонова Катерина Фёдоровна (Катя).

Бедный и больной литератор Иван Петрович, находясь при смерти в больнице, пишет-вспоминает о событиях последнего года. Все эти «прошедшие впечатления» волнуют его «до боли, до муки», и если бы он не изобрёл себе «этого занятия» – написать нечто вроде романа о происшедшем, – он бы «умер с тоски». А произошло вот что. Иван Петрович рано остался сиротой и вырос в семье мелкопоместного помещика Ихменева, которая стала ему как родной, а единственная их дочь, Наташа, – вместо сестры. И вот два года назад, когда Иван уже жил в Петербурге и только-только «выскочил в литераторы», его первый роман (судя по пересказу, очень напоминающий «Бедные люди») имел успех, разорившийся Ихменев с семьёй перебрался в столицу – искать справедливости, вести тяжбу с разорителем. А им, обидчиком, был сосед по имениям князь Валковский. Тяжба приняла затяжной и невыгодный для старика Ихменева характер. А между тем, у Наташи Ихменевой (которую Иван Петрович, конечно же, давно и горячо любил совсем не как сестру) вспыхивает страстный роман с молодым князем Алёшей Валковским, она сбегает от родителей к нему. У Алёши же, в свою очередь, есть невеста Катя, которую он любит. Но он и Наташу полюбил, казалось бы, больше жизни – даже наперекор отцу. А Иван Петрович, махнув рукой на личное счастье, помогает Наташе и Алёше выстоять в борьбе с деспотизмом родителей, поддерживает их. Для него главнее ничего на свете нет – лишь бы его любимая была счастлива. А теперь о Нелли. Эта нищая девочка появилась в судьбе Ивана Петровича тоже год назад. Он случайно познакомился с её дедом в день его смерти и взял как бы опекунство над девочкой, оставшейся совсем сиротой. Но, как выясняется по ходу повествования, не совсем уж она сирота, ибо отцом-то её является никто другой, как всё тот же князь Валковский. Но настоящую семью обретает Нелли, ставшая Леной, в доме Ихменевых… Однако ж кончается всё грустно: процесс Валковскому проигран, Наташа молодым князем брошена, Нелли умерла, Иван Петрович остаётся один, дни его сочтены, «Униженные и оскорблённые» – его лебединая песня…
Ещё из Сибири (8 нояб. 1857 г.) Достоевский писал старшему брату М. М. Достоевскому, что собирается написать «роман из петербургского быта, вроде “Бедных людей” (а мысль ещё лучше “Бедных людей”)…» Но приступил он к работе над романом уже в Петербурге в мае 1860 г. и завершил в июле 1861-го. Роман имел большой успех у читающей публики и способствовал быстрому росту тиража журнала «Время». Мнения критиков, естественно, разделились. Одними из первых и доброжелательно оценили новый роман автора «Бедных людей»: Н. Г. Чернышевский (С, 1861, № 2) и А. Н. Плещеев (МВед, 1861, № 13, 17 янв.), А. Хитров («Сын отечества», 1861, № 9) и др. А вот Г. А. Кушелев-Безбородко (РСл, 1861, № 9), Н. А. Добролюбов (С, 1861, № 9), Е. Тур («Русская речь», 1861, № 11) и ряд других рецензентов, наоборот, признавая занимательность романа, находили в нём серьёзные, на их взгляд, недостатки – надуманность сюжета, немотивированность поведения героев, мелодраматический колорит. О том, как близко к сердцу принимал Достоевский подобные отзывы, можно судить по его признанию в «Примечании <к статье Н. Страхова “Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве”>», сделанному спустя три года: «Совершенно сознаюсь, что в моём романе выставлено много кукол, а не людей, что в нём ходячие книжки, а не лица, принявшие художественную форму (на что требовалось действительно время и выноска идей в уме и в душе). В то время как я писал, я, разумеется, в жару работы, этого не сознавал, а только разве предчувствовал. Но вот что я знал наверно, начиная тогда писать: 1) что хоть роман и не удастся, но в нём будет поэзия, 2) что будет два-три места горячих и сильных, 3) что два наиболее серьёзных характера будут изображены совершенно верно и даже художественно. Этой уверенности было с меня довольно. Вышло произведение дикое, но в нём есть с полсотни страниц, которыми я горжусь…» И далее автор, отдав всю какую только можно дань скромности, позволяет вылиться из-под своего пера и фразе, наполненной достоинством и сдержанной авторской гордостью: «Произведение это обратило, впрочем, на себя некоторое внимание публики…» Невольно подумаешь – если бы та же Евгения Тур (Е. В. Салиас-де-Турнемир), посчитавшая высокомерно, что-де «Униженные и оскорблённые» «не выдерживают ни малейшей художественной критики», вместо своих пухлых «художественных» романов («Племянница», «Три поры жизни» и пр.) написала бы, создала только одно произведение уровня и значимости этого «петербургского романа» Достоевского, она уже не была бы сейчас так прочно и безнадёжно забыта…
«Униженные и оскорблённые» – первый большой, со сложным разветвлённым сюжетом роман писателя, это как бы репетиция, проба, подступ к романам, которые составят «великое пятикнижие» Достоевского, принесут ему всемирную известность. Недаром в «Униженных и оскорблённых» вспоминается творческая история самого первого романа писателя – «Бедные люди», – недаром возникает и своеобразная перекличка между заглавиями. Достоевский как бы подводит итог своему раннему периоду творчества, оценивает его и окончательно завершает.
Хозяйка
Повесть. ОЗ, 1847, № 10, 12. (I)
Основные персонажи:
Алексей (Алёша);
Дворник-татарин;
Катерина;
Кошмаров;
Мурин Илья;
Ордынов Василий;
Ярослав Ильич.
В повести, состоящей из двух частей, много таинственного, недосказанного, мистического. Молодой человек по фамилии Ордынов решил переменить квартиру и снял угол от жильцов в квартире некоего Мурина, у которого в прошлом была какая-то мрачная история и который на поверку оказывается чуть ли не колдуном. Странная у Мурина и молодая жена Катерина (дворник-татарин так прямо считает её сумасшедшей) и тоже со своей мрачно-таинственной историей в прошлом. Между Ордыновым и Катериной вспыхивают-начинаются вдруг болезненные мучительные отношения – горячечная какая-то любовь. И, конечно, – ревность со стороны старого мужа, дело чуть не доходит до смертоубийства. Но всё заканчивается лишь разлукой – Ордынов съезжает от Муриных, переносит тяжелейшую болезнь, чудом выживает, а через некоторое время узнаёт, что Мурины уехали из Петербурга…
Достоевскому, после упоительного успеха «Бедных людей», суждено было испить горькую чашу: В. Г. Белинский, а вслед за ним и большинство читателей и критиков считали каждое его последующее произведение всё более неудачным. Молодой писатель после очередного провала с повестью «Господин Прохарчин» отказывается от прежних аналогичных замыслов, от «повторения старого», как напишет он в 20-х числах октября М. М. Достоевскому, и с вдохновением пишет-создаёт «Хозяйку». Вместо бедного униженного чиновника в герои взят «мечтатель», что внесло в типичную «петербургскую» повесть с элементами «физиологического очерка» струю романтизма. Кроме того, в этом произведении впервые у Достоевского столь много внимания уделено анализу внутреннего психологического состояния героя, исследованию самых потаённых «извивов» его души. Определённое воздействие на стиль (близкий фольклорному) и колорит повести оказало раннее творчество Н. В. Гоголя, особенно – «Страшная месть».
Увы, надежды Достоевского на успех своего необычного произведения провалились. Белинский первый и беспощадно осудил его «романтический» опыт в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» (С, 1848, № 1, 3): «…автор хотел попытаться помирить Марлинского с Гофманом, подболтавши сюда немного юмору в новейшем роде и сильно натеревши всё это лаком русской народности <…> Во всей этой повести нет ни одного простого и живого слова или выражения: всё изысканно, натянуто, на ходулях, поддельно и фальшиво…» В письмах же к друзьям (В. П. Боткину, П. В. Анненкову) «неистовый Виссарион» и вовсе не церемонился, называя «Хозяйку» «мерзостью» и «страшной ерундой». Из критиков разве только А. А. Григорьев, уже тогда более чутко понимающий творчество Достоевского, как достоинство повести отметил её «тревожную лихорадочность» (РСл, 1859, № 5).
Честный вор
(Из записок неизвестного). Рассказ. ОЗ, 1848, № 4, под заглавием: «Рассказы бывалого человека. (Из записок неизвестного). I. Отставной. II. Честный вор». (II)
Основные персонажи:
Аграфена;
Астафий Иванович;
Емельян Ильич (Емеля);
Костоправов;
Неизвестный.
Астафий Иванович, отставной солдат и бывший дворецкий, оставшись без места, зарабатывает на хлеб шитьём. По доброте душевной приютил он в своём углу пьянчужку Емелю, с которым сошёлся-познакомился случайно в харчевне. Тот, конечно, благодарен без меры, держит себя тихо, скромно, «ветошкой», лишнего не просит, всё по кабакам ходит пьёт горькую и почти не ест. Только однажды пропали у Астафия Ивановича только что пошитые рейтузы из сундука. Емельян клянётся-божится – не он украл. А сам пьян и нос в табаке. Так и не признался и вовсе пропал из дому. А через пять дней возвратился, трезвый, похмельный, в мучительном раздумье, всё маялся какой-то думой, даже выпить чарку, поднесённую добрейшим Астафием Ивановичем, наотрез отказался, в конце концов слёг от переживаний в смертельном недуге и уже перед самой кончиной признался-таки: он, он украл злополучные портки – согрешил…
Достоевский задумывал цикл произведений, объединённых образом повествователя – Неизвестного. Кроме «Рассказов бывалого человека» он появляется ещё в «Ёлке и свадьбе». Сами же «Рассказы бывалого человека» должны были, судя по всему, состоять из трёх произведений, объединённых, в свою очередь, героем по имени Астафий Иванович. В первом рассказе, под названием «Отставной» (текст его публикуется в ПСС в примечаниях к «Честному вору»), Астафий Иванович вспоминает о своём солдатском прошлом и об участии в войне против Наполеона. Во втором, под названием «Домовой», герой уже оставил солдатскую службу, живёт в Петербурге, работает на фабрике. Третьим и был «Честный вор», события в котором происходят «тому назад года два», когда Астафий Иванович, уже побывав в дворецких у одного барина, был без места и встретился с Емелей, и эту горькую историю рассказывает он Неизвестному, у которого, в свою очередь, является теперь жильцом и нахлебником. Замысел «Домового» не был осуществлён (сохранилось в рукописи лишь начало), и в ОЗ появились только две части. Для издания 1860 г. Достоевский объединил оба рассказа под общим заглавием «Честный вор (Из записок неизвестного)». Название это перекликается с популярной комедией-водевилем Д. Т. Ленского «Честный вор» (1829). П. В. Анненков в обзоре «Заметки о русской литературе прошлого года» (С, 1849, № 1) весьма благожелательно оценил «Честного вора», и это был единственный отзыв о рассказе Достоевского в критике 1840-х гг.
Чтобы кончить
Последнее объяснение с «Современником». Статья. Э, 1864, № 9, без подписи. (XX)
Данное «объяснение» стало действительно последним в полемике Достоевского с «Современником», начатой статьёй «Молодое перо» и продолженной статьями «Опять “Молодое перо”», «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах», «Необходимое заявление». На последнюю из них и заметку в том же номере «Эпохи» (1864, № 7) Н. Н. Страхова «Мрак неизвестности (Заметки летописца)» М. А. Антонович («Посторонний сатирик») разразился пятью статьями, объединённых заглавием «Литературные мелочи», в 9-м номере «Современника». В окончательном ответе редактора «Эпохи» язвительно подчёркивается эта несоразмерность затраченных полемических средств: «Господа Современники, в июльской книге нашей по поводу двух ваших статей об “Эпохе”, сотрудник наш Ф. Достоевский написал о вас заявление, самое необходимое, – в три страницы. На это вы ответили полемикой ровно в сорок восемь страниц! <…> Сорок восемь страниц ответа на три страницы! И неужели вы не сообразили, что это не только бестактно, но и бездарно; что можно отвечать и двумя страницами, но так, что и на двух страницах (если вы правы) можно совершенно разрушить своего противника…» В дальнейшем, вплоть до закрытия «Эпохи», полемику с Антоновичем вёл Страхов.
Чужая жена и муж под кроватью
(Происшествие необыкновенное). Рассказ. Впервые как два отдельных рассказа: 1) «Чужая жена. (Уличная сценка)», ОЗ, 1848, № 1; 2) «Ревнивый муж. (Происшествие необыкновенное)», ОЗ, 1848, № 11. (II)
Основные персонажи:
Александр Демьянович;
Амишка;
Бобыницын;
Половицын;
Творогов Иван Ильич;
Шабрин Иван Андреевич;
Шабрина Глафира Петровна.
Болезненно ревнивый муж, пытаясь выследить жену, сначала знакомится сразу с двумя её любовниками, а в другой раз и вовсе по ошибке попадает совершенно в чужую квартиру и сам оказывается под кроватью в роли прячущегося от мужа любовника, причём, с изумлением обнаруживает, что прячется под кроватью не один…
Судя по начальным строкам рассказа «Ревнивый муж», опущенные при слиянии его с рассказом «Чужая жена» (в издании 1860 г.), эти произведения входили в цикл, объединённых рассказчиком Неизвестным, и были, таким образом, связаны с «Ёлкой и свадьбой» и «Честным вором». При объединении двух рассказов «Ревнивый муж» был значительно сокращён. Это произведение, написанное на стыке сатирического фельетона и водевиля, наглядно подтверждает комический талант Достоевского, уже ярко проявившийся в «Бедных людях». Мало кто помнит проницательное суждение В. Г. Белинского о молодом Достоевском в рецензии на «Петербургский сборник» (ОЗ, 1846, № 3): «С первого взгляда видно, что талант г. Достоевского не сатирический, не описательный, но в высокой степени творческий и что преобладающий характер его таланта – юмор. <…> смешить и глубоко потрясать душу читателя в одно и тоже время, заставить его улыбаться сквозь слёзы, – какое умение, какой талант!..» Водевильное содержание подчёркнуто и характерным названием – автору хорошо были известны популярные водевили тех лет «Муж в камине, а жена в гостях», «Жена за столом, а муж под полом» и т. п. Этот свой «водевильный опыт» пригодится писателю позже при работе над первыми «послекаторжными» произведениями – «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково и его обитатели». Достоевский помнил, конечно, об успехе «Чужой жены» и «Ревнивого мужа» – С. С. Дудышкин, обозревая достижения русской литературы за 1848 г. (ОЗ, 1849, № 1), свидетельствовал, что публика их читала с удовольствием.
Шут
См. Ползунков.
Щекотливый вопрос
Статья со свистом, с превращениями и переодеваньями. Вр, 1862, № 10, без подписи. (XX)
Данная статья – кульминационная в полемике Достоевского с М. Н. Катковым и его «Русским вестником». Основной объём её занимает драматическая пародийная сцена, якобы приснившаяся автору: действие происходит в банкетном зале на обеде по подписке, Оратор (Катков) – произносит спич, который всё время сбивается на диалог-спор, ибо его беспрестанно перебивают то Нигилист, то Николай Филиппович (Павлов, редактор газеты «Наше время»), то разные другие голоса справа и слева. В этой мало известной современному читателю статье ярко проявился не только полемический талант Достоевского, но и талант драматурга (стоит вспомнить не дошедшие до нас его ранние драматические опыты «Мария Стюарт», «Борис Годунов» и «Жид Янкель») и блестящий дар пародиста (проявившийся ещё в «Бедных людях»).
Сатирический портрет Каткова, рисуемый здесь, был намечен ещё в «Ответе “Русскому вестнику”» (Вр, 1861, № 5), где об издателе РВ сказано: «Подумаешь, что ему приятнее всего, собственно, процесс, манера наставлений и болтовни…» В «Щекотливом вопросе» отправной точкой для Достоевского стала статья «Кто виноват?» в газете «Современное слово» (1861, № 99—102), в которой Катков объявлялся чуть ли не главным виновником зарождения и разгула нигилизма в России. Редактор «Времени» остроумно обыграл это абсурдное преувеличение, создав остросатирический портрет Каткова – англоманствующего тщеславного фразёра, равнодушного к России. Примечательно то, что Оратор-Катков из «Щекотливого вопроса» во многом напоминает тщеславного литератора-западника Кармазинова из будущего романа «Бесы», который будет публиковаться как раз на страницах катковского «Русского вестника» – ирония истории литературы.