Раздел II Персонажи

Ф. М. Достоевский. Фотография М Б. Туликова, 1861 г.
BLANCHE (mademoiselle Blanche; Бланш; m-lle Зельма) («Игрок»), француженка-авантюристка, предмет воздыханий Генерала, вместе со своим дружком и дальним родственником Де-Грие ловко использующая страсть старого ловеласа в корыстных целях. «Кто такая m-lle Blanche? Здесь у нас говорят, что она знатная француженка, имеющая с собой свою мать и колоссальное состояние. Известно тоже, что она какая-то родственница нашему маркизу, только очень дальняя, какая-то кузина или троюродная сестра. <…> M-lle Blanche красива собою. Но я не знаю, поймут ли меня, если я выражусь, что у ней одно из тех лиц, которых можно испугаться. По крайней мере я всегда боялся таких женщин. Ей, наверно, лет двадцать пять. Она рослая и широкоплечая, с крутыми плечами; шея и грудь у нее роскошны; цвет кожи смугло-желтый, цвет волос черный, как тушь, и волос ужасно много, достало бы на две куафюры. Глаза черные, белки глаз желтоватые, взгляд нахальный, зубы белейшие, губы всегда напомажены; от нее пахнет мускусом. Одевается она эффектно, богато, с шиком, но с большим вкусом. Ноги и руки удивительные. Голос ее – сиплый контральто. Она иногда расхохочется и при этом покажет все свои зубы, но обыкновенно смотрит молчаливо и нахально <…> Мне кажется, m-lle Blanche безо всякого образования, может быть даже и не умна, но зато подозрительна и хитра. Мне кажется, ее жизнь была-таки не без приключений. Если уж говорить все, то может быть, что маркиз вовсе ей не родственник, а мать совсем не мать…» В конце концов мадмуазель Бланш выскочила-таки замуж за генерала и успела до его скорой кончины перевести на себя все наследованные им капиталы…
О таких «опустившихся» парижанах, как m-lle Blanche и Де-Грие, Достоевский писал с сарказмом в «Зимних заметках о летних впечатлениях», в главах «Опыт о буржуа» и «Брибри и мабишь».
М-МЕ М* (Natalie) («Маленький герой»), замужняя дама, в которую влюбился Маленький герой. «М-me М* была тоже очень хороша собой, но в красоте ее было что-то особенное, резко отделявшее ее от толпы хорошеньких женщин; было что-то в лице ее, что тотчас же неотразимо влекло к себе все симпатии, или, лучше сказать, что пробуждало благородную, возвышенную симпатию в том, кто встречал ее. Есть такие счастливые лица. Возле нее всякому становилось как-то лучше, как-то свободнее, как-то теплее, и, однако ж, ее грустные большие глаза, полные огня и силы, смотрели робко и беспокойно, будто под ежеминутным страхом чего-то враждебного и грозного, и эта странная робость таким унынием покрывала подчас ее тихие, кроткие черты, напоминавшие светлые лица итальянских мадонн, что, смотря на нее, самому становилось скоро так же грустно, как за собственную, как за родную печаль. Это бледное, похудевшее лицо, в котором сквозь безукоризненную красоту чистых, правильных линий и унылую суровость глухой, затаенной тоски еще так часто просвечивал первоначальный детски ясный облик, – образ еще недавних доверчивых лет и, может быть, наивного счастья; эта тихая, но несмелая, колебавшаяся улыбка – все это поражало таким безотчетным участием к этой женщине, что в сердце каждого невольно зарождалась сладкая, горячая забота, которая громко говорила за нее еще издали и еще вчуже роднила с нею. Но красавица казалась как-то молчаливою, скрытною, хотя, конечно, не было существа более внимательного и любящего, когда кому-нибудь надобилось сочувствие. Есть женщины, которые точно сестры милосердия в жизни. Перед ними можно ничего не скрывать, по крайней мере ничего, что есть больного и уязвленного в душе. Кто страждет, тот смело и с надеждой иди к ним и не бойся быть в тягость, затем что редкий из нас знает, насколько может быть бесконечно терпеливой любви, сострадания и всепрощения в ином женском сердце. Целые сокровища симпатии, утешения, надежды хранятся в этих чистых сердцах, так часто тоже уязвленных, потому что сердце, которое много любит, много грустит, но где рана бережливо закрыта от любопытного взгляда, затем что глубокое горе всего чаще молчит и таится. Их же не испугает ни глубина раны, ни гной ее, ни смрад ее: кто к ним подходит, тот уж их достоин; да они, впрочем, как будто и родятся на подвиг… М-me М* была высока ростом, гибка и стройна, но несколько тонка. Все движения ее были как-то неровны, то медленны, плавны и даже как-то важны, то детски-скоры, а вместе с тем и какое-то робкое смирение проглядывало в ее жесте, что-то как будто трепещущее и незащищенное, но никого не просившее и не молившее о защите…»
Маленький герой стал невольным свидетелем ее семейной тайны-драмы: она несчастна с мужем и любит другого человека…
M-R М* («Маленький герой»), муж т-те М*, в которую влюбился первой уж недетской любовью Маленький герой. Ему дана подробная и обобщающая характеристика: «Говорили, что муж ее ревнив, как арап, не из любви, а из самолюбия. Прежде всего это был европеец, человек современный, с образчиками новых идей и тщеславящийся своими идеями. С виду это был черноволосый, высокий и особенно плотный господин, с европейскими бакенбардами, с самодовольным румяным лицом, с белыми как сахар зубами и с безукоризненной джентльменской осанкой. Называли его умным человеком. Так в иных кружках называют одну особую породу растолстевшего на чужой счет человечества, которая ровно ничего не делает, которая ровно ничего не хочет делать и у которой, от вечной лености и ничегонеделания, вместо сердца кусок жира. От них же поминутно слышишь, что им нечего делать вследствие каких-то очень запутанных, враждебных обстоятельств, которые «утомляют их гений», и что на них поэтому «грустно смотреть». <…> На первом плане у них всегда и во всем их собственная золотая особа, их Молох и Ваал, их великолепное «я». Вся природа, весь мир для них не более как одно великолепное зеркало, которое и создано для того, чтоб мой божок беспрерывно в него на себя любовался и из-за себя никого и ничего не видел; после этого и немудрено, что все на свете видит он в таком безобразном виде. На все у него припасена готовая фраза, и – что, однако ж, верх ловкости с их стороны – самая модная фраза. Даже они-то и способствуют этой моде, голословно распространяя по всем перекресткам ту мысль, которой почуют успех. Именно у них есть чутье, чтоб пронюхать такую модную фразу и раньше других усвоить ее себе, так, что как будто она от них и пошла. Особенно же запасаются они своими фразами на изъявление своей глубочайшей симпатии к человечеству, на определение, что такое самая правильная и оправданная рассудком филантропия, и, наконец, чтоб безостановочно карать романтизм, то есть зачастую все прекрасное и истинное, каждый атом которого дороже всей их слизняковой породы. Но грубо не узнают они истины в уклоненной, переходной и неготовой форме и отталкивают все, что еще не поспело, не устоялось и бродит. Упитанный человек всю жизнь прожил навеселе, на всем готовом, сам ничего не сделал и не знает, как трудно всякое дело делается, а потому беда какой-нибудь шероховатостью задеть его жирные чувства: за это он никогда не простит, всегда припомнит и отомстит с наслаждением. Итог всему выйдет, что мой герой есть не более не менее как исполинский, донельзя раздутый мешок, полный сентенций, модных фраз и ярлыков всех родов и сортов.
Но, впрочем, m-r М* имел и особенность, был человек примечательный: это был остряк, говорун и рассказчик, и в гостиных кругом него всегда собирался кружок…»
NN (Иван NN, генерал NN) («Попрошайка»), герой малоизвестного рассказа Достоевского, опубликованного без подписи в газете-журнале «Гражданин» (1873), – столичный генерал, «…этот генерал был человек довольно чванный и неприступный, и особенно трудно было выпросить у него какое-нибудь рекомендательное письмо, даже близким знакомым…» Однако ж, как оказалось, генерал еще и скуповат, так что некоему Павлу Михайловичу С., ловкому психологу, удалось, напугав предварительно NN займом денег, получить от него нужную рекомендацию в четверть часа.
А – В («Записки из Мертвого дома»), каторжник из дворян, один из двоих (вместе с Куликовым), кому удалось совершить побег. «Это был самый отвратительный пример, до чего может опуститься и исподлиться человек и до какой степени может убить в себе всякое нравственное чувство, без труда и без раскаяния. А – в был молодой человек, из дворян, о котором уже я отчасти упоминал, говоря, что он переносил нашему плац-майору все, что делается в остроге, и был дружен с денщиком Федькой. Вот краткая его история: не докончив нигде курса и рассорившись в Москве с родными, испугавшимися развратного его поведения, он прибыл в Петербург и, чтоб добыть денег, решился на один подлый донос, то есть решился продать кровь десяти человек для немедленного удовлетворения своей неутолимой жажды к самым грубым и развратным наслаждениям, до которых он, соблазненный Петербургом, его кондитерскими и Мещанскими, сделался падок до такой степени, что, будучи человеком неглупым, рискнул на безумное и бессмысленное дело. Его скоро обличили; в донос свой он впутал невинных людей, других обманул, и за это его сослали в Сибирь, в наш острог, на десять лет. Он еще был очень молод, жизнь для него только что начиналась. Казалось бы, такая страшная перемена в его судьбе должна была поразить, вызвать его природу на какой-нибудь отпор, на какой-нибудь перелом. Но он без малейшего смущения принял новую судьбу свою, без малейшего даже отвращения, не возмутился перед ней нравственно, не испугался в ней ничего, кроме разве необходимости работать и расстаться с кондитерскими и с тремя Мещанскими. Ему даже показалось, что звание каторжного только еще развязало ему руки на еще большие подлости и пакости. «Каторжник, так уж каторжник и есть; коли каторжник, стало быть, уж можно подличать, и не стыдно». Буквально, это было его мнение. Я вспоминаю об этом гадком существе как об феномене. Я несколько лет прожил среди убийц, развратников и отъявленных злодеев, но положительно говорю, никогда еще в жизни я не встречал такого полного нравственного падения, такого решительного разврата и такой наглой низости, как в А-ве. <…> На мои глаза, во все время моей острожной жизни, А-в стал и был каким-то куском мяса, с зубами и с желудком и с неутолимой жаждой наигрубейших, самых зверских телесных наслаждений, а за удовлетворение самого малейшего и прихотливейшего из этих наслаждений он способен был хладнокровнейшим образом убить, зарезать, словом, на все, лишь бы спрятаны были концы в воду. Я ничего не преувеличиваю; я узнал хорошо А-ва. Это был пример, до чего могла дойти одна телесная сторона человека, не сдержанная внутренне никакой нормой, никакой законностью. И как отвратительно мне было смотреть на его вечную насмешливую улыбку. Это было чудовище, нравственный Квазимодо. Прибавьте к тому, что он был хитер и умен, красив собой, несколько даже образован, имел способности. Нет, лучше пожар, лучше мор, чем такой человек в обществе!..» В другом месте об А-ве сказано еще определеннее: «низкое и подленькое создание, страшно развращенное, шпион и доносчик по ремеслу».
А-в – это реальное лицо, арестант Омского острога (где Достоевский отбывал 4 года каторги) 77. Аристов. Примечательно, что в черновых записях к «Преступлению и наказанию» А – вым именуется Свидригайлов.
АВДОТЬЯ ИГНАТЬЕВНА («Бобок»), сластолюбивая дамочка, которая и при жизни мало чего стыдилась, жила в свое удовольствие и понятие о морали имела весьма смутное (развратила Клиневича, когда он был еще 14-летним пажом), и на кладбище лишь только услышала голос Молодого человека, которого только что похоронили, снова за свое: «Милый мальчик, милый, радостный мальчик, как я тебя люблю! – восторженно взвизгнула Авдотья Игнатьевна. – Вот если б этакого подле положили!..» Неудивительно, что она первая с восторгом подхватила идею того же Клиневича – ничего не стыдиться и обнажиться: «Ах, как я хочу ничего не стыдиться! <…> Я ужасно, ужасно хочу обнажиться!..» Генерал Первоедов называет ее «криксой», то есть, по В. И. Далю, крикливой.
АГРАФЕНА («Честный вор»), кухарка, прачка и «домоводка» Неизвестного, «автора» записок. Именно по ее протекции хозяин вынужден был пустить на квартиру Астафия Ивановича, который и рассказал в один из вечеров историю о «честном воре» Емельяне Ильиче (Емеле). «До сих пор это была такая молчаливая, простая баба, что, кроме ежедневных двух слов о том, чего приготовить к обеду, не сказала лет в шесть почти ни слова. По крайней мере я более ничего не слыхал от нее. <…> Наконец я, после долгих усилий, узнал, что какой-то пожилой человек уговорил или как-то склонил Аграфену пустить его в кухню, в жильцы и в нахлебники. Что Аграфене пришло в голову, тому должно было сделаться; иначе, я знал, что она мне покоя не даст. В тех случаях, когда что-нибудь было не по ней, она тотчас же начинала задумываться, впадала в глубокую меланхолию, и такое состояние продолжалось недели две или три. В это время портилось кушанье, не досчитывалось белье, полы не были вымыты, – одним словом, происходило много неприятностей. Я давно заметил, что эта бессловесная женщина не в состоянии была составить решения, установиться на какой-нибудь собственно ей принадлежащей мысли. Но уж если в слабом мозгу ее каким-нибудь случайным образом складывалось что-нибудь похожее на идею, на предприятие, то отказать ей в исполнении значило на несколько времени морально убить ее…»
АЗОРКА («Униженные и оскорбленные»), пес. Собака эта принадлежала когда-то дочери старика Смита и осталась как воспоминание о прежних счастливых временах, когда он еще не проклял горячо любимую дочь свою. Иван Петрович обратил при первой встрече внимание на старика во многом благодаря собаке: «…И откуда он взял эту гадкую собаку, которая не отходит от него, как будто составляет с ним что-то целое, неразъединимое, и которая так на него похожа?
Этой несчастной собаке, кажется, тоже было лет восемьдесят; да, это непременно должно было быть. Во-первых, с виду она была так стара, как не бывают никакие собаки, а во-вторых, отчего же мне, с первого раза, как я ее увидал, тотчас же пришло в голову, что эта собака не может быть такая, как все собаки; что она – собака необыкновенная; что в ней непременно должно быть что-то фантастическое, заколдованное; что это, может быть, какой-нибудь Мефистофель в собачьем виде и что судьба ее какими-то таинственными, неведомыми путами соединена с судьбою ее хозяина. Глядя на нее, вы бы тотчас же согласились, что, наверно, прошло уже лет двадцать, как она в последний раз ела. Худа она была, как скелет, или (чего же лучше?) как ее господин. Шерсть на ней почти вся вылезла, тоже и на хвосте, который висел, как палка, всегда крепко поджатый. Длинноухая голова угрюмо свешивалась вниз. В жизнь мою я не встречал такой противной собаки. Когда оба они шли по улице – господин впереди, а собака за ним следом, – то ее нос прямо касался полы его платья, как будто к ней приклеенный. <…> Помню, мне еще пришло однажды в голову, что старик и собака как-нибудь выкарабкались из какой-нибудь страницы Гофмана, иллюстрированного Гаварни, и разгуливают по белому свету в виде ходячих афишек к изданью…» Сцена смерти пса исполнена высокого трагизма: «Азорка, Азорка!» – тоскливо повторял старик и пошевелил собаку палкой, но та оставалась в прежнем положении.
Палка выпала из рук его. Он нагнулся, стал на оба колена и обеими руками приподнял морду Азорки. Бедный Азорка! Он был мертв. Он умер неслышно, у ног своего господина, может быть от старости, а может быть и от голода. Старик с минуту глядел на него, как пораженный, как будто не понимая, что Азорка уже умер; потом тихо склонился к бывшему слуге и другу и прижал свое бледное лицо к его мертвой морде. Прошла минута молчанья. Все мы были тронуты… Наконец бедняк приподнялся. Он был очень бледен и дрожал, как в лихорадочном ознобе…» Старик и сам в тот же день умер. Как констатировала позже его внучка Нети: «Мамашу не простил, а когда собака умерла, так сам умер…»
АКИМ АКИМЫЧ («Записки из Мертвого дома»), каторжный из дворян в Омском остроге, бывший армейский прапорщик, получивший 12 лет каторги за то, что, служа на Кавказе начальником небольшой крепости, учинил самосуд над местным князьком-разбойником. «…редко видал я такого чудака, как этот Аким Акимыч. Резко отпечатался он в моей памяти. Был он высок, худощав, слабоумен, ужасно безграмотен, чрезвычайный резонер и аккуратен, как немец. Каторжные смеялись над ним; но некоторые даже боялись с ним связываться за придирчивый, взыскательный и вздорный его характер. Он с первого шагу стал с ними запанибрата, ругался с ними, даже дрался. Честен он был феноменально. Заметит несправедливость и тотчас же ввяжется, хоть бы не его было дело. Наивен до крайности: он, например, бранясь с арестантами, корил их иногда за то, что они были воры, и серьезно убеждал их не воровать. <…> Но, несмотря на то, что арестанты подсмеивались над придурью Акима Акимыча, они все-таки уважали его за аккуратность и умелость.

Арестанты на нарах в казарме острога.
Художник Н. Каразин
Не было ремесла, которого бы не знал Аким Акимыч. Он был столяр, сапожник, башмачник, маляр, золотильщик, слесарь, и всему этому обучился уже в каторге. Он делал все самоучкой: взглянет раз и сделает. Он делал тоже разные ящики, корзинки, фонарики, детские игрушки и продавал их в городе. Таким образом, у него водились деньжонки, и он немедленно употреблял их на лишнее белье, на подушку помягче, завел складной тюфячок. Помещался он в одной казарме со мною и многим услужил мне в первые дни моей каторги <…> Совершенно равнодушных, то есть таких, которым было бы все равно жить что на воле, что в каторге, у нас, разумеется, не было и быть не могло, но Аким Акимыч, кажется, составлял исключение. Он даже и устроился в остроге так, как будто всю жизнь собирался прожить в нем: все вокруг него, начиная с тюфяка, подушек, утвари, расположилось так плотно, так устойчиво, так надолго. Бивачного, временного не замечалось в нем и следа. Пробыть в остроге оставалось ему еще много лет, но вряд ли он хоть когда-нибудь подумал о выходе. Но если он и примирился с действительностью, то, разумеется, не по сердцу, а разве по субординации, что, впрочем, для него было одно и то же. Он был добрый человек и даже помогал мне вначале советами и кой-какими услугами; но, иногда, каюсь, невольно он нагонял на меня, особенно в первое время, тоску беспримерную, еще более усиливавшую и без того уже тоскливое расположение мое…» Прототип Акима Акимыча – Е. Белых.
АКУЛИНА АНКУДИМОВНА (Кудимовна) («Записки из Мертвого дома» /«Акулькин муж»!), героиня вставного рассказа «Акулькин муж», подслушанного повествователем «Записок…» Горянчиковым в одну из бессонных ночей в госпитале – деревенская молодая баба (18 лет), которую муж (Шишков) бил из-за ревности смертным боем, а потом и вовсе зарезал, за что и угодил на каторгу. Характер Акулины особенно проявился в сцене, когда она обезумевшему окончательно от ревности мужу заявляет, что Фильку Морозова, который был ее женихом до Шишкова и загубил ее жизнь грязной сплетней, она «больше света и любит»…
АЛЕЙ («Записки из Мертвого дома»), каторжник, дагестанский татарин, младший из трех братьев арестантов. «Алей был не более двадцати двух лет, а на вид еще моложе. Его место на нарах было рядом со мною. Его прекрасное, открытое, умное и в то же время добродушно-наивное лицо с первого взгляда привлекло к нему мое сердце, и я так рад был, что судьба послала мне его, а не другого кого-нибудь в соседи. Вся душа его выражалась на его красивом, можно даже сказать – прекрасном лице. Улыбка его была так доверчива, так детски простодушна; большие черные глаза были так мягки, так ласковы, что я всегда чувствовал особое удовольствие, даже облегчение в тоске и в грусти, глядя на него. Я говорю не преувеличивая. На родине старший брат его (старших братьев у него было пять; два других попали в какой-то завод) однажды велел ему взять шашку и садиться на коня, чтобы ехать вместе в какую-то экспедицию. Уважение к старшим в семействах горцев так велико, что мальчик не только не посмел, но даже и не подумал спросить, куда они отправляются. <…> Все они ехали на разбой, подстеречь на дороге богатого армянского купца и ограбить его. Так и случилось: они перерезали конвой, зарезали армянина и разграбили его товар. Но дело открылось: их взяли всех шестерых, судили, уличили, наказали и сослали в Сибирь, в каторжные работы. Всю милость, которую сделал суд для Алея, был уменьшенный срок наказания: он сослан был на четыре года. Братья очень любили его, и скорее какою-то отеческою, чем братскою любовью. Он был им утешением в их ссылке, и они, обыкновенно мрачные и угрюмые, всегда улыбались, на него глядя, и когда заговаривали с ним (а говорили они с ним очень мало, как будто все еще считая его за мальчика, с которым нечего говорить о серьезном), то суровые лица их разглаживались, и я угадывал, что они с ним говорят о чем-нибудь шутливом, почти детском, по крайней мере они всегда переглядывались и добродушно усмехались, когда, бывало, выслушают его ответ. Сам же он почти не смел с ними заговаривать: до того заходила его почтительность. Трудно представить себе, как этот мальчик во все время своей каторги мог сохранить в себе такую мягкость сердца, образовать в себе такую строгую честность, такую задушевность, симпатичность, не загрубеть, не развратиться. Это, впрочем, была сильная и стойкая натура, несмотря на всю видимую свою мягкость. Я хорошо узнал его впоследствии. Он был целомудрен, как чистая девочка, и чей-нибудь скверный, цинический, грязный или несправедливый, насильный поступок в остроге зажигал огонь негодования в его прекрасных глазах, которые делались оттого еще прекраснее. Но он избегал ссор и брани, хотя был вообще не из таких, которые бы дали себя обидеть безнаказанно, и умел за себя постоять. Но ссор он ни с кем не имел: его все любили и все ласкали. Сначала со мной он был только вежлив. Мало-помалу я начал с ним разговаривать; в несколько месяцев он выучился прекрасно говорить по-русски, чего братья его не добились во все время своей каторги. Он мне показался чрезвычайно умным мальчиком, чрезвычайно скромным и деликатным и даже много уже рассуждавшим. Вообще скажу заранее: я считаю Алея далеко не обыкновенным существом и вспоминаю о встрече с ним как об одной из лучших встреч в моей жизни…»
Предполагаемым прототипом Алея был А. Оглы.
АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНОВИЧ («Чужая жена и муж под кроватью»), старый муж дамы, под кровать которой спрятался ревнивец Иван Андреевич Шабрин – хотел разоблачить изменницу-жену, но ошибся квартирой. Александр Демьянович был «тяжелый муж, если только судить по его тяжелым шагам», страдал кашлем, геморроем, радикулитом и прочими старческими хворями. Шабрин, находившийся под кроватью не один, не успел вслед за молодым соседом улизнуть в удобную минуту, да к тому же задушил собачку хозяйскую Амишку, однако ж когда вылез и во всем признался – рассмешил и Александра Демьяновича, и его супругу, был прощен и отпущен с миром.
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ («Униженные и оскорбленные»), журналист-антре-пренер, на которого работает Иван Петрович. В «Эпилоге» ему дана исчерпывающая характеристика: «Я застаю его, но уже на выходе. Он, в свою очередь, только что кончил одну не литературную, но зато очень выгодную спекуляцию и, выпроводив наконец какого-то черномазенького жидка, с которым просидел два часа сряду в своем кабинете, приветливо подает мне руку и своим мягким, милым баском спрашивает о моем здоровье. Это добрейший человек, и я, без шуток, многим ему обязан. Чем же он виноват, что в литературе он всю жизнь был только антрепренером? Он смекнул, что литературе надо антрепренера, и смекнул очень вовремя, честь ему и слава за это, антрепренерская, разумеется.
Он с приятной улыбкой узнает, что повесть кончена и что следующий номер книжки, таким образом, обеспечен в главном отделе, и удивляется, как это я мог хоть что-нибудь кончить, и при этом премило острит. Затем идет к своему железному сундуку, чтоб выдать мне обещанные пятьдесят рублей, а мне между тем протягивает другой, враждебный, толстый журнал и указывает на несколько строк в отделе критики, где говорится два слова и о последней моей повести. <…> Александр Петрович, конечно, милейший человек, хотя у него есть особенная слабость – похвастаться своим литературным суждением именно перед теми, которые, как и сам он подозревает, понимают его насквозь. Но мне не хочется рассуждать с ним об литературе, я получаю деньги и берусь за шляпу. Александр Петрович едет на Острова на свою дачу и, услышав, что я на Васильевский, благодушно предлагает довезти меня в своей карете.
– У меня ведь новая каретка; вы не видали? Премиленькая.
Мы сходим к подъезду. Карета действительно премиленькая, и Александр Петрович на первых порах своего владения ею ощущает чрезвычайное удовольствие и даже некоторую душевную потребность подвозить в ней своих знакомых. <…> Как он рад теперь, ораторствуя в своей карете, как доволен судьбой, как благодушен! Он ведет учено-литературный разговор, и даже мягкий, приличный его басок отзывается ученостью. Мало-помалу он залиберальничался и переходит к невинно-скептическому убеждению, что в литературе нашей, да и вообще ни в какой и никогда, не может быть ни у кого честности и скромности, а есть только одно «взаимное битье друг друга по мордасам», особенно при начале подписки. Я думаю про себя, что Александр Петрович наклонен даже всякого честного и искреннего литератора за его честность и искренность считать если не дураком, то по крайней мере простофилей. Разумеется, такое суждение прямо выходит из чрезвычайной невинности Александра Петровича…»
В лице этого литературного антрепренера и в этой сцене Достоевский вывел А. А. Краевского и свои взаимоотношения с ним.
АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ («Подросток»), доктор – один из немногих русских докторов в мире Достоевского: обыкновенно доктора здесь – немцы. Он «свой» человек в доме Версиловых-Долгоруковых (Татьяна Павловна Пруткова упоминает, что знала Александра Семеновича, когда ему еще десять лет было), и Аркадию Долгорукому поначалу чрезвычайно не понравился: «Ненавидел же я в те первые дни только одного доктора. Доктор этот был молодой человек и с заносчивым видом, говоривший резко и даже невежливо. Точно они все в науке, вчера только и вдруг, узнали что-то особенное, тогда как вчера ничего особенного не случилось; но такова всегда «средина» и «улица». Я долго терпел, но наконец вдруг прорвался и заявил ему при всех наших, что он напрасно таскается, что я вылечусь совсем без него, что он, имея вид реалиста, сам весь исполнен одних предрассудков и не понимает, что медицина еще никогда никого не вылечила; что, наконец, по всей вероятности, он грубо необразован, «как и все теперь у нас техники и специалисты, которые в последнее время так подняли у нас нос». Доктор очень обиделся (уж этим одним доказал, что он такое), однако же продолжал бывать. Я заявил наконец Версилову, что если доктор не перестанет ходить, то я наговорю ему что-нибудь уже в десять раз неприятнее…» Впоследствии, во время предсмертной болезни Макара Ивановича Долгорукого, максималист Подросток мнение о докторе меняет: «С доктором я, как-то вдруг так вышло, сошелся; не очень, но по крайней мере прежних выходок не было. Мне нравилась его как бы простоватость, которую я наконец разглядел в нем, и некоторая привязанность его к нашему семейству, так что я решился наконец ему простить его медицинское высокомерие и, сверх того, научил его мыть себе руки и чистить ногти, если уж он не может носить чистого белья. Я прямо растолковал ему, что это вовсе не для франтовства и не для каких-нибудь там изящных искусств, но что чистоплотность естественно входит в ремесло доктора, и доказал ему это…» Если Аркадий уверен, что «доктор был глуп и, естественно, не умел шутить», то знаток человеческих душ Макар Иванович в разговоре с Подростком характеризует доктора как человека, да и как специалиста так: «Ну что он знает, твой Александр Семеныч <…> милый он человек, а и не более…»
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА («Неточка Незванова»), дочь княгини X – й (от первого мужа – «откупщика»), падчерица князя X – го, жена Петра Александровича, старшая сестра по матери Кати и Саши. В ее дом перешла Неточка Незванова жить из дома князей X – х. Эта молодая, красивая и не очень счастливая женщина стала самым для нее близким человеком. Неточка дважды набрасывает ее портрет: «Александра Михайловна была женщина лет двадцати двух, тихая, нежная, любящая; словно какая-то затаенная грусть, какая-то скрытая сердечная боль сурово оттеняли прекрасные черты ее. Серьезность и суровость как-то не шли к ее ангельски ясным чертам, словно траур к ребенку. Нельзя было взглянуть на нее, не почувствовав к ней глубокой симпатии. Она была бледна и, говорили, склонна к чахотке, когда я ее первый раз видела. Жила она очень уединенно и не любила ни съездов у себя, ни выездов в люди, – словно монастырка. Детей у нее не было…» Затем, прожив в доме Александры Михайловны восемь лет, Неточка, узнав ее ближе, еще раз набрасывает ее портрет – уже тридцатилетней женщины, матери двоих детей: «Черты лица ее никогда не изгладятся из моей памяти. Они были правильны, а худоба и бледность, казалось, еще более возвышали строгую прелесть ее красоты. Густейшие черные волосы, зачесанные гладко книзу, бросали суровую, резкую тень на окраины щек; но, казалось, тем любовнее поражал вас контраст ее нежного взгляда, больших детски ясных голубых глаз, робкой улыбки и всего этого кроткого, бледного лица, на котором отражалось подчас так много наивного, несмелого, как бы незащищенного, как будто боявшегося за каждое ощущение, за каждый порыв сердца – и за мгновенную радость, и за частую тихую грусть. Но в иную счастливую, нетревожную минуту в этом взгляде, проницавшем в сердце, было столько ясного, светлого, как день, столько праведно-спокойного; эти глаза, голубые как небо, сияли такою любовью, смотрели так сладко, в них отражалось всегда такое глубокое чувство симпатии ко всему, что было благородно, ко всему, что просило любви, молило о сострадании, – что вся душа покорялась ей, невольно стремилась к ней и, казалось, от нее же принимала и эту ясность, и это спокойствие духа, и примирение, и любовь. <… > Когда же – и это так часто случалось – одушевление нагоняло краску на ее лицо и грудь ее колыхалась от волнения, тогда глаза ее блестели как молния, как будто метали искры, как будто вся ее душа, целомудренно сохранившая чистый пламень прекрасного, теперь ее воодушевившего, переселялась в них. В эти минуты она была как вдохновенная. И в таких внезапных порывах увлечения, в таких переходах от тихого, робкого настроения духа к просветленному, высокому одушевлению, к чистому, строгому энтузиазму вместе с тем было столько наивного, детски скорого, столько младенческого верования, что художник, кажется, полжизни бы отдал, чтоб подметить такую минуту светлого восторга и перенесть это вдохновенное лицо на полотно <…>
Александра Михайловна жила в полном одиночестве; но она как будто и рада была тому. Ее тихий характер как будто создан был для затворничества. <…> Характер ее был робок, слаб. Смотря на ясные, спокойные черты лица ее, нельзя было предположить с первого раза, чтоб какая-нибудь тревога могла смутить ее праведное сердце. Помыслить нельзя было, чтоб она могла не любить хоть кого-нибудь; сострадание всегда брало в ее душе верх даже над самим отвращением, а между тем она привязана была к немногим друзьям и жила в полном уединении… Она была страстна и впечатлительна по натуре своей, но в то же время как будто сама боялась своих впечатлений, как будто каждую минуту стерегла свое сердце, не давая ему забыться, хотя бы в мечтанье. Иногда вдруг, среди самой светлой минуты, я замечала слезы в глазах ее: словно внезапное тягостное воспоминание чего-то мучительно терзавшего ее совесть вспыхивало в ее душе; как будто что-то стерегло ее счастье и враждебно смущало его. И чем, казалось, счастливее была она, чем покойнее, яснее была минута ее жизни, тем ближе была тоска, тем вероятнее была внезапная грусть, слезы: как будто на нее находил припадок. Я не запомню ни одного спокойного месяца в целые восемь лет. Муж, по-видимому, очень любил ее; она обожала его. Но с первого взгляда казалось, как будто что-то было недосказано между ними. Какая-то тайна была в судьбе ее…»
Страшная тайна, которая гнетет Александру Михайловну, – ее любовный роман с неким С. О., о котором муж знает и казнит ее своим суровым отношением. Неточка, случайно нашедшая прощальное письмо С. О. в книге, проникает в эту тайну и становится на сторону Александры Михайловны, начинает ненавидеть ее лицемерного и жестокого мужа. В конце опубликованной части романа Александра Михайловна уже тяжело больна, и дни ее, судя по всему, сочтены.
Исследователи отмечают черты сходства между этой кроткой и страдающей героиней раннего романа русского писателя и заглавной героиней романа О. де Бальзака «Евгения Гранде», переведенного Достоевским в 1844 г.
АЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВНА («Униженные и оскорбленные»), гражданская жена Маслобоева. Она сразу пришлась по сердцу Ивану Петровичу, повествователю: «Ровно в семь часов я был у Маслобоева. <…> Мне отворила прехорошенькая девушка лет девятнадцати, очень просто, но очень мило одетая, очень чистенькая и с предобрыми, веселыми глазками. Я тотчас догадался, что это и есть та самая Александра Семеновна, о которой он упомянул вскользь давеча, подманивая меня с ней познакомиться…» Маслобоев беспрестанно подшучивает над ее простодушием и ревностью, но, судя по всему, бесконечно любит, она отвечает ему взаимностью и они, вероятно, самые счастливые люди в романе.
При следующей встрече, к которой Александра Семеновна накрыла богатый стол и сама приоделась, повествователь снова явно залюбовался молодой женщиной: «За чайным столиком сидела Александра Семеновна хоть и в простом платье и уборе, но, видимо, изысканном и обдуманном, правда, очень удачно. Она понимала, что к ней идет, и, видимо, этим гордилась; встречая меня, она привстала с некоторою торжественностью. Удовольствие и веселость сверкали на ее свеженьком личике…»
АЛЕКСЕЙ («Идиот»), камердинер в доме Епанчиных. Ливрейный слуга, отворив двери генеральской квартиры князю Мышкину, «сдал его с рук на руки другому человеку, дежурившему по утрам в этой передней и докладывавшему генералу о посетителях. Этот другой человек был во фраке, имел за сорок лет и озабоченную физиономию и был специальный, кабинетный прислужник и докладчик его превосходительства, вследствие чего и знал себе цену…» Именно этому камердинеру, «знающему себе цену», о котором Мышкин потом скажет-уточнит: «А вот что в передней сидит, такой с проседью, красноватое лицо», – Лев Николаевич в первые же минуты встречи живописует во всех подробностях о том, какие чувства испытывает человек, на шею которого вот-вот обрушится нож гильотины. Чуть погодя, как бы прорепетировав этот жуткий рассказ перед лакеем, он повторит его (украсив новыми психологическими подробностями) в гостиной уже перед генеральшей Епанчиной и тремя ее дочерьми – Александрой, Аделаидой и Аглаей.
АЛЕКСЕЙ (АЛЕША) («Хозяйка»), молодой купец, друг детства Катерины. Родители их хотели в будущем поженить Алешу и Катерину, но она стала женой Мурина, а когда Алеша впоследствии нашел ее и уже уговорил бежать с ним, Мурин разгадал их замысел и, судя по всему, убил молодого купца.
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ («Игрок»), заглавный герой и одновременно автор записок, которые и составили роман. Это, как указано в подзаголовке, – «молодой человек», ему 25 лет, он служит домашним учителем у Генерала (сам с горькой иронией уточняет: «я принадлежу к свите генерала»). Терпит он свое положение из-за Полины, которую любит порой до ненависти, из-за которой пошел первый раз на рулетку, чтобы выиграть для нее 50 тысяч франков и заразился на всю оставшуюся жизнь болезненной страстью к игре. В этом отношении Игрок – герой автобиографический: Достоевский, передав ему одну из «капитальных» своих страстей, страсть к рулетке, показал изнутри всю притягательную и тяжкую силу этого сладкого недуга. Необходимо поэтому чуть поподробнее перечитать-процитировать игорную сцену из романа, дабы воочию увидеть-представить себе ту запредельную по напряжению и выплескам эмоций атмосферу «воксала»-казино, в каковой проводил немало часов сам писатель, более десяти лет сам бывший игроком:
«Я не рассчитывал, я даже не слыхал, на какую цифру лег последний удар, и об этом не справился, начиная игру, как бы сделал всякий чуть-чуть рассчитывающий игрок. Я вытащил все мои двадцать фридрихсдоров и бросил на бывший предо мною «passe».
<…> Я выиграл – и опять поставил все: и прежнее, и выигрыш.
<…> Опять выигрыш! Всего уж, стало быть, у меня восемьдесят фридрихсдоров! Я двинул все восемьдесят на двенадцать средних цифр (тройной выигрыш, но два шанса против себя) – колесо завертелось, и вышло двадцать четыре. Мне выложили три свертка по пятидесяти фридрихсдоров и десять золотых монет; всего, с прежним, очутилось у меня двести фридрихсдоров.
Я был как в горячке и двинул всю эту кучу денег на красную – и вдруг опомнился! И только раз во весь этот вечер, во всю игру, страх прошел по мне холодом и отозвался дрожью в руках и ногах. Я с ужасом ощутил и мгновенно сознал: что для меня теперь значит проиграть! Стояла на ставке вся моя жизнь!
– Rouge! – крикнул крупер, – и я перевел дух, огненные мурашки посыпались по моему телу. Со мною расплатились банковыми билетами; стало быть, всего уж четыре тысячи флоринов и восемьдесят фридрихсдоров! (Я еще мог следить тогда за счетом.)
Затем, помнится, я поставил две тысячи флоринов опять на двенадцать средних и проиграл; поставил мое золото и восемьдесят фридрихсдоров и проиграл. Бешенство овладело мною: я схватил последние оставшиеся мне две тысячи флоринов и поставил на двенадцать первых – так, на авось, зря, без расчета! <…>
– Quatre! – крикнул крупер. Всего, с прежнею ставкою, опять очутилось шесть тысяч флоринов. Я уже смотрел как победитель, я уже ничего, ничего теперь не боялся и бросил четыре тысячи флоринов на черную. Человек девять бросилось, вслед за мною, тоже ставить на черную. Круперы переглядывались и переговаривались. Кругом говорили и ждали.
Вышла черная. Не помню я уж тут ни расчета, ни порядка моих ставок. Помню только, как во сне, что я уже выиграл, кажется, тысяч шестнадцать флоринов; вдруг, тремя несчастными ударами, спустил из них двенадцать; потом двинул последние четыре тысячи на «passe» (но уж почти ничего не ощущал при этом; я только ждал, как-то механически, без мысли) – и опять выиграл; затем выиграл еще четыре раза сряду. Помню только, что я забирал деньги тысячами..»
Затем Алексей Иванович перешел в другую залу, третью, еще играл и очнулся только от вскрика-информации по-французски одного из наэлектризованных зрителей-болельщиков, что он выиграл уже сто тысяч форинтов, или двести тысяч франков! То есть в четыре раза больше, чем требовалось для спасения Полины. Вероятно, этот перебор и сыграл свою роковую роль в случившейся катастрофе. Алексей Иванович, уже ставший Игроком, опьяненный и отравленный игрой, игорной страстью, пересилившей страсть любовную, сам себе потом признается: он не обратил внимания, что Полина, отдаваясь ему в ту ночь, находилась в горячечном бреду, что отдалась она ему не из любви, а из ненависти, как бы в плату за пятьдесят тысяч франков, и что она уже никогда этого ему не простит…
Еще одна автобиографическая составляющая этого героя – его взаимоотношения с Полиной, воссоздающие перипетии любви самого Достоевского и А. П. Сусловой, послужившей прототипом героини. Образ Игрока имеет и литературные традиции: в частности в русской литературе – это Германн из «Пиковой дамы» А. С. Пушкина, Арбенин из «Маскарада» М. Ю. Лермонтова.
АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВИЧ («Бесы»), камердинер Ставрогиных. Немногословный, педантичный старый слуга, преданный и Варваре Петровне Ставрогиной, и ее сыну Николаю Всеволодовичу.
АЛЕНА ИВАНОВНА («Преступление и наказание»), процентщица; старшая сестра (сводная) Лизаветы. С ее «чином» в романе есть некоторая путаница: сначала она повествователем представлена как коллежская регистраторша (14-й класс), а буквально через две страницы сказано (в сцене подслушанного Раскольниковым разговора в трактире), что «студент говорит офицеру про процентщицу, Алену Ивановну, коллежскую секретаршу», а это уже гораздо выше – 10-й класс. «Это была крошечная, сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми и злыми глазками, с маленьким вострым носом и простоволосая. Белобрысые, мало поседевшие волосы ее были жирно смазаны маслом. На ее тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое тряпье, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрепанная и пожелтелая меховая кацавейка. Старушонка поминутно кашляла и кряхтела…» Характеристику ей дает тот же студент в разговоре с товарищем своим в трактире: «Славная она, – говорил он, – у ней всегда можно денег достать. Богата как жид, может сразу пять тысяч выдать, а и рублевым закладом не брезгает. Наших много у ней перебывало. Только стерва ужасная…
И он стал рассказывать, какая она злая, капризная, что стоит только одним днем просрочить заклад, и пропала вещь. Дает вчетверо меньше, чем стоит вещь, а процентов по пяти и даже по семи берет в месяц и т. д. Студент разболтался и сообщил, кроме того, что у старухи есть сестра, Лизавета, которую она, такая маленькая и гаденькая, бьет поминутно и держит в совершенном порабощении, как маленького ребенка, тогда как Лизавета, по крайней мере, восьми вершков росту…» Именно студент своими рассуждениями о том, что «глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, для чего живет, и которая завтра же сама собой умрет» может своей смертью спасти от нищеты и гибели многих – окончательно подтолкнул Раскольникова на «преступление».

Процентщица. Художник П. Боклееский
И вот – сцена убийства: «Старуха, как и всегда, была простоволосая. Светлые с проседью, жиденькие волосы ее, по обыкновению жирно смазанные маслом, были заплетены в крысиную косичку и подобраны под осколок роговой гребенки, торчавшей на ее затылке. Удар пришелся в самое темя, чему способствовал ее малый рост. Она вскрикнула, но очень слабо, и вдруг вся осела к полу, хотя и успела еще поднять обе руки к голове. В одной руке еще продолжала держать «заклад». Тут он изо всей силы ударил раз и другой, все обухом и все по темени. Кровь хлынула, как из опрокинутого стакана, и тело повалилось навзничь. Он отступил, дал упасть и тотчас же нагнулся к ее лицу; она была уже мертвая. Глаза были вытаращены, как будто хотели выпрыгнуть, а лоб и все лицо были сморщены и искажены судорогой…»
Но Алена Ивановна еще явится во всем своем отвратительном виде Родиону Раскольникову в горячечном бредовом сне, когда ему приснилось, будто он опять пришел в ее квартиру: «В самую эту минуту, в углу, между маленьким шкапом и окном, он разглядел как будто висящий на стене салоп. <…> Он подошел потихоньку и догадался, что за салопом как будто кто-то прячется. Осторожно отвел он рукою салоп и увидал, что тут стоит стул, а на стуле в уголку сидит старушонка, вся скрючившись и наклонив голову, так что он никак не мог разглядеть лица, но это была она. Он постоял над ней: «боится!» – подумал он, тихонько высвободил из петли топор и ударил старуху по темени, раз и другой. Но странно: она даже и не шевельнулась от ударов, точно деревянная. Он испугался, нагнулся ближе и стал ее разглядывать; но и она еще ниже нагнула голову. Он пригнулся тогда совсем к полу и заглянул ей снизу в лицо, заглянул и помертвел: старушонка сидела и смеялась, – так и заливалась тихим, неслышным смехом, из всех сил крепясь, чтоб он ее не услышал. Вдруг ему показалось, что дверь из спальни чуть-чуть приотворилась и что там тоже как будто засмеялись и шепчутся. Бешенство одолело его: изо всей силы начал он бить старуху по голове, но с каждым ударом топора смех и шепот из спальни раздавались все сильнее и слышнее, а старушонка так вся и колыхалась от хохота. Он бросился бежать…»
Достоевскому с самых ранних лет приходилось общаться с ростовщиками И ростовщицами (вроде А. И. Рейслер, Эриксан), так что материала для изображения Алены Ивановны, ее сути и образа жизни было у него более чем предостаточно. Он даже собирался написать отдельное произведение с таким названием – «Ростовщик».
АЛЕНА ФРОЛОВНА («Бесы»), няня Лизаветы Николаевны Тушиной. Эта эпизодическая героиня интересна тем, что ей дано имя реального человека – Алены Фроловны (Е. Ф. Крюковой) – няни из семьи Достоевских.
АЛМАЗОВ (Алмазов Андрей) («Записки из Мертвого дома»), арестант, «начальник» Горянчикова на работах. «На алебастр назначали обыкновенно человека три-четыре, стариков или слабосильных, ну, и нас [дворян] в том числе, разумеется; да, сверх того, прикомандировывали одного настоящего работника, знающего дело. Обыкновенно ходил все один и тот же, несколько лет сряду, Алмазов, суровый, смуглый и сухощавый человек, уже в летах, необщительный и брюзгливый. Он глубоко нас презирал. Впрочем, он был очень неразговорчив, до того, что даже ленился ворчать на нас. <…> Алмазов обыкновенно молча и сурово принимался за работу; мы словно стыдились, что не можем настоящим образом помогать ему, а он нарочно управлялся один, нарочно не требовал от нас никакой помощи, как будто для того, чтоб мы чувствовали всю вину нашу перед ним и каялись собственной бесполезностью. А всего-то и дела было вытопить печь, чтоб обжечь накладенный в нее алебастр, который мы же, бывало, и натаскаем ему. На другой же день, когда алебастр бывал уже совсем обожжен, начиналась его выгрузка из печки. Каждый из нас брал тяжелую колотушку, накладывал себе особый ящик алебастром и принимался разбивать его. Это была премилая работа. Хрупкий алебастр быстро обращался в белую блестящую пыль, так ловко, так хорошо крошился. Мы взмахивали тяжелыми молотами и задавали такую трескотню, что самим было любо. И уставали-то мы наконец, и легко в то же время становилось; щеки краснели, кровь обращалась быстрее. Тут уж и Алмазов начинал смотреть на нас снисходительно, как смотрят на малолетних детей; снисходительно покуривал свою трубочку и все-таки не мог не ворчать, когда приходилось ему говорить. Впрочем, он и со всеми был такой же, а в сущности, кажется, добрый человек. <…> Положим, арестанты были народ тщеславный и легкомысленный в высшей степени, но все это было напускное. Арестанты могли смеяться надо мной, видя, что я плохой им помощник на работе. Алмазов мог с презрением смотреть на нас, дворян, тщеславясь перед нами своим умением обжигать алебастр. Но к гонениям и к насмешкам их над нами примешивалось и другое: мы когда-то были дворяне; мы принадлежали к тому же сословию, как и их бывшие господа, о которых они не могли сохранить хорошей памяти…»
Алмазов Андрей – реальное лицо: старший мастер Омского острога в цехе, где делали алебастр. Достоевский одно время работал под его началом.
АМИШКА («Чужая жена и муж под кроватью»), собачка комнатной породы в доме Александра Демьяновича. Когда Амишка обнаружила под кроватью двух посторонних мужчин и подняла лай, то была немедленно задушена одним из них – Иваном Андреевичем Шабриным. И хотя хозяйка собачонки, в конце концов, Шабрина простила, ибо он ее рассмешил и к тому же пообещал принести новую «сахарную» болонку, но сам Иван Андреевич опростоволосился: сунул машинально мертвую Амишку в карман, принес домой и при супруге Глафире Петровне Шадриной, невзначай вынул, так что тут же превратился из ревнивца в подозреваемого.
АНДРЕЕВ Николай Семенович («Подросток»), подручный Ламберта и товарищ Тришатова. Впервые их вместе и встречает-видит Аркадий Долгорукий у дверей квартиры Ламберта и описывает сначала Андреева: «Оба были еще очень молодые люди, так лет двадцати или двадцати двух <…> Тот, кто крикнул «атанде», был малый очень высокого роста, вершков десяти, не меньше, худощавый и испитой, но очень мускулистый, с очень небольшой, по росту, головой и с странным, каким-то комически мрачным выражением в несколько рябом, но довольно неглупом и даже приятном лице. Глаза его смотрели как-то не в меру пристально и с какой-то совсем даже ненужной и излишней решимостью. Он был одет очень скверно: в старую шинель на вате, с вылезшим маленьким енотовым воротником и не по росту короткую – очевидно, с чужого плеча, в скверных, почти мужицких сапогах и в ужасно смятом, порыжевшем цилиндре на голове. В целом видно было неряху: руки, без перчаток, были грязные, а длинные ногти – в трауре. <…> Длинный парень стаскивал с себя галстух – совершенно истрепавшуюся и засаленную ленту или почти уж тесемку, а миловидный мальчик, вынув из кармана другой, новенький черный галстучек, только что купленный, повязывал его на шею длинному парню, который послушно и с ужасно серьезным лицом вытягивал свою шею, очень длинную, спустив шинель с плеч…»
Андреев в разговоре то и дело переходит на скверный французский, и Тришатов поясняет: «Он, знаете, – циник, – усмехнулся мне мальчик, – и вы думаете, что он не умеет по-французски? Он как парижанин говорит, а он только передразнивает русских, которым в обществе ужасно хочется вслух говорить между собою по-французски, а сами не умеют…» Немудрено, что Подросток про себя начинает именовать Андреева верзилой, по-французски – dadais. Впоследствии тот же Тришатов в ресторанном пьяном разговоре с Аркадием характеризует своего друга (который начинает скандалить) более основательно: «Вы не поверите, как Андреев несчастен. Он проел и пропил приданое своей сестры, да и все у них проел и пропил в тот год, как служил, и я вижу, что он теперь мучается. А что он не моется – это он с отчаяния. И у него ужасно странные мысли: он вам вдруг говорит, что и подлец, и честный – это все одно и нет разницы; и что не надо ничего делать, ни доброго, ни дурного, или все равно – можно делать и доброе, и дурное, а что лучше всего лежать, не снимая платья по месяцу, пить, да есть, да спать – и только. Но поверьте, что это он – только так. И знаете, я даже думаю, он это теперь потому накуролесил, что захотел совсем покончить с Ламбертом. Он еще вчера говорил. Верите ли, он иногда ночью или когда один долго сидит, то начинает плакать, и знаете, когда он плачет, то как-то особенно, как никто не плачет: он заревет, ужасно заревет, и это, знаете, еще жальче… И к тому же такой большой и сильный и вдруг – так совсем заревет. Какой бедный, не правда ли?..»
Андреев – один из самых несчастных персонажей «Подростка»: служил некогда юнкером, за что-то из полка был выгнан (своеобразная перекличка с историей князя Сокольского), прокутил приданое своей сестры, попал в преступную компанию негодяя Ламберта, пребывал хронически в состоянии мрачного отчаяния, перестал даже мыться, маниакально хотел убить себя, а конкретно – повеситься. Причем, его приятель, Тришатов, сообщая это Аркадию, весьма характерно обобщает: «А он, я ужасно боюсь, – повесится. Пойдет и никому не скажет. Он такой. Нынче все вешаются…» Но в финале выясняется, что Андреев все же не повесился – застрелился.
Любопытно, что по имени-отчеству герой этот – полный тезка близкого Подростку человека, наставника, хозяина его московской квартиры Николая Семеновича, а фамилия его как бы перекликается с девичьей фамилией матери Аркадия, Софьи Андреевны, которую до замужества именовали, как и положено было тогда в крестьянской среде, по имени отца – Софьей Андреевой (именно так и упоминается в романе). Скорее всего это чисто случайные совпадения.
АНДРЕЙ («Братья Карамазовы»), ямщик. Его нанял Дмитрий Карамазов, чтобы ехать в Мокрое вслед за Грушенькой Светловой. «Когда Митя с Петром Ильичом подошли к лавке, то у входа нашли уже готовую тройку, в телеге, покрытой ковром, с колокольчиками и бубенчиками и с ямщиком Андреем, ожидавшим Митю…» Андрей был «еще не старый ямщик, рыжеватый, сухощавый парень в поддевке и с армяком на левой руке». Митя посулил ему 50 рублей, но осторожный Андрей, догадавшись, что возбужденный Дмитрий Карамазов едет в Мокрое с пистолетами неспроста, уже на месте от щедрой полусотни отказался и взял только «законные» 15 рублей. Кроме того он подробно доложил следствию о странных речах Дмитрия по дороге насчет того, что он, Дмитрий Карамазов, может в ад попасть за свои деяния.
Прообразом этого персонажа послужил реальный молодой ямщик Андрей, который, как и Тимофей (другой ямщик, также упоминаемый в романе), возил Достоевских из Старой Руссы к озеру Ильмень на пароходную пристань. Его имя дважды упоминается в письмах А. Г. Достоевской из Старой Руссы к мужу в Петербург (от 12 и 13 февраля 1875 г.), а также в письме Достоевского из Эмса к жене в Старую Руссу (от 26 июля /7 августа/ 1876 г.).
АНДРЕЙ ФИЛИППОВИЧ («Двойник»), коллежский советник, начальник отделения, в котором служит Голядкин. Он постоянно встречается на пути Голядкина и в неслужебное время, так что создается у Якова Петровича впечатление, что начальник специально за ним следит. Несколько иронические штрихи к его портрету даны повествователем в сцене празднования дня рождения Клары Олсуфьевны Берендеевой: «Я изобразил бы вам потом Андрея Филипповича, как старшего из гостей, имеющего даже некоторое право на первенство, украшенного сединами и приличными седине орденами, вставшего с места и поднявшего над головою заздравный бокал с искрометным вином <…> Я изобразил бы вам, как этот часто поминаемый Андрей Филиппович, уронив сначала слезу в бокал, проговорил поздравление и пожелание, провозгласил тост и выпил за здравие <…> Андрей Филиппович в это торжественное мгновение вовсе не походил на коллежского советника и начальника отделения в одном департаменте, – нет, он казался чем-то другим… я не знаю только, чем именно, но не коллежским советником. Он был выше! Наконец… о! для чего я не обладаю тайною слога высокого, сильного, слога торжественного…» А из наблюдения самого Голядкина читатель узнает характерную деталь, «что Андрей Филиппович носит сапоги, похожие больше на туфли, чем на сапоги». Вскоре Якову Петровичу пришлось убедиться вполне, что начальник его благоволит к его двойнику: «В последней комнате перед директорским кабинетом сбежался он, прямо нос с носом, с Андреем Филипповичем и с однофамильцем своим. Оба они уже возвращались: господин Голядкин посторонился. Андрей Филиппович говорил улыбаясь и весело. Однофамилец господина Голядкина-старшего тоже улыбался, юлил, семенил в почтительном расстоянии от Андрея Филипповича и что-то с восхищенным видом нашептывал ему на ушко, на что Андрей Филиппович самым благосклонным образом кивал головою. Разом понял герой наш все положение дел…» И именно Андрей Филиппович вместе с Голядкиным-младшим помогли в финале доктору Крестьяну Ивановичу Рутеншпицу посадить Голядкина в карету, дабы увезти страдальца в сумасшедший дом.
АНДРОНИКОВ Алексей Никанорович («Подросток»), родной и любимый дядя Марьи Ивановны (жены Николая Семеновича) и начальник отделения, юрист, занимавшийся делом Версилова в его тяжбе с князями Сокольскими (однофамильцами князя Николая Ивановича Сокольского). По словам Крафта, который был его помощником в частных делах, «Андроников «никогда не рвал нужных бумаг» и, кроме того, был человек хоть и широкого ума, но и «широкой совести». Именно Андроников, умерший месяца за три до приезда Аркадия Долгорукого в Петербург, сохранил письмо к нему некоего Столбеева, из-за завещания которого и возникло дело Версилова с князьями Сокольскими. «Дело это теперь решается в суде и решится, наверно, в пользу Версилова; за него закон. Между тем в письме этом, частном, писанном два года назад, завещатель сам излагает настоящую свою волю или, вернее, желание, излагает скорее в пользу князей, чем Версилова. По крайней мере те пункты, на которые опираются князья Сокольские, оспаривая завещание, получают сильную поддержку в этом письме. Противники Версилова много бы дали за этот документ, не имеющий, впрочем, решительного юридического значения..» И вот, согласно воле Андроникова в передаче Марьи Ивановны, важное письмо попало через Крафта в руки Подростка и сыграло в развитии дальнейшего развития событий важную роль. Кроме того, именно Андроникову написала Катерина Николаевна Ахмакова письмо, в котором советовалась насчет учреждения надо отцом своим (князем Сокольским) опеки – это компрометирующее и опасное для нее письмо попало после смерти Алексея Никаноровича тоже в руки Аркадия Долгорукого, а затем Ламберта, шантажирующего им дочь князя. Как человек Андроников, судя по всему, был человеком простым и добрым. Аркадий вспоминает, как Андроников «всю провизию, птиц, судаков и поросят, сам из города в кульках привозил, а за столом, вместо супруги, которая все чванилась, нам суп разливал, и всегда мы всем столом над этим смеялись, и он первый».
АНКУДИМ ТРОФИМЫЧ («Записки из Мертвого дома» /«Акулькин муж»/), отец Акулины, героини вставного рассказа «Акулькин муж», – богатый деревенский мужик. Рассказчик (Шишков), бывший его зять, угодивший на каторгу за убийство его дочери и своей жены, так его характеризует «Ну, заимку большую имел, землю работниками пахал, троих держал, опять к тому ж своя пасека, медом торговали и скотом тоже, и по нашему месту, значит, был в великом уважении. Стар больно был, семьдесят лет, кость-то тяжелая стала, седой, большой такой. Этта выйдет в лисьей шубе на базар-то, так все-то чествуют…» Сначала Анкудим Трофимыч сам избивал свою дочь до полусмерти, поверив сплетням об ее «распутстве», а потом, отдав замуж за Шишкова, не мешал ему бить и убивать Акулину…
АННА ФЕДОРОВНА («Бедные люди»), сваха и сводня; дальняя родственница Варвары Алексеевны Доброселовой. Наивная Варя даже не сразу поняла, зачем эта женщина их с матушкой приютила после смерти отца: «Матушка страдала изнурительною болезнию, прокормить мы себя не могли, жить было нечем, впереди была гибель. Мне тогда только минуло четырнадцать лет. Вот тут-то нас и посетила Анна Федоровна. Она все говорит, что она какая-то помещица и нам доводится какою-то роднею. Матушка тоже говорила, что она нам родня, только очень дальняя. При жизни батюшки она к нам никогда не ходила. Явилась она со слезами на глазах, говорила, что принимает в нас большое участие; соболезновала о нашей потере, о нашем бедственном положении, прибавила, что батюшка был сам виноват: что он не по силам жил, далеко забирался и что уж слишком на свои силы надеялся. Обнаружила желание сойтись с нами короче, предложила забыть обоюдные неприятности; а когда матушка объявила, что никогда не чувствовала к ней неприязни, то она прослезилась, повела матушку в церковь и заказала панихиду по голубчике (так она выразилась о батюшке). После этого она торжественно помирилась с матушкой.
После долгих вступлений и предуведомлений Анна Федоровна, изобразив в ярких красках наше бедственное положение, сиротство, безнадежность, беспомощность, пригласила нас, как она сама выразилась, у ней приютиться. Матушка благодарила, но долго не решалась; но так как делать было нечего и иначе распорядиться никак нельзя, то и объявила наконец Анне Федоровне, что ее предложение мы принимаем с благодарностию. <…> Сначала, покамест еще мы, то есть я и матушка, не обжились на нашем новоселье, нам обеим было как-то жутко, дико у Анны Федоровны. Анна Федоровна жила в собственном доме, в Шестой линии. В доме всего было пять чистых комнат. В трех из них жила Анна Федоровна и двоюродная сестра моя, Саша, которая у ней воспитывалась, – ребенок, сиротка, без отца и матери. Потом в одной комнате жили мы, и, наконец, в последней комнате, рядом с нами, помещался один бедный студент Покровский, жилец у Анны Федоровны. Анна Федоровна жила очень хорошо, богаче, чем бы можно было предполагать; но состояние ее было загадочно, так же как и ее занятия. Она всегда суетилась, всегда была озабочена, выезжала и выходила по нескольку раз в день; но что она делала, о чем заботилась и для чего заботилась, этого я никак не могла угадать. Знакомство у ней было большое и разнообразное. <…> Впоследствии со мной она сделалась весьма ласкова, даже как-то грубо ласкова, до лести, но сначала и я терпела заодно с матушкой. Поминутно попрекала она нас; только и делала, что твердила о своих благодеяниях. Посторонним людям рекомендовала нас как своих бедных родственниц, вдовицу и сироту беспомощных, которых она из милости, ради любви христианской, у себя приютила. За столом каждый кусок, который мы брали, следила глазами, а если мы не ели, так опять начиналась история: дескать, мы гнушаемся; не взыщите, чем богата, тем и рада, было ли бы еще у нас самих лучше. Батюшку поминутно бранила: говорила, что лучше других хотел быть, да худо и вышло; дескать, жену с дочерью пустил по миру, и что не нашлось бы родственницы благодетельной, христианской души, сострадательной, так еще Бог знает пришлось бы, может быть, среди улицы с голоду сгнить. Чего-чего она не говорила! Не так горько, как отвратительно было ее слушать. Матушка поминутно плакала; здоровье ее становилось день от дня хуже, она видимо чахла, а между тем мы с нею работали с утра до ночи, доставали заказную работу, шили, что очень не нравилось Анне Федоровне; она поминутно говорила, что у нее не модный магазин в доме. <…> Мы жили тихо, как будто и не в городе. Анна Федоровна мало-помалу утихала, по мере того как сама стала вполне сознавать свое владычество…»
Именно Анна Федоровна стояла у истоков судьбы студента Покровского (настоящим отцом его был помещик Быков, и Анна Федоровна сумела «прикрыть грех» – срочно сосватала его мать за чиновника Захара Покровского), именно она уже погубила судьбу Саши, «совратив ее с пути», сделав из нее продажную женщину, и именно она, в конце концов, «устроила» судьбу самой Вареньки Доброселовой – выдала-таки ее замуж за господина Быкова, продала ему.
АНТИПОВА Анна Николаевна («Дядюшкин сон»), прокурорша; дальняя родственница Князя К, «заклятый враг» Марьи Александровны Москалевой, «хотя и друг по наружности». Анна Николаевна – соперница Марьи Александровны за статус первой дамы Мордасова. Этим объясняется ядовитость, с которой Москалева защищает свою «подругу» от нападок, попутно довольно полно ее характеризуя: «На нее клевещут. За что вы все на нее нападаете? Она молода и любит наряды, – за это, что ли? Но, по-моему, уж лучше наряды, чем что-нибудь другое, вот как Наталья Дмитриевна, которая – такое любит, что и сказать нельзя. За то ли, что Анна Николаевна ездит по гостям и не может посидеть дома? Но Боже мой! Она не получила никакого образования, и ей, конечно, тяжело раскрыть, например, книгу или заняться чем-нибудь две минуты сряду. Она кокетничает и делает из окна глазки всем, кто ни пройдет по улице. Но зачем же уверяют ее, что она хорошенькая, когда у ней только белое лицо и больше ничего? Она смешит в танцах, – соглашаюсь! Но зачем же уверяют ее, что она прекрасно полькирует? На ней невозможные наколки и шляпки, – но чем же виновата она, что ей Бог не дал вкусу, а, напротив, дал столько легковерия. Уверьте ее, что хорошо приколоть к волосам конфетную бумажку, она и приколет. Она сплетница, но это здешняя привычка: кто здесь не сплетничает? К ней ездит Сушилов со своими бакенбардами и утром, и вечером, и чуть ли не ночью. Ах, Боже мой! еще бы муж козырял в карты до пяти часов утра! К тому же здесь столько дурных примеров! Наконец, это еще, может быть, и клевета. Словом, я всегда, всегда заступлюсь за нее!..»
К тому же Анна Николаевна еще вполне сохранилась, как свидетельствует уже Хроникер, и становится соперницей Зинаиды Москалевой на руку и сердце князя К: «Это была довольно хорошенькая маленькая дамочка, пестро, но богато одетая и сверх того очень хорошо знавшая, что она хорошенькая..»
АПОЛЛОН («Записки из подполья»), слуга Подпольного человека. Единственный персонаж в этой мрачной повести, вызывающий улыбку. Имя его восходит к древнегреческому богу Аполлону, покровителю искусств, которого изображали обыкновенно в виде прекрасного юноши с кифарой, и резко контрастирует с его внешностью и натурой. Исчерпывающую характеристику дает своему лакею хозяин, он же повествователь, в главке 8-й второй части: «Это была язва моя, бич, посланный на меня провиденьем. Мы с ним пикировались постоянно, несколько лет сряду, и я его ненавидел. Бог мой, как я его ненавидел! Никого в жизни я еще, кажется, так не ненавидел, как его, особенно в иные минуты. Человек он был пожилой, важный, занимавшийся отчасти портняжеством. Но неизвестно почему, он презирал меня, даже сверх всякой меры, и смотрел на меня нестерпимо свысока. Впрочем, он на всех смотрел свысока. Взглянуть только на эту белобрысую, гладко причесанную голову, на этот кок, который он взбивал себе на лбу и подмасливал постным маслом, на этот солидный рот, всегда сложенный ижицей, – и вы уже чувствовали перед собой существо, не сомневавшееся в себе никогда. Это был педант в высочайшей степени, и самый огромный педант из всех, каких я только встречал на земле; и при этом с самолюбием, приличным разве только Александру Македонскому. Он был влюблен в каждую пуговицу свою, в каждый свой ноготь – непременно влюблен, он тем смотрел! Относился он ко мне вполне деспотически, чрезвычайно мало говорил со мной, а если случалось ему на меня взглядывать, то смотрел твердым, величаво самоуверенным и постоянно насмешливым взглядом, приводившим меня иногда в бешенство. Исполнял он свою должность с таким видом, как будто делал мне высочайшую милость. Впрочем, он почти ровно ничего для меня не делал и даже вовсе не считал себя обязанным что-нибудь делать. Сомнения быть не могло, что он считал меня за самого последнего дурака на всем свете, и если «держал меня при себе», то единственно потому только, что от меня можно было получать каждый месяц жалованье. Он соглашался «ничего не делать» у меня за семь рублей в месяц. Мне за него много простится грехов. Доходило иногда до такой ненависти, что меня бросало чуть не в судороги от одной его походки. Но особенно гадко было мне его пришепетывание. У него был язык несколько длиннее, чем следует, или что-то вроде этого, оттого он постоянно шепелявил и сюсюкал и, кажется, этим ужасно гордился, воображая, что это придает ему чрезвычайно много достоинства. Говорил он тихо, размеренно, заложив руки за спину и опустив глаза в землю. Особенно бесил он меня, когда, бывало, начнет читать у себя за перегородкой Псалтырь. Много битв вынес я из-за этого чтенья. Но он ужасно любил читать по вечерам, тихим, ровным голосом, нараспев, точно как по мертвом. Любопытно, что он тем и кончил: он теперь нанимается читать Псалтырь по покойникам, а вместе с тем истребляет крыс и делает ваксу. Но тогда я не мог прогнать его, точно он был слит с существованием моим химически. К тому же он бы и сам не согласился от меня уйти ни за что. Мне нельзя было жить в шамбр-гарни [фр. меблированных комнатах]: моя квартира была мой особняк, моя скорлупа, мой футляр, в который я прятался от всего человечества, а Аполлон, черт знает почему, казался мне принадлежащим к этой квартире, и я целых семь лет не мог согнать его…» И далее описывается трагикомическая история, как хозяин в наказание решил-таки задержать слуге жалование недели на две, но выдержал только три дня и потерпел в этой битве характеров поражение.
Примечательно, что экзотическое для России имя Аполлон как бы делает этого героя тезкой двух близких товарищей Достоевского по литературе поэтов Аполлона Майкова и Аполлона Григорьева (оба, между прочим, активные сотрудники «Времени» и «Эпохи», в которой и печатались «Записки из подполья»), а манера пришепетывать была присуща «литературному врагу» И. С. Тургеневу, подчеркнутая впоследствии в образе Кармазинова («Бесы»), который говорил «приятно, по-барски, шепелявя».
АРИНА («Подросток»), девочка-подкидыш. Когда Аркадий Долгорукий жил еще в Москве у Николая Семеновича и Марьи Ивановны, в день именин последней к дверям их дома подкинули младенца – «окрещенную девочку Арину». Подросток взял девочку «на свой счет», поместил в семью соседа-столяра, в которой тоже была новорожденная девочка, решив платить за ее содержание, но через десять дней «Ариночка» заболела и умерла. Аркадий признается: «Ну, поверят ли, что я не то что плакал, а просто выл в этот вечер <… > я купил цветов и обсыпал ребеночка: так и снесли мою бедную былиночку, которую, поверят ли, до сих пор не могу забыть…» Стоит вспомнить в связи с этим, что в мае 1868 г. у Достоевских умерла первая дочь Соня, которой не было и трех месяцев. По воспоминаниям А. Г. Достоевской, Федор Михайлович чрезвычайно тяжело переживал смерть ребенка, «отчаяние его было бурное, он рыдал и плакал, как женщина», и каждый день потом до самого отъезда они на ее могилку «носили цветы и плакали».
АРТЕМЬЕВА Елизавета Михайловна (Лизанька) («Слабое сердце»), невеста Васи Шумкова. У нее был жених, который обманул ее и женился на другой, и она согласилась, наконец, стать невестой Васи, который уже давно ее любил. Лиза была брюнеткой (Вася хранил локон ее черных волос), с черными как смоль глазками и вся «ужасно как походила на вишенку». Через два года после катастрофы с Васей его друг Нефедевич случайно встретил Лизу в церкви – она была замужем, имела ребенка, сказала, что муж ее человек добрый и она его любит, но, судя по ее печальному лицу и слезам, по Васе она тосковала.
АРХИПОВ («Униженные и оскорбленные»), один из колоритных обитателей того мира, в котором, опустившись, зарабатывает себе на жизнь Маслобоев. Вместе с купчиком Сизобрюховым Архипов появляется в сценах, связанных с освобождением Нелли из притона мадам Бубновой, – он завсегдатай таких злачных мест. После Сизобрюхова Иван Петрович описывает и Архипова: «Товарищ его был уже лет пятидесяти, толстый, пузатый, одетый довольно небрежно, тоже с большой булавкой в галстуке, лысый и плешивый, с обрюзглым, пьяным и рябым лицом и в очках на носу, похожем на пуговку. Выражение этого лица было злое и чувственное. Скверные, злые и подозрительные глаза заплыли жиром и глядели как из щелочек…» Чуть позже обрисует этого мошенника Маслобоев: «Архипов, тоже что-то вроде купца или управляющего, шлялся и по откупам; бестия, шельма и теперешний товарищ Сизобрюхова, Иуда и Фальстаф, все вместе, двукратный банкрот и отвратительно чувственная тварь, с разными вычурами. В этом роде я знаю за ним одно уголовное дело; вывернулся. По одному случаю я очень теперь рад, что его здесь встретил; я его ждал… Архипов, разумеется, обирает Сизобрюхова. Много разных закоулков знает, тем и драгоценен для этаких вьюношей. Я, брат, на него уже давно зубы точу…» Именно для Архипова и нарядила мадам Бубнова Нелли-Елену в кисейное платьице и, судя по всему, преступление чуть было не свершилось: «В эту минуту страшный, пронзительный крик раздался где-то за несколькими дверями, за две или за три комнатки от той, в которой мы были. Я вздрогнул и тоже закричал. Я узнал этот крик: это был голос Елены. Тотчас же вслед за этим жалобным криком раздались другие крики, ругательства, возня и наконец ясные, звонкие, отчетливые удары ладонью руки по лицу. Это, вероятно, расправлялся Митрошка по своей части. Вдруг с силой отворилась дверь, и Елена, бледная, с помутившимися глазами, в белом кисейном, но совершенно измятом и изорванном платье, с расчесанными, но разбившимися, как бы в борьбе, волосами, ворвалась в комнату. Я стоял против дверей, а она бросилась прямо ко мне и обхватила меня руками. Все вскочили, все переполошились. Визги и крики раздались при ее появлении. Вслед за ней показался в дверях Митрошка, волоча за волосы своего пузатого недруга в самом растерзанном виде…»
АСТАФИЙ ИВАНОВИЧ («Честный вор»), жилец Неизвестного, поселившийся у него по протекции кухарки Аграфены. Служил он когда-то дворецким у богатого барина, да баре в деревню уехали и остался он без места. Стал на хлеб шитьем зарабатывать и жить по чужим углам. По словам Аграфены, это – «хороший, бывалый человек». Хозяин квартиры вскоре убедился, что «Аграфена не солгала: жилец мой был из бывалых людей. По паспорту оказалось, что он из отставных солдат, о чем я узнал, и не глядя на паспорт, с первого взгляда по лицу. Это легко узнать. Астафий Иванович, мой жилец, был из хороших между своими. Зажили мы хорошо. Но всего лучше было, что Астафий Иванович подчас умел рассказывать истории, случаи из собственной жизни. При всегдашней скуке моего житья-бытья такой рассказчик был просто клад…» Астафий Иванович рассказывает историю о «честном воре» Емельяне Ильиче (Емеле), который жил-проживал у него в нахлебниках, украл однажды на пропой готовые рейтузы из его сундука и очень из-за этого мучился. Из рассказа встает-рисуется образ прежде всего самого Астафия Ивановича – бесконечно доброго и отзывчивого на чужую беду человека.
В журнальном варианте образ и судьба этого героя были обрисованы более подробно: «Но жилец мой, Астафий Иванович, был отставной особого рода… Служба только заправила его на жизнь, но прежде всего он был из числа бывалых людей, и, кроме того, хороших людей. Службы его всего было восемь лет. Был он из белорусских губерний, поступил в кавалерийский полк и теперь числился в отставке. Потом он постоянно проживал в Петербурге, служил у частных лиц и уж Бог знает каких не испытал должностей. Был он и дворником, и дворецким, и камердинером, и кучером, даже жил два года в деревне приказчиком. Во всех этих званиях оказывался чрезвычайно способным. Сверх того был довольно хороший портной. Теперь ему было лет пятьдесят, и жил он уже сам по себе, небольшим доходом, получаемым в виде ежемесячной пенсии от каких-то добрых людей, которым услужил в свое время; да, сверх того, занимался портняжным искусством, которое тоже кое-что приносило. <…> Я полюбопытствовал о подробностях его службы и чрезмерно удивился, узнав, что он был почти во всех сражениях незабвенной эпохи тринадцатого и четырнадцатого годов…» И далее в журнальном варианте отставной Астафий Иванович рассказывал подробно о том, как воевал в войне против французов, побывал в плену, входил в Париж, самого Бонапарта видел…
Прототипом этого героя послужил унтер-офицер Евстафий, который, по воспоминаниям С. Д. Яновского, проживал в качестве слуги у Достоевского в 1847 г.
АСТЛЕЙ («Игрок»), богатый англичанин, «племянник лорда, настоящего лорда» и в то же время «сахаровар» (один из совладельцев сахарного завода), тайно влюбленный в Полину. «Я никогда в жизни не встречал человека более застенчивого; он застенчив до глупости и сам, конечно, знает об этом, потому что он вовсе не глуп. Впрочем, он очень милый и тихий. <…> Не знаю, как он познакомился с генералом; мне кажется, что он беспредельно влюблен в Полину. Когда она вошла, он вспыхнул, как зарево <…> мистер Астлей до того застенчив, стыдлив и молчалив, что на него почти можно понадеяться, – из избы сора не вынесет. <…> Да, я убежден, что он влюблен в Полину! Любопытно и смешно, сколько иногда может выразить взгляд стыдливого и болезненно-целомудренного человека, тронутого любовью, и именно в то время, когда человек уж, конечно, рад бы скорее сквозь землю провалиться, чем что-нибудь высказать или выразить, словом или взглядом. Мистер Астлей весьма часто встречается с нами на прогулках. Он снимает шляпу и проходит мимо, умирая, разумеется, от желания к нам присоединиться. Если же его приглашают, то он тотчас отказывается. На местах отдыха, в воксале, на музыке или пред фонтаном он уже непременно останавливается где-нибудь недалеко от нашей скамейки, и где бы мы ни были: в парке ли, в лесу ли, или на Шлангенберге, – стоит только вскинуть глазами, посмотреть кругом, и непременно где-нибудь, или на ближайшей тропинке, или из-за куста, покажется уголок мистера Астлея…» Мистер Астлей похож на благородных героев Диккенса, совершает одни только добрые поступки: выручает «бабушку» (Тарасевичеву Антониду Васильевну) займом после ее катастрофического проигрыша, пытается спасти от губительной рулетки Алексея Ивановича, Полина впоследствии находит приют в доме его сестры…
АФАНАСИЙ («Братья Карамазовы»), персонаж из вставного жизнеописания старца Зосимы – его денщик, когда был он еще Зиновием и служил в полку офицером. Накануне дуэли с Михаилом Зиновий жестоко – до крови – ударил денщика по лицу, вдруг это начало его мучить, и именно с этого мучения началось перерождение Зиновия в Зосиму («В самом деле, чем я так стою, чтобы другой человек, такой же, как я, образ и подобие Божие, мне служил?..»): наутро он на коленях попросил прощения у потрясенного Афанасия, во время поединка отказался стрелять в противника, подал в отставку и ушел в монахи. Странствуя, он встретил однажды, через восемь лет, в губернском городе К. бывшего денщика Афанасия, который был уже в отставке, стал Афанасием Павловичем, женился, двух детей народил и торговал мелким оптом на рынке с лотка. Афанасий принял бывшего командира как самого дорогого гостя, угостил, на прощание две полтины вынес – на монастырь и персонально ему. После прощания, теперь уже навеки, Зосима размышляет: «Был я ему господин, а он мне слуга, а теперь как облобызались мы с ним любовно и в духовном умилении, меж нами великое человеческое единение произошло. Думал я о сем много, а теперь мыслю так: неужели так недоступно уму, что сие великое и простодушное единение могло бы в свой срок и повсеместно произойти меж наших русских людей? Верую, что произойдет, и сроки близки…» Эта мысль старца Зосимы перекликается с одной из самых кардинальных тем «Пушкинской речи» Достоевского.
АФЕРДОВ («Подросток»), игрок на рулетке, вор. Прежде встречи с ним на рулетке Аркадий Долгорукий совершил непростительную ошибку – тоже во время игры: «Я, например, уверен, что известный игрок Афердов – вор; он и теперь фигурирует по городу: я еще недавно встретил его на паре собственных пони, но он – вор и украл у меня. Но об этом история еще впереди; в этот же вечер случилась лишь прелюдия: я сидел все эти два часа на углу стола, а подле меня, слева, помещался все время один гниленький франтик, я думаю, из жидков; он, впрочем, где-то участвует, что-то даже пишет и печатает. В самую последнюю минуту я вдруг выиграл двадцать рублей. Две красные кредитки лежали передо мной, и вдруг, я вижу, этот жиденок протягивает руку и преспокойно тащит одну мою кредитку. Я было остановил его, но он, с самым наглым видом и нисколько не возвышая голоса, вдруг объявляет мне, что это – его выигрыш, что он сейчас сам поставил и взял; он даже не захотел и продолжать разговора и отвернулся. Как нарочно, я был в ту секунду в преглупом состоянии духа: я замыслил большую идею и, плюнув, быстро встал и отошел, не захотев даже спорить и подарив ему красненькую. Да уж и трудно было бы вести эту историю с наглым воришкой, потому что было упущено время; игра уже ушла вперед. И вот это-то и было моей огромной ошибкой, которая и отразилась в последствиях: три-четыре игрока подле нас заметили наше препинание и, увидя, что я так легко отступился, вероятно, приняли меня самого за такого…»
Когда же в следующий раз Подросток крупно выиграл на рулетке, Афердов воспользовался моментом: «Вдруг пухлая рука с перстнем Афердова, сидевшего сейчас от меня направо и тоже ставившего на большие куши, легла на три радужных мои кредитки и накрыла их ладонью.
– Позвольте-с, это – не ваше, – строго и раздельно отчеканил он, довольно, впрочем, мягким голосом.
Вот это-то и была та прелюдия, которой потом, через несколько дней, суждено было иметь такие последствия. <…> Главное, я тогда еще не знал наверно, что Афердов – вор; я тогда еще и фамилию его не знал, так что в ту минуту действительно мог подумать, что я ошибся и что эти три сторублевые не были в числе тех, которые мне сейчас отсчитали. Я все время не считал мою кучу денег и только пригребал руками, а перед Афердовым тоже все время лежали деньги, и как раз сейчас подле моих, но в порядке и сосчитанные. Наконец, Афердова здесь знали, его считали за богача, к нему обращались с уважением: все это и на меня повлияло, и я опять не протестовал. Ужасная ошибка!..» Следствием ее было то, что Афердов и в следующий раз обворовал Подростка, да еще и обвинил его самого в воровстве – обвинению охотно поверили и выставили Аркадия с позором вон, после чего он чуть не покончил с собой и тяжело заболел.
Эти и подобные эпизоды «Подростка», связанные с рулеткой, перекликаются с аналогичными эпизодами из во многом автобиографического романа «Игрок».
АФРОСИНЬЮШКА («Преступление и наказание»), мещаночка-самоубийца. Она очутилась случайно рядом с Раскольниковым как раз в тот момент, когда тот, стоя на мосту и смотря в воду, подумывал о самоубийстве. «Он почувствовал, что кто-то стал подле него, справа, рядом; он взглянул – и увидел женщину, высокую, с платком на голове, с желтым, продолговатым, испитым лицом и с красноватыми впавшими глазами. Она глядела на него прямо, но, очевидно, ничего не видела и никого не различала. Вдруг она облокотилась правою рукой о перила, подняла правую ногу и замахнула ее за решетку, затем левую, и бросилась в канаву. Грязная вода раздалась, поглотила на мгновение жертву, но через минуту утопленница всплыла, и ее тихо понесло вниз по течению, головой и ногами в воде, спиной поверх, со сбившеюся и вспухшею над водой, как подушка, юбкой…» Однако ж женщину тут же вытащили, в толпе любопытных нашлась ее соседка, опознала, назвала имя – Афросиньюшка и добавила существенное: «До чертиков допилась, батюшки, до чертиков <…> анамнясь удавиться тоже хотела, с веревки сняли. Пошла я теперь в лавочку, девчоночку при ней глядеть оставила, – ан вот и грех вышел! Мещаночка, батюшка, наша мещаночка, подле живем, второй дом с краю, вот тут…»
Афросиньюшке этой, уж разумеется, не жить на белом свете: очередная ее попытка наложить на себя руки от нищеты, безысходности и пьяной тоски – непременно увенчается успехом. Но в данном случае она, сама того не ведая, совершила благое дело – спасла главного героя романа от «самоубийственного» шага: «Ему стало противно. «Нет, гадко… вода… не стоит, – бормотал он про себя…»
АХИЛЛЕС («Преступление и наказание»), караульный солдат пожарной части, ставший свидетелем самоубийства Свидригайлова. Аркадий Иванович иронически именует солдатика из-за форменной каски «Ахиллесом». «Тут-то стоял большой дом с каланчой. У запертых больших ворот дома стоял, прислонясь к ним плечом, небольшой человечек, закутанный в серое солдатское пальто и в медной ахиллесовской каске. Дремлющим взглядом, холодно покосился он на подошедшего Свидригайлова. На лице его виднелась та вековечная брюзгливая скорбь, которая так кисло отпечаталась на всех без исключения лицах еврейского племени. Оба они, Свидригайлов и Ахиллес, несколько времени, молча, рассматривали один другого. Ахиллесу наконец показалось непорядком, что человек не пьян, а стоит перед ним в трех шагах, глядит в упор и ничего не говорит.
– А-зе, стозе вам и здеся на-а-до? – проговорил он, все еще не шевелясь и не изменяя своего положения…»
Солдатик встревожился-испугался лишь тогда, когда Свидригайлов пояснил, что едет «в Америку», и приставил дуло револьвера к виску, но помешать не успел.
АХМАКОВ («Подросток»), генерал; муж Катерины Николаевны Ахмаковой. За полтора года до описываемых в романе событий «Версилов, став через старого князя Сокольского другом дома Ахмаковых (все тогда находились за границей, в Эмсе), произвел сильное впечатление, во-первых, на самого Ахмакова, генерала и еще нестарого человека, но проигравшего все богатое приданое своей жены, Катерины Николаевны, в три года супружества в карты и от невоздержной жизни уже имевшего удар». Генерал от первого удара «очнулся и поправлялся за границей, а в Эмсе проживал для своей дочери, от первого своего брака». Ахмаков поначалу противился предполагаемому браку Версилова с дочерью (Лидией Ахмаковой), затем уже готов был смириться. Смерть Лидии после попытки самоубийства он пережил тяжело и через три месяца скончался от второго апоплексического удара.
АХМАКОВА Катерина Николаевна («Подросток»), дочь князя Сокольского, вдова генерала Ахмакова, невеста барона Бьоринга. Окончательно намечая в черновых материалах образ этой героини (на том этапе – Княгини), Достоевский после записей о Версилове определяет-подчеркивает: «…но надо: поднять и лицо Княгини. Сделать ее тоже гордою и фантастичною». И именно Ахмаковой доверено автором сформулировать суждение о современном обществе – одну из «капитальных» тем романа: «В нем во всем ложь, фальшь, обман и высший беспорядок. Ни один из этих людей не выдержит пробы: полная безнравственность, полный цинизм…» Окончательный портрет и характер Катерины Николаевны пробует определить, конечно, «автор» записок, Аркадий Долгорукий, своим сбивчивым слогом: «Я не могу больше выносить вашу улыбку! – вскричал я вдруг, – зачем я представлял вас грозной, великолепной и с ехидными светскими словами еще в Москве? Да, в Москве; мы об вас еще там говорили с Марьей Ивановной и представляли вас, какая вы должны быть… <…> Когда я ехал сюда, вы всю ночь снились мне в вагоне. Я здесь до вашего приезда глядел целый месяц на ваш портрет у вашего отца в кабинете и ничего не угадал. Выражение вашего лица есть детская шаловливость и бесконечное простодушие – вот! Я ужасно дивился на это все время, как к вам ходил. О, и вы умеете смотреть гордо и раздавливать взглядом: я помню, как вы посмотрели на меня у вашего отца, когда приехали тогда из Москвы… Я вас тогда видел, а между тем спроси меня тогда, как я вышел: какая вы? – и я бы не сказал. Даже росту вашего бы не сказал. Я как увидал вас, так и ослеп. Ваш портрет совсем на вас не похож: у вас глаза не темные, а светлые, и только от длинных ресниц кажутся темными. Вы полны, вы среднего роста, но у вас плотная полнота, легкая, полнота здоровой деревенской молодки. Да и лицо у вас совсем деревенское, лицо деревенской красавицы, – не обижайтесь, ведь это хорошо, это лучше – круглое, румяное, ясное, смелое, смеющееся и… застенчивое лицо! Право, застенчивое. Застенчивое у Катерины Николаевны Ахмаковой! Застенчивое и целомудренное, клянусь! Больше чем целомудренное – детское! – вот ваше лицо! Я все время был поражен и все время спрашивал себя: та ли это женщина? Я теперь знаю, что вы очень умны, но ведь сначала я думал, что вы простоваты. У вас ум веселый, но без всяких прикрас… Еще я люблю, что с вас не сходит улыбка: это – мой рай! Еще люблю ваше спокойствие, вашу тихость и то, что вы выговариваете слова плавно, спокойно и почти лениво, – именно эту ленивость люблю. Кажется, подломись под вами мост, вы и тут что-нибудь плавно и мерно скажете… Я воображал вас верхом гордости и страстей, а вы все два месяца говорили со мной как студент с студентом… Я никогда не воображал, что у вас такой лоб: он немного низок, как у статуй, но бел и нежен, как мрамор, под пышными волосами. У вас грудь высокая, походка легкая, красоты вы необычайной, а гордости нет никакой. Я ведь только теперь поверил, все не верил!..»
Катерина Николаевна была замужем за генералом Ахмаковым, который прокутил ее богатое приданое и умер от апоплексического удара, оставив ее без средств. В недобрую минуту она вздумала однажды спросить совета в письме к юристу Андроникову – не следует ли учредить опеку над ее отцом князем Сокольским, который, словно впав в безумие, транжирил деньги? Минута прошла, Андроников отсоветовал это делать, но письмо осталось, и после смерти юриста могло попасть в руки старого князя, что, естественно, подвигло бы его лишить дочь наследства. Ахмакова думает, что письмо это находится у Версилова, с которым ее связывают запутанные отношения любви-ненависти, на самом же деле оно зашито за подкладку пиджака Подростка, который с этим важным письмом и приехал в Петербург, чтобы самому во всем «разобраться». Только к самому финалу романа Аркадий «разобрался», что его влюбленность в Катерину Николаевну ни в какое сравнение не идет со страстью к ней, которой мучается на протяжении долгих лет Версилов. В этом финале Версилов даже идет на сговор с негодяем Ламбертом, который завладел компрометирующим письмом, пытается шантажировать Ахмакову и угрожает ей пистолетом, тут же, обезумев, сам пытается застрелить ее, затем, когда Аркадий и Тришатов мешают ему это сделать, Версилов стреляет в себя… И уже в «Заключении» разъясняется окончательно: Катерина Николаевна отказала «щепетильному» барону Бьорингу, с Версиловым, судя по всему, все и всяческий отношения прекращены навсегда, она унаследовала после последовавшей вскоре кончины отца большую часть его богатого состояния, и о дальнейшей судьбе молодой богатой княгини и генеральши можно только догадываться.
В Ахмаковой отразились отдельные черты А. В. Корвин-Круковской.
АХМАКОВА Лидия («Подросток»), дочь генерала Ахмакова, падчерица Катерины Николаевны Ахмаковой. «Это была болезненная девушка, лет семнадцати, страдавшая расстройством груди и, говорят, чрезвычайной красоты, а вместе с тем и фантастичности…» По словам Васина: «Это была очень странная девушка <…> очень даже может быть, что она не всегда была в совершенном рассудке…» Версилов же, показывая ее фотопортрет Аркадию Долгорукому, более категоричен: «Это тоже была фотография, несравненно меньшего размера, в тоненьком, овальном, деревянном ободочке – лицо девушки, худое и чахоточное и, при всем том, прекрасное; задумчивое и в то же время до странности лишенное мысли. Черты правильные, выхоленного поколениями типа, но оставляющие болезненное впечатление: похоже было на то, что существом этим вдруг овладела какая-то неподвижная мысль, мучительная именно тем, что была ему не под силу.
– Это… это та девушка, на которой вы хотели там жениться и которая умерла в чахотке… ее падчерица? – проговорил я несколько робко.
– Да, хотел жениться, умерла в чахотке, ее падчерица. Я знал, что ты знаешь… все эти сплетни. Впрочем, кроме сплетен, ты тут ничего и не мог бы узнать. Оставь портрет, мой друг, это бедная сумасшедшая, и ничего больше.
– Совсем сумасшедшая?
– Или идиотка; впрочем, я думаю, что и сумасшедшая…»
Лидия была какое-то время в связи с князем Сергеем Петровичем Сокольским, родила от него девочку, которую впоследствии считали ребенком Версилова (в него экзальтированная Лидия влюбилась до безумия). На самом деле Версилов даже предлагал ей брак (с разрешения гражданской жены своей Софьи Андреевны Долгорукой), дабы «прикрыть чужой грех», но девушка, спустя две недели после преждевременных родов, умерла при странных обстоятельствах – чуть ли не покончила жизнь самоубийством, отравившись фосфорными спичками (по крайней мере Крафт в это верит).
Б. («Неточка Незванова»), знаменитый скрипач; товарищ и покровитель отчима Неточки Незвановой – Ефимова. Они встретились, когда Ефимов перебрался в Петербург. «Он поселился где-то на чердаке и тут-то в первый раз сошелся с Б., который только что приехал из Германии и тоже замышлял составить себе карьеру. Они скоро подружились, и Б. с глубоким чувством вспоминает даже и теперь об этом знакомстве. Оба были молоды, оба с одинаковыми надеждами, и оба с одною и тою же целью. Но Б. еще был в первой молодости; он перенес еще мало нищеты и горя; сверх того, он был прежде всего немец и стремился к своей цели упрямо, систематически, с совершенным сознанием сил своих и почти рассчитав заранее, что из него выйдет…» Ефимов в то время как раз возомнил себя скрипачом-гением, восторженно мечтал о славе. «Этот беспрерывный восторг поразил холодного, методического Б.; он был ослеплен и приветствовал моего отчима как будущего великого музыкального гения. Иначе он не мог и представить себе будущую судьбу своего товарища. Но вскоре Б. открыл глаза и разгадал его совершенно. Он ясно увидел, что вся эта порывчатость, горячка и нетерпение – не что иное, как бессознательное отчаяние при воспоминании о пропавшем таланте…» Рассказывая-вспоминая впоследствии о той поре, Б. очень трезво оценивал самого себя: «Что же касается до меня, – продолжал Б., – то я был спокоен насчет себя самого. Я тоже страстно любил свое искусство, хотя знал при самом начале моего пути, что большего мне не дано, что я буду, в собственном смысле, чернорабочий в искусстве; но зато я горжусь тем, что не зарыл, как ленивый раб, того, что мне дано было от природы, а, напротив, возрастил сторицею, и если хвалят мою отчетливость в игре, удивляются выработанности механизма, то всем этим я обязан беспрерывному, неусыпному труду, ясному сознанию сил своих, добровольному самоуничтожению и вечной вражде к заносчивости, к раннему самоудовлетворению и к лени как естественному следствию этого самоудовлетворения…»
Именно в уста Б. (в его слова Ефимову) Достоевский вложил свои сокровенные мысли-размышления о путях и судьбе таланта, которые в ту пору, пору его литературной юности, занимали его чрезвычайно, сопрягались с собственной судьбой – в строках этих много автобиографического: «Друг мой, нужно терпение и мужество. Тебя ждет жребий завиднее моего: ты во сто раз более художник, чем я; но дай Бог тебе хоть десятую долю моего терпения. Учись и не пей, как говорил тебе твой добрый помещик, а главное – начинай сызнова, с азбуки. Что тебя мучит? бедность, нищета. Но бедность и нищета образуют художника. Они неразлучны с началом. Ты еще никому не нужен теперь, никто тебя и знать не хочет; так свет идет. Подожди, не то еще будет, когда узнают, что в тебе есть дарование. Зависть, мелочная подлость, а пуще всего глупость налягут на тебя сильнее нищеты. Таланту нужно сочувствие, ему нужно, чтоб его понимали, а ты увидишь, какие лица обступят тебя, когда ты хоть немного достигнешь цели. Они будут ставить ни во что и с презрением смотреть на то, что в тебе выработалось тяжким трудом, лишениями, голодом, бессонными ночами. Они не ободрят, не утешат тебя, твои будущие товарищи; они не укажут тебе на то, что в тебе хорошо и истинно, но с злою радостью будут поднимать каждую ошибку твою, будут указывать тебе именно на то, что у тебя дурно, на то, в чем ты ошибаешься, и под наружным видом хладнокровия и презрения к тебе будут как праздник праздновать каждую твою ошибку (будто кто-нибудь был без ошибок!). Ты же заносчив, ты часто некстати горд и можешь оскорбить самолюбивую ничтожность, и тогда беда – ты будешь один, а их много; они тебя истерзают булавками. Даже я начинаю это испытывать. Ободрись же теперь! Ты еще совсем не так беден, ты можешь жить, не пренебрегай черной работой, руби дрова, как я рубил их на вечеринках у бедных ремесленников. Но ты нетерпелив, ты болен своим нетерпением, у тебя мало простоты, ты слишком хитришь, слишком много думаешь, много даешь работы своей голове; ты дерзок на словах и трусишь, когда придется взять в руки смычок. Ты самолюбив, и в тебе мало смелости. Смелей же, подожди, поучись, и если не надеешься на силы свои, так иди на авось; в тебе есть жар, есть чувство. Авось дойдешь до цели, а если нет, все-таки иди на авось: не потеряешь ни в каком случае, потому что выигрыш слишком велик. Тут, брат, наше авось – дело великое!..»
Этот Б. продолжал поддерживать Ефимова и помогать ему, когда тот уже окончательно опустился, а впоследствии Неточка часто видела его в доме Александры Михайловны, с которой музыкант был в большой дружбе.
Б-КИЙ (Б-СКИЙ; Б.) («Записки из Мертвого дома»), арестант из поляков-дворян, который в записках именуется по-разному. «Б. был слабосильный, тщедушный человек, еще молодой, страдавший грудью. Он прибыл в острог с год передо мною вместе с двумя другими из своих товарищей – одним стариком, все время острожной жизни денно и нощно молившимся Богу (за что уважали его арестанты) и умершим при мне (имеется в виду Ж-кий. – Н. Н.), и с другим, еще очень молодым человеком, свежим, румяным, сильным, смелым, который дорогою нес устававшего с пол-этапа Б., что продолжалось семьсот верст сряду (речь идет о Т-ском. – Н. Н.). Нужно было видеть их дружбу между собою. Б. был человек с прекрасным образованием, благородный, с характером великодушным, но испорченным и раздраженным болезнью. <…> Б-кий был больной, несколько наклонный к чахотке человек, раздражительный и нервный, но в сущности предобрый и даже великодушный. Раздражительность его доходила иногда до чрезвычайной нетерпимости и капризов…» И далее дана общая характеристика арестантов-поляков: «Впрочем, все они были больные нравственно, желчные, раздражительные, недоверчивые. Это понятно: им было очень тяжело, гораздо тяжелее, чем нам. Были они далеко от своей родины. Некоторые из них были присланы на долгие сроки, на десять, на двенадцать лет, а главное, они с глубоким предубеждением смотрели на всех окружающих, видели в каторжных одно только зверство и не могли, даже не хотели, разглядеть в них ни одной доброй черты, ничего человеческого, и что тоже очень было понятно: на эту несчастную точку зрения они были поставлены силою обстоятельств, судьбой. Ясное дело, что тоска душила их в остроге…»
Полная фамилия Б-кого – И. Богуславский.

Ф. М. Достоевский. Фотография неизвестного автора, конец 1850-х гг.
Б-М («Записки из Мертвого дома»), арестант из поляков, маляр. «Б – м, человек уже пожилой, производил на всех нас прескверное впечатление. Не знаю, как он попал в разряд таких преступников, да и сам он отрицал это. Это была грубая, мелкомещанская душа, с привычками и правилами лавочника, разбогатевшего на обсчитанные копейки. Он был безо всякого образования и не интересовался ничем, кроме своего ремесла. Он был маляр, но маляр из ряду вон, маляр великолепный. Скоро начальство узнало о его способностях, и весь город стал требовать Б-ма для малеванья стен и потолков. В два года он расписал почти все казенные квартиры. Владетели квартир платили ему от себя, и жил он таки небедно. Но всего лучше было то, что на работу с ним стали посылать и других его товарищей. <…> Наш плац-майор, занимавший тоже казенный дом, в свою очередь потребовал Б-ма и велел расписать ему все стены и потолки. Тут уж Б – м постарался: у генерал-губернатора не было так расписано. Дом был деревянный, одноэтажный, довольно дряхлый и чрезвычайно шелудивый снаружи: расписано же внутри было, как во дворце, и майор был в восторге… <…> Б-мом был он все более и более доволен, а чрез него и другими, работавшими с ним вместе. Работа шла целый месяц. В этом месяце майор совершенно изменил свое мнение о всех наших и начал им покровительствовать…» Полная фамилия этого поляка – К. Бем.
БАБУШКА («Белые ночи»), единственный родной человек Настеньки. Девушка поведала Мечтателю: «Есть у меня старая бабушка. Я к ней попала еще очень маленькой девочкой, потому что у меня умерли и мать и отец. Надо думать, что бабушка была прежде богаче, потому что и теперь вспоминает о лучших днях. Она же меня выучила по-французски и потом наняла мне учителя. Когда мне было пятнадцать лет (а теперь мне семнадцать), учиться мы кончили. Вот в это время я и нашалила; уж что я сделала – я вам не скажу; довольно того, что проступок был небольшой. Только бабушка подозвала меня к себе в одно утро и сказала, что так как она слепа, то за мной не усмотрит, взяла булавку и пришпилила мое платье к своему, да тут и сказала, что так мы будем всю жизнь сидеть, если, разумеется, я не сделаюсь лучше…» Так и жили: Бабушка, несмотря на слепоту, чулок вяжет, Настенька, пришпиленная к ней, шьет или книжку вслух читает. Пока не появился в их доме новый Жилец…
БАГАУТОВ Степан Михайлович («Вечный муж»), один из любовников Натальи Васильевны Трусоцкой. Он получил этот «статус» ровно через год после Вельчанинова и целых пять лишних лет, пренебрегая перспективой карьеры в Петербурге, служил губернским чиновником в городе Т. «единственно для этой женщины», пока тоже не получил «отставку» и только тогда воротился наконец в столицу. Павел Павлович Трусоцкий признается Вельчанинову, что, может, единственно для того в Петербург и приехал после смерти жены, дабы найти Багаутова, а он возьми, да и умри буквально в день его приезда – совершенно случайно, разумеется, «от нервной горячки». Так что обманутому мужу довелось любовника своей жены только в гробу лицезреть и переключить все свои силы на поиски другого бывшего «друга семьи» – Вельчанинова.
БАКЛУШИН Александр («Записки из Мертвого дома»), арестант особого отделения. Он служил в гарнизоне унтер-офицером, влюбился в немку Луизу, а ту отец решил выдать за старого и богатого Шульца – Баклушин соперника застрелил, да еще и нагрубил капитану в ссудной комиссии, за что получил четыре тысячи палок и бессрочную каторгу. Имя его вынесено в название главы IX первой части – «Исай Фомич. Баня. Рассказ Баклушина», где приводится его горькая история, и повествователь (Горянчиков) дает ему характеристику: «Я не знаю характера милее Баклушина. Правда, он не давал спуску другим, он даже часто ссорился, не любил, чтоб вмешивались в его дела, – одним словом, умел за себя постоять. Но он ссорился ненадолго, и, кажется, все у нас его любили. Куда он ни входил, все встречали его с удовольствием. Его знали даже в городе как забавнейшего человека в мире и никогда не теряющего своей веселости. Это был высокий парень, лет тридцати, с молодцеватым и простодушным лицом, довольно красивым, и с бородавкой. Это лицо он коверкал иногда так уморительно, представляя встречных и поперечных, что окружавшие его не могли не хохотать. Он был тоже из шутников; но не давал потачки нашим брезгливым ненавистникам смеха, так что его уж никто не ругал за то, что он «пустой и бесполезный» человек. Он был полон огня и жизни…» Этот Баклушин был одним из ведущих и действительно талантливых актеров острожного театра. Прототип – С. Арефьев.
БАРАШКОВА Настасья Филипповна («Идиот»), главная героиня романа, вокруг которой завязаны основные сюжетные узлы. Князь Мышкин впервые видит ее (сначала на портрете) в день, когда ей исполнилось 25 лет. «Так это Настасья Филипповна? – промолвил он, внимательно и любопытно поглядев на портрет: – Удивительно хороша! – прибавил он тотчас же с жаром. На портрете была изображена действительно необыкновенной красоты женщина. Она была сфотографирована в черном шелковом платье, чрезвычайно простого и изящного фасона; волосы, по-видимому, темно-русые, были убраны просто, по-домашнему; глаза темные, глубокие, лоб задумчивый; выражение лица страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может быть, и бледна… <…>
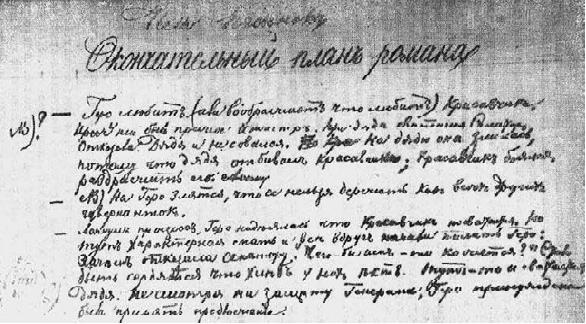
План романа «Идиот»
– Удивительное лицо! – ответил князь. – И я уверен, что судьба ее не из обыкновенных. Лицо веселое, а она ведь ужасно страдала, а? Об этом глаза говорят, вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щек. Это гордое лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра! Все было бы спасено!..»
Затем князь еще раз, уже наедине, вглядывается в портрет: «Давешнее впечатление почти не оставляло его, и теперь он спешил как бы что-то вновь проверить. Это необыкновенное по своей красоте и еще по чему-то лицо еще сильнее поразило его теперь. Как будто необъятная гордость и презрение, почти ненависть, были в этом лице, и в то же самое время что-то доверчивое, что-то удивительно простодушное; эти два контраста возбуждали как будто даже какое-то сострадание при взгляде на эти черты. Эта ослепляющая красота была даже невыносима, красота бледного лица, чуть не впалых щек и горевших глаз; странная красота! Князь смотрел с минуту, потом вдруг спохватился, огляделся кругом, поспешно приблизил портрет к губам и поцеловал его. Когда через минуту он вошел в гостиную, лицо его было совершенно спокойно…»
Мышкин как бы угадал всю прежнюю и будущую судьбу Настасьи Филипповны. Она родилась в семье мелкопоместного помещика Филиппа Александровича Барашкова – «отставного офицера, хорошей дворянской фамилии». Когда Насте было семь лет, «вотчина» их сгорела, в огне погибла мать, отец от горя сошел с ума и умер в горячке, умерла вскоре и младшая сестра, так что девочка осталась одна на всем белом свете. Сосед, богатый помещик Афанасий Иванович Тоцкий, «по великодушию своему, принял на свое иждивение» сироту, она выросла в семье его управляющего-немца. «Лет пять спустя, однажды, Афанасий Иванович, проездом, вздумал заглянуть в свое поместье и вдруг заметил в деревенском своем доме, в семействе своего немца, прелестного ребенка, девочку лет двенадцати, резвую, милую, умненькую и обещавшую необыкновенную красоту; в этом отношении Афанасий Иванович был знаток безошибочный. В этот раз он пробыл в поместье всего несколько дней, но успел распорядиться; в воспитании девочки произошла значительная перемена: приглашена была почтенная и пожилая гувернантка, опытная в высшем воспитании девиц, швейцарка, образованная и преподававшая, кроме французского языка, и разные науки. Она поселилась в деревенском доме, и воспитание маленькой Настасьи приняло чрезвычайные размеры. Ровно чрез четыре года это воспитание кончилось; гувернантка уехала, а за Настей приехала одна барыня, тоже какая-то помещица и тоже соседка г-на Тоцкого по имению, но уже в другой, далекой губернии, и взяла Настю с собой, вследствие инструкции и полномочия от Афанасия Ивановича. В этом небольшом поместье оказался тоже, хотя и небольшой, только что отстроенный деревянный дом; убран он был особенно изящно, да и деревенька, как нарочно, называлась сельцо Отрадное. Помещица привезла Настю прямо в этот тихий домик, и так как сама она, бездетная вдова, жила всего в одной версте, то и сама поселилась вместе с Настей. Около Насти явилась старуха ключница и молодая, опытная горничная. В доме нашлись музыкальные инструменты, изящная девичья библиотека, картины, эстампы, карандаши, кисти, краски, удивительная левретка, а чрез две недели пожаловал и сам Афанасий Иванович… С тех пор он как-то особенно полюбил эту глухую, степную свою деревеньку, заезжал каждое лето, гостил по два, даже по три месяца, и так прошло довольно долгое время, года четыре, спокойно и счастливо, со вкусом и изящно…»
Идиллия кончилась, когда Настасья Филипповна узнала, что Тоцкий в Петербурге «женится на красавице, на богатой, на знатной, – одним словом, делает солидную и блестящую партию». И в судьбе Настасьи Филипповны с этого времени произошел чрезвычайный переворот. «Она вдруг выказала необыкновенную решимость и обнаружила самый неожиданный характер. Долго не думая, она бросила свой деревенский домик и вдруг явилась в Петербург, прямо к Тоцкому, одна-одинехонька. Тот изумился, начал было говорить; но вдруг оказалось, почти с первого слова, что надобно совершенно изменить слог, диапазон голоса, прежние темы приятных и изящных разговоров, употреблявшиеся доселе с таким успехом, логику, – все, все, все! Пред ним сидела совершенно другая женщина, нисколько не похожая на ту, которую он знал доселе <… > Эта новая женщина, оказалось, во-первых, необыкновенно много знала и понимала, – так много, что надо было глубоко удивляться, откуда могла она приобрести такие сведения, выработать в себе такие точные понятия. (Неужели из своей девичьей библиотеки?) Мало того, она даже юридически чрезвычайно много понимала и имела положительное знание, если не света, то о том, по крайней мере, как некоторые дела текут на свете. Во-вторых, это был совершенно не тот характер как прежде, то есть не что-то робкое, пансионски неопределенное, иногда очаровательное по своей оригинальной резвости и наивности, иногда грустное и задумчивое, удивленное, недоверчивое, плачущее и беспокойное.
Нет: тут хохотало пред ним и кололо его ядовитейшими сарказмами необыкновенное и неожиданное существо, прямо заявившее ему, что никогда оно не имело к нему в своем сердце ничего, кроме глубочайшего презрения, презрения до тошноты, наступившего тотчас же после первого удивления. Эта новая женщина объявляла, что ей в полном смысле все равно будет, если он сейчас же и на ком угодно женится, но что она приехала не позволить ему этот брак, и не позволить по злости, единственно потому, что ей так хочется, и что следственно так и быть должно…»
Тоцкий намеревался жениться на одной из дочерей генерала Епанчина – Александре. Настасья Филипповна не может «юридически» помешать этому браку, но она в состоянии, погубив себя, погубить и его матримониальные планы. Непримиримость, максимализм Настасьи Филипповны, ее безграничная гордость вкупе с ее ослепительной красотой вовлекают в орбиту ее инфернального притяжения все новых и новых претендентов на ее сердце, вернее – тело. Она в прямом смысле слова становится предметом купли, предметом торга. Генерал Епанчин, Ганя Иволгин, купец-миллионщик Парфен Рогожин – все они рассчитывают так или иначе «купить» Настасью Филипповну. И только князь Мышкин видит в этой мятущейся женщине живую, страдающую, легко ранимую душу. Сама Настасья Филипповна, запутавшись в своих чувствах, мечется между Парфеном Рогожиным и князем Мышкиным, соглашается на брак то с одним, то с другим и в финале погибает от ножа Рогожина.
В образе Настасьи Филипповны Барашковой можно усмотреть отдельные черты сходства с Аполлинарией Прокофьевной Сусловой, а во взаимоотношениях героини романа с Тоцким, годящимся ей по возрасту в отцы, проявились в какой-то мере глубинные психологические мотивы любви-ненависти, составляющие суть взаимоотношений Сусловой и Достоевского.
БАРОН Р. («Подросток»), товарищ барона Бъоринга, следующий за ним повсюду как тень. Именно он явился к Версилову как представитель Бьоринга для переговоров, когда Версилов, по мнению немцев, оскорбил невесту последнего – Катерину Николаевну Ахмакову. «…пополудни пожаловал к нему один барон Р., полковник, военный, господин лет сорока, немецкого происхождения, высокий, сухой и с виду очень сильный физически человек, тоже рыжеватый, как и Бьоринг, и немного только плешивый. Это был один из тех баронов Р., которых очень много в русской военной службе, все людей с сильнейшим баронским гонором, совершенно без состояния, живущих одним жалованьем и чрезвычайных служак и фрунтовиков…»
БАХМУТОВ («Идиот»), персонаж из «Необходимого объяснения» Ипполита Терентьева, его «товарищ» по школе. «С этим Бахмутовым в гимназии, в продолжение нескольких лет, я был в постоянной вражде. У нас он считался аристократом, по крайней мере, я так называл его: прекрасно одевался, приезжал на своих лошадях, нисколько не фанфаронил, всегда был превосходный товарищ, всегда был необыкновенно весел и даже иногда очень остер, хотя ума был совсем не далекого, несмотря на то, что всегда был первым в классе; я же никогда, ни в чем не был первым. Все товарищи любили его, кроме меня одного. Он несколько раз в эти несколько лет подходил ко мне; но я каждый раз угрюмо и раздражительно от него отворачивался…»
И вот Ипполит, случайно став перед смертью филантропом, вспомнил об однокашнике, чтобы помочь случайному встречному – Медику. Дело в том, что у Бахмутова был дядя Петр Матвеевич Бахмутов, действительный статский советник и директор, от которого и зависела участь Медика, потерявшего место, поэтому Ипполит и отправился к Бахмутову: «Теперь я уже не видал его с год; он был в университете. Когда, часу в девятом, я вошел к нему (при больших церемониях: обо мне докладывали), он встретил меня сначала с удивлением, вовсе даже неприветливо, но тотчас повеселел и, глядя на меня, вдруг расхохотался.
– Да что это вздумалось вам придти ко мне, Терентьев? – вскричал он со своею всегдашнею, милой развязностию, иногда дерзкою, но никогда не оскорблявшею, которую я так в нем любил и за которую так его ненавидел…»
Бахмутов охотно соглашается похлопотать за протеже Ипполита, и хлопоты эти достигают цели, затем он уже по собственной инициативе активно помогает Медику и его семье деньгами, устраивает им проводы при отъезде к месту новой службы. Вот после этого прощального ужина, когда Бахмутов провожал Терентьева домой, между ними и состоялся откровенный и даже задушевный разговор о смысле жизни, который окончательно подтолкнул Ипполита к мысли о самоубийстве.
БАХЧЕЕВ Степан Алексеевич («Село Степанчиково и его обитатели»), помещик, сосед Егора Ильича Ростанева. Глава вторая первой части озаглавлена в его честь – «Господин Бахчеев». Рассказчик Сергей Александрович встретил его на пути в Степанчиково у кузницы: «Выйдя из тарантаса, я увидел одного толстого господина, который, так же как и я, принужден был остановиться для починки своего экипажа. Он стоял уже целый час на нестерпимом зное, кричал, бранился и с брюзгливым нетерпением погонял мастеровых, суетившихся около его прекрасной коляски. С первого же взгляда этот сердитый барин показался мне чрезвычайной брюзгой. Он был лет сорока пяти, среднего роста, очень толст и ряб. Толстота, кадык и пухлые, отвислые его щеки свидетельствовали о блаженной помещичьей жизни. Что-то бабье было во всей его фигуре и тотчас же бросалось в глаза. Одет он был широко, удобно, опрятно, но отнюдь не по моде…»
Чуть позже выяснилось, что злится-сердится толстяк потому, что разозлился еще в Степанчикове из-за Фомы Фомича Опискина., которого терпеть не может. На самом же деле господин Бахчеев оказался добряком и весельчаком. Он помнил Сергея Александровича еще ребенком, очень обрадовался встрече и первым посвятил его в тонкости жизни Степанчикова, где полным хозяином оказался не полковник Ростанев, а проходимец и приживальщик Опискин.
В финале повести упоминается, что господин Бахчеев сделал предложение Прасковье Ильиничне Ростаневой, но оно было отклонено, что он собирается теперь сделать предложение сестре Мизинчикова… Рассказчик на этом интригующе обрывает: «Впрочем, о господине Бахчееве мы надеемся поговорить в другой раз, в другом рассказе, подробнее…» Обещание это исполнено не было.
БЕЗМЫГИН («Униженные и оскорбленные»), главный идеолог кружка Левеньки и Бореньки. В этом кружке проглядывает сходство (конечно, в карикатурном преломлении) одновременно с кружком М. В. Петрашевского конца 1840-х гг. и кружком «Современника» начала 1860-х гг., а в Безмыгине можно усмотреть намек на И. А. Добролюбова. В захлебывающемся пересказе Алеши Волковского речи и изречения Безмыгина, «гениальной головы», звучат пародией на статьи ведущего критика «Современника»: «Не далее как вчера он сказал к разговору: дурак, сознавшийся, что он дурак, есть уже не дурак! Такие изречения у него поминутно. Он сыплет истинами…» И далее Алеша с восторгом рассказывает, что под влиянием Безмыгина они решили заняться «изучением самих себя порознь, а все вместе толковать друг другу друг друга…» Даже князь Волковский был шокирован: «– Что за галиматья!..»
БЕЛКА («Записки из Мертвого дома») – собака. При остроге жило несколько приблудных собак, с которыми Достоевский (Горянчиков) «дружил», и они за ласку отвечали ему преданной любовью, помогали выжить на каторге, а одна из собак (правда, не упомянутая в «Записках…») в прямом смысле слова спасла однажды писателю жизнь. «В качестве постоянной острожной собаки жил у нас <…> Шарик, умная и добрая собака, с которой я был в постоянной дружбе. Но так как уж собака вообще у всего простонародья считается животным нечистым, на которое и внимания не следует обращать, то и на Шарика у нас почти никто не обращал внимания. <…> в продолжение многих лет она не добилась никакой ласки ни от кого, кроме разве меня. За это-то она и любила меня более всех. Не помню, каким образом появилась у нас потом в остроге и другая собака, Белка. Третью же, Культяпку, я сам завел, принеся ее как-то с работы, еще щенком. Белка была странное создание. Ее кто-то переехал телегой, и спина ее была вогнута внутрь, так что когда она, бывало, бежит, то казалось издали, что бегут двое каких-то белых животных, сращенных между собою. Кроме того, вся она была какая-то паршивая, с гноящимися глазами; хвост был облезший, почти весь без шерсти, и постоянно поджатый. Оскорбленная судьбою, она, видимо, решилась смириться. Никогда-то она ни на кого не лаяла и не ворчала, точно не смела. Жила она больше, из хлеба, за казармами; если же увидит, бывало, кого-нибудь из наших, то тотчас же еще за несколько шагов, в знак смирения, перекувырнется на спину: «Делай, дескать, со мной что тебе угодно, а я, видишь, и не думаю сопротивляться». И каждый арестант, перед которым она перекувырнется, пырнет ее, бывало, сапогом, точно считая это непременною своею обязанностью. <…> Я попробовал раз ее приласкать; это было для нее так ново и неожиданно, что она вдруг вся осела к земле, на все четыре лапы, вся затрепетала и начала громко визжать от умиления. Из жалости я ласкал ее часто. Зато она встречать меня не могла без визгу. Завидит издали и визжит, визжит болезненно и слезливо. <…> Совсем другого характера был Культяпка. Зачем я его принес из мастерской в острог еще слепым щенком, не знаю. Мне приятно было кормить и растить его. <… > Странно, что Культяпка почти не рос в вышину, а все в длину и ширину. Шерсть была на нем лохматая, какого-то светло-мышиного цвета; одно ухо росло вниз, а другое вверх. Характера он был пылкого и восторженного, как и всякий щенок, который от радости, что видит хозяина, обыкновенно навизжит, накричит, полезет лизать в самое лицо и тут же перед вами готов не удержать и всех остальных чувств своих: «Был бы только виден восторг, а приличия ничего не значат!» Бывало, где бы я ни был, но по крику: «Культяпка!» – он вдруг являлся из-за какого-нибудь угла, как из-под земли, и с визгливым восторгом летел ко мне, катясь, как шарик, и перекувыркиваясь дорогою. Я ужасно полюбил этого маленького уродца…» Увы, Белку разодрали городские собаки, а Культяпка стал жертвой арестанта Неустроева, который использовал его шкуру для своих сапожных дел.
Что касается чудесного спасения собакой Достоевского, то случай этот описан в книге Ш. Токаржевского «Каторжане» (1912): вскоре после гибели Культяпки писатель приласкал-прикормил новую собаку, которая получила кличку Суанго, и когда он лежал в госпитале, и арестант Ломов, заметив у него под подушкой три рубля, решил с сообщником фельдшером отравить Федора Михайловича и ограбить – Суанго вбежал в палату и выбил в последний момент чашку с отравленным молоком из его рук…
БЕЛОКОНСКАЯ (княгиня Белоконская) («Идиот»), близкая знакомая генеральши Елизаветы Прокофьевны Епанчиной, «высший суд» для нее, крестная мать Аглаи Епанчиной. «Это была страшная деспотка; в дружбе, даже в самой старинной, не могла терпеть равенства, а на Лизавету Прокофьевну смотрела решительно как на свою protege, как и тридцать пять лет назад, и никак не могла примириться с резкостью и самостоятельностью ее характера…» В то время когда князь Мышкин уехал в Москву по делам наследства и прожил там полгода, «старуха Белоконская» (как именовала ее за глаза генеральша) как раз тоже гостила там у старшей замужней дочери и в своих письмах сообщала Елизавете Прокофьевне «утешительные сведения» о «князе-чудаке», с которым специально завязала знакомство, и тот теперь «каждый день к ней таскается». В четвертой части романа княгиня Белоконская, вернувшаяся в Петербург, принимает активное участие в подготовке бракосочетания князя Мышкина с Аглаей.
БЕРЕНДЕЕВ Олсуфий Иванович («Двойник»), отец Клары Олсуфьевны, в которую влюбился господин Голядкин, – «маститый старец и статский советник Олсуфий Иванович, лишившийся употребления ног на долговременной службе и вознагражденный судьбою за таковое усердие капитальцем, домком, деревеньками и красавицей дочерью…» Сам Яков Петрович, когда его гонят взашей из дома Берендеева, где празднуется день рождения его дочери, пытается уверить и себя и слуг: «Олсуфий Иванович, благодетель мой с незапамятных лет, заменивший мне в некотором смысле отца…» Впрочем, и повествователь упоминает, что Берендеев был одно время благодетелем господина Голядкина. В какой-то мере о внешности и вполне добродушном «генеральском» характере этого героя можно судить по финальной сцене повести, где Голядкина уже снаряжают в сумасшедший дом: «Олсуфий Иванович принял, кажется, весьма хорошо господина Голядкина и, хотя не протянул ему руки своей, но по крайней мере, смотря на него, покачал своею седовласою и внушающею всякое уважение головою, – покачал с каким-то торжественно-печальным, но вместе с тем благосклонным видом. Так, по крайней мере, показалось господину Голядкину. Ему показалось даже, что слеза блеснула в тусклых взорах Олсуфия Ивановича <…> Голосом, полным рыданий, примиренный с людьми и судьбою и крайне любя в настоящее мгновение не только Олсуфия Ивановича, не только всех гостей, взятых вместе, но даже и зловредного близнеца своего, <…> обратился было наш герой к Олсуфию Ивановичу с трогательным излиянием души своей; но от полноты всего, в нем накопившегося, не мог ровно ничего объяснить, а только весьма красноречивым жестом молча указал на свое сердце…»
БЕРЕНДЕЕВА Клара Олсуфьевна («Двойник»), дочь Олсуфия Ивановича Берендеева., предмет любви Якова Петровича Голядкина. Она – красавица, она – царица, она «чувствительные» романсы поет и прекрасно танцует. Все и вся восхищены ею: «Утомленная танцем, Клара Олсуфьевна, едва переводя дух от усталости, с пылающими щеками и глубоко волнующеюся грудью упала, наконец, в изнеможении сил в кресла. Все сердца устремились к прелестной очаровательнице, все спешили наперерыв приветствовать ее и благодарить за оказанное удовольствие…» В день рождения Клары Олсуфьевны господин Голядкин вознамерился быть среди гостей, танцевать с виновницей торжества и, может быть, объясниться и даже предложение сделать. Однако ж мало того, что на бал ему пришлось проникать тайком, мало того, что дочь статского советника отдавала во время танцев явное предпочтение блистательному асессору Владимиру Семеновичу, так Голядкина вообще на глазах любимой и с ее, можно сказать, согласия с позором выставили за дверь, после чего он и повстречался впервые на вьюжной темной улице со своим двойником Голядкиным-младшим. Позже Яков Петрович получит от Клары Олсуфьевны совершенно безумное письмо с признанием в любви и просьбой украсть-увезти ее из родительского дома, которое послужит как бы приманкой – из дома Берендеевых и увезут титулярного советника в желтый дом. Чувствительная Клара Олсуфьевна в сей скорбный момент прослезится.
БЕРЕСТОВА Катишь («Бобок»), девочка-блондиночка «лет пятнадцати», которая лежит в могиле в десяти шагах от генерала Тарасевича, в пяти шагах от могилы барона Клиневича, и последний, знавший ее при жизни, судя по всему, накоротке, характеризует развратную девочку так: «<…> что это за мерзавочка… хорошего дома, воспитанна и – монстр, монстр до последней степени! Я там ее никому не показывал, один я и знал…» Затем на протяжении всей дальнейшей сцены Катишь на все самые разнузданные предложения и разговоры только радостно хихикает «надтреснутым звуком девичьего голоска». Именно с Катишь кладбищенское общество намеревалось начать процесс «обнажения» – поочередных откровенных исповедей о самых своих неблаговидных земных делах.
БЛОНДИНКА («Маленький герой»), ближайшая подруга m-me М*, которая, заметив, что Маленький герой пылает к m-me М* совсем не детским чувством, доставила ему немало горьких минут подколками и насмешками, но, как вскоре он сам понял-разобрался, вполне беззлобными, добродушными. «На глаза всех этих прекрасных дам я все еще был то же маленькое, неопределенное существо, которое они подчас любили ласкать и с которым им можно было играть, как с маленькой куклой. Особенно одна из них, очаровательная блондинка, с пышными, густейшими волосами, каких я никогда потом не видел и, верно, никогда не увижу, казалось, поклялась не давать мне покоя. Меня смущал, а ее веселил смех, раздававшийся кругом нас, который она поминутно вызывала своими резкими, взбалмошными выходками со мною, что, видно, доставляло ей огромное наслаждение. В пансионах, между подругами, ее наверно прозвали бы школьницей. Она была чудно хороша, и что-то было в ее красоте, что так и металось в глаза с первого взгляда. И, уж конечно, она непохожа была на тех маленьких стыдливеньких блондиночек, беленьких, как пушок, и нежных, как белые мышки или пасторские дочки. Ростом она была невысока и немного полна, но с нежными, тонкими линиями лица, очаровательно нарисованными. Что-то как молния сверкающее было в этом лице, да и вся она – как огонь, живая, быстрая, легкая. Из ее больших открытых глаз будто искры сыпались; они сверкали, как алмазы, и никогда я не променяю таких голубых искрометных глаз ни на какие черные, будь они чернее самого черного андалузского взгляда, да и блондинка моя, право, стоила той знаменитой брюнетки, которую воспел один известный и прекрасный поэт и который еще в таких превосходных стихах поклялся всей Кастилией, что готов переломать себе кости, если позволят ему только кончиком пальца прикоснуться к мантилье его красавицы. Прибавь к тому, что моя красавица была самая веселая из всех красавиц в мире, самая взбалмошная хохотунья, резвая как ребенок, несмотря на то что лет пять как была уже замужем. Смех не сходил с ее губ, свежих, как свежа утренняя роза, только что успевшая раскрыть, с первым лучом солнца, свою алую, ароматную почку, на которой еще не обсохли холодные крупные капли росы…»
БЛЮМ Андрей Антонович (фон Блюм) («Бесы»), чиновник, дальний родственник, полный тезка и ближайший помощник губернатора Андрея Антоновича фон Лембке. «Блюм был из странного рода «несчастных» немцев – и вовсе не по крайней своей бездарности, а именно неизвестно почему. «Несчастные» немцы не миф, а действительно существуют, даже в России, и имеют свой собственный тип. Андрей Антонович всю жизнь питал к нему самое трогательное сочувствие, и везде, где только мог, по мере собственных своих успехов по службе, выдвигал его на подчиненное, подведомственное ему местечко; но тому нигде не везло. То место оставлялось за штатом, то переменялось начальство, то чуть не упекли его однажды с другими под суд. Был он аккуратен, но как-то слишком без нужды и во вред себе мрачен; рыжий, высокий, сгорбленный, унылый, даже чувствительный и, при всей своей приниженности, упрямый и настойчивый как вол, хотя всегда невпопад. К Андрею Антоновичу питал он с женой и с многочисленными детьми многолетнюю и благоговейную привязанность. Кроме Андрея Антоновича никто никогда не любил его. Юлия Михайловича сразу его забраковала, но одолеть упорство своего супруга не могла. Это была их первая супружеская ссора, и случилась она тотчас после свадьбы, в самые первые медовые дни, когда вдруг обнаружился пред нею Блюм, до тех пор тщательно от нее припрятанный, с обидною тайной своего к ней родства. Андрей Антонович умолял сложа руки, чувствительно рассказал всю историю Блюма и их дружбы с самого детства, но Юлия Михайловна считала себя опозоренною навеки и даже пустила в ход обмороки. Фон Лембке не уступил ей ни шагу и объявил, что не покинет Блюма ни за что на свете и не отдалит от себя, так что она наконец удивилась и принуждена была позволить Блюма. Решено было только, что родство будет скрываемо еще тщательнее, чем до сих пор, если только это возможно, и что даже имя и отчество Блюма будут изменены, потому что его тоже почему-то звали Андреем Антоновичем. Блюм у нас ни с кем не познакомился, кроме одного только немца-аптекаря, никому не сделал визитов и, по обычаю своему, зажил скупо и уединенно. Ему давно уже были известны и литературные грешки Андрея Антоновича. Он преимущественно призывался выслушивать его роман в секретных чтениях наедине, просиживал по шести часов сряду столбом; потел, напрягал все свои силы, чтобы не заснуть и улыбаться; придя домой, стенал вместе с длинноногою и сухопарою женой о несчастной слабости их благодетеля к русской литературе…»
Фамилия Блюм образована от нем. Blume – цветок. Прототипом персонажа послужил, вероятно, чиновник по особым поручениям при тверском губернаторе П. Т. Баранове – Н. Г. Левенталь. Недаром, видимо, Степан Трофимович Верховенский однажды, обмолвясь, назвал Блюма – Розенталем.
БОБЫНИЦЫН («Чужая жена и муж под кроватью»), любовник Глафиры Петровны Шабриной – «господин бесконечного роста» и с лорнетом. Муж Глафиры Петровны Шабрин и другой ее любовник Творогов вдвоем застали ее в обществе Бобыницына, познакомившись друг с другом в сей печальный момент.
Фамилия этого персонажа явно перекликается с фамилией «Бубуницын» из пьесы Н. В. Гоголя «Утро делового человека».
БУБНОВА Анна Трифоновна (мадам Бубнова) («Униженные и оскорбленные»), хозяйка дома, где в подвале проживали-ютились Нелли с матерью. И, видно, недаром мадам Бубнова – тезка Анны Федоровны из романа «Бедные люди»: она тоже промышляет сводничеством и для этого забрала к себе Нелли «на воспитание» после смерти ее матери, начала наряжать для показа «гостям» в кисейное платье. Маслобоев, знавший ее преотлично, пояснил Ивану Петровичу. «Эта Бубнова давно уж известна кой-какими проделками в этом же роде. Она на днях с одной девочкой из честного дома чуть не попалась. Эти кисейные платья, в которые она рядила эту сиротку (вот ты давеча рассказывал), не давали мне покоя; потому что я кой-что уже до этого слышал. <…> А ты что думал? Да уж мадам Бубнова из одного сострадания не взяла бы к себе сироту. А уж если пузан туда повадился, так уж так…» И дом Бубновой, и сама хозяйка с первой же минуты производят на Ивана Петровича отвратительное впечатление: «Дом был небольшой, но каменный, старый, двухэтажный, окрашенный грязно-желтою краской. В одном из окон нижнего этажа, которых было всего три, торчал маленький красный гробик, вывеска незначительного гробовщика. Окна верхнего этажа были чрезвычайно малые и совершенно квадратные, с тусклыми, зелеными и надтреснувшими стеклами, сквозь которые просвечивали розовые коленкоровые занавески. Я перешел через улицу, подошел к дому и прочел на железном листе, над воротами дома: дом мещанки Бубновой.
Но только что я успел разобрать надпись, как вдруг на дворе у Бубновой раздался пронзительный женский визг и затем ругательства. Я заглянул в калитку; на ступеньке деревянного крылечка стояла толстая баба, одетая как мещанка, в головке и в зеленой шали. Лицо ее было отвратительно-багрового цвета; маленькие, заплывшие и налитые кровью глаза сверкали от злости. Видно было, что она нетрезвая, несмотря на дообеденное время. Она визжала на бедную Елену, стоявшую перед ней в каком-то оцепенении с чашкой в руках. <… >
– Ах ты, проклятая, ах ты, кровопивица, гнида ты эдакая! – визжала баба, залпом выпуская из себя все накопившиеся ругательства, большею частию без запятых и без точек, но с каким-то захлебыванием, – так-то ты за мое попеченье воздаешь, лохматая! За огурцами только послали ее, а она уж и улизнула! Сердце мое чувствовало, что улизнет, когда посылала. Ныло сердце мое, ныло! Вчера ввечеру все вихры ей за это же оттаскала, а она и сегодня бежать! Да куда тебе ходить, распутница, куда ходить! К кому ты ходишь, идол проклятый, лупоглазая гадина, яд, к кому! Говори, гниль болотная, или тут же тебя задушу! <…>
И в исступлении она бросилась на обезумевшую от страха девочку, вцепилась ей в волосы и грянула ее оземь. Чашка с огурцами полетела в сторону и разбилась; это еще более усилило бешенство пьяной мегеры. Она била свою жертву по лицу, по голове…»
С помощью Маслобоева и удалось вырвать Нелли из лап вечно пьяной и жестокой сводницы: «Эта Бубнова не имела никакого права держать эту девочку; я все разузнал. Никакого тут усыновления или прочего не было. Мать должна была ей денег, та и забрала к себе девчонку. Бубнова хоть и плутовка, хоть и злодейка, но баба-дура, как и все бабы. У покойницы был хороший паспорт; следственно, все чисто…»
БУМШТЕЙН Исай Фомич («Записки из Мертвого дома»), арестант, еврей по национальности, острожный «ювелир, он же и ростовщик», имя его вынесено в название главы IX первой части – «Исай Фомич. Баня. Рассказ Баклушина». «Нашего жидка, впрочем, любили <…> арестанты, хотя решительно все без исключения смеялись над ним. Он был у нас один, и я даже теперь не могу вспоминать о нем без смеху. Каждый раз, когда я глядел на него, мне всегда приходил на память Гоголев жидок Янкель, из «Тараса Бульбы», который, раздевшись, чтоб отправиться на ночь с своей жидовкой в какой-то шкаф, тотчас же стал ужасно похож на цыпленка. Исай Фомич, наш жидок, был как две капли воды похож на общипанного цыпленка. Это был человек уже немолодой, лет около пятидесяти, маленький ростом и слабосильный, хитренький и в то же время решительно глупый. Он был дерзок и заносчив и в то же время ужасно труслив. Весь он был в каких-то морщинках, и на лбу и на щеках его были клейма, положенные ему на эшафоте. Я никак не мог понять, как мог он выдержать шестьдесят плетей. Пришел он по обвинению в убийстве. У него был припрятан рецепт, доставленный ему от доктора его жидками тотчас же после эшафота. По этому рецепту можно было получить такую мазь, от которой недели в две могли сойти все клейма. Употребить эту мазь в остроге он не смел и выжидал своего двенадцатилетнего срока каторги, после которой, выйдя на поселение, непременно намеревался воспользоваться рецептом. «Не то нельзя будет зениться, – сказал он мне однажды, – а я непременно хоцу зениться». Мы с ним были большие друзья. Он всегда был в превосходнейшем расположении духа. В каторге жить ему было легко; он был по ремеслу ювелир, был завален работой из города, в котором не было ювелира, и таким образом избавился от тяжелых работ. Разумеется, он в то же время был ростовщик и снабжал под проценты и залоги всю каторгу деньгами…
Персонаж этот настолько колоритен, что повествователь (Горянчиков) чуть далее еще раз возвращается к его портрету: «Господи, что за уморительный и смешной был этот человек! Я уже сказал несколько слов про его фигурку: лет пятидесяти, тщедушный, сморщенный, с ужаснейшими клеймами на щеках и на лбу, худощавый, слабосильный, с белым цыплячьим телом. В выражении лица его виднелось беспрерывное, ничем непоколебимое самодовольство и даже блаженство. Кажется, он ничуть не сожалел, что попал в каторгу. Так как он был ювелир, а ювелира в городе не было, то работал беспрерывно по господам и по начальству города одну ювелирскую работу. Ему все-таки хоть сколько-нибудь, да платили. Он не нуждался, жил даже богато, но откладывал деньги и давал под заклад на проценты всей каторге. У него был свой самовар, хороший тюфяк, чашки, весь обеденный прибор. Городские евреи не оставляли его своим знакомством и покровительством. По субботам он ходил под конвоем в свою городскую молельную (что дозволяется законами) и жил совершенно припеваючи, с нетерпением, впрочем, ожидая выжить свой двенадцатилетний срок, чтоб «зениться». В нем была самая комическая смесь наивности, глупости, хитрости, дерзости, простодушия, робости, хвастливости и нахальства. Мне очень странно было, что каторжные вовсе не смеялись над ним, разве только подшучивали для забавы. Исай Фомич, очевидно, служил всем для развлечения и всегдашней потехи. «Он у нас один, не троньте Исая Фомича», – говорили арестанты, и Исай Фомич хотя и понимал, в чем дело, но, видимо, гордился своим значением, что очень тешило арестантов. <…> Его действительно все как будто даже любили и никто не обижал, хотя почти все были ему должны. Сам он был незлобив, как курица, и, видя всеобщее расположение к себе, даже куражился, но с таким простодушным комизмом, что ему тотчас же это прощалось. Лучка, знавший на своем веку много жидков, часто дразнил его, и вовсе не из злобы, а так, для забавы, точно так же, как забавляются с собачкой, попугаем, учеными зверьками и проч. Исай Фомич очень хорошо это знал, нисколько не обижался и преловко отшучивался…»
Персонаж под фамилией Бумштейн (еврей-ростовщик) уже фигурировал в «Дядюшкином сне». Прототипом его послужил И. Ф. Бумштель.
БУРДОВСКИЙ Антип («Идиот»), «сын Павлищева». При поддержке своих приятелей Докторенко, Келлера и Терентьева этот мнимый сын Николая Андреевича Павлищева задумал вытребовать с князя Мышкина часть наследства, полученного им после смерти своего воспитателя и опекуна. «Это был молодой человек, бедно и неряшливо одетый, в сюртуке, с засаленными до зеркального лоску рукавами, с жирною, застегнутою до верху жилеткой, с исчезнувшим куда-то бельем, с черным шелковым замасленным донельзя и скатанным в жгут шарфом, с немытыми руками, с чрезвычайно угреватым лицом, белокурый и, если можно так выразиться, с невинно-нахальным взглядом. Он был не низкого роста, худощавый, лет двадцати двух. Ни малейшей иронии, ни малейшей рефлексии не выражалось в лице его; напротив, полное, тупое упоение собственным правом и в то же время нечто доходившее до странной и беспрерывной потребности быть и чувствовать себя постоянно обиженным. Говорил он с волнением, торопясь и запинаясь, как будто не совсем выговаривая слова, точно был косноязычный или даже иностранец, хотя, впрочем, был происхождения совершенно русского…» И далее во время безобразной сцены шантажа князя этой компанией вымогателей в доме Лебедева, когда Гаврила Ардалионович Иволгин (занимавшийся этим делом по просьбе Мышкина) разбил все доводы Бурдовского и доказал, что он никак не может быть сыном Павлищева, добавляется еще немало отвратительных штрихов в портрет Бурдовского: «Но права не имеете, права не имеете, права не имеете!., ваших друзей… Вот!.. – залепетал вдруг снова Бурдовский, дико и опасливо осматриваясь кругом и тем более горячась, чем больше не доверял и дичился. – Вы не имеете права! – И, проговорив это, резко остановился, точно оборвал, и безмолвно выпучив близорукие, чрезвычайно выпуклые с красными толстыми жилками глаза, вопросительно уставился на князя, наклонившись вперед всем своим корпусом…» Но вместе с тем, проявляется и нечто симпатичное в этом человеке: выяснилось, что Павлищев действительно любил Бурдовского, когда тот был ребенком, «косноязычным» и «жалким» (по словам Гани Иволгина), и Антип икренне считал себя его незаконнорожденным сыном; выяснилось и то, что Бурдовский содержит старуху-мать, живущую в Пскове… Да и, в общем-то, сам Бурдовский первым из компании вымогателей наотрез отказался от притязаний, как только прояснилась истина.
Позже Бурдовский, можно сказать, сдружился с Мышкиным и был даже назначен-выбран шафером Настасьи Филипповны на ее затеваемой свадьбе с князем.
БЫКОВ («Бедные люди»), «господин Быков» – богатый помещик, за которого Варенька Доброселова вынуждена идти замуж. Кроме того, он – настоящий отец Петра Покровского: совратил его мать, служившую в их доме горничной, а затем выдал ее замуж за чиновника Покровского. Макар Алексеевич Девушкин так о нем пишет: «… видел я его, как он от вас выходил. Видный, видный мужчина; даже уж и очень видный мужчина. Только все это как-то не так, дело-то не в том именно, что он видный мужчина…» Хамская, сластолюбивая и деловая натура этого денежного мешка ярко характеризуется в сцене «сватовства» его к Вареньке, описанной ею в письме к Девушкину: «Он сидел у меня целый час; долго говорил со мной; кой о чем расспрашивал. Наконец, перед прощанием, он взял меня за руку и сказал (я вам пишу от слова и до слова): «Варвара Алексеевна! Между нами сказать, Анна Федоровна, ваша родственница, а моя короткая знакомая и приятельница, преподлая женщина». (Тут он еще назвал ее одним неприличным словом.) «Совратила она и двоюродную вашу сестрицу с пути, и вас погубила. С моей стороны и я в этом случае подлецом оказался, да ведь что, дело житейское». Тут он захохотал что есть мочи. Потом заметил, что он красно говорить не мастер, и что главное, что объяснить было нужно и об чем обязанности благородства повелевали ему не умалчивать, уж он объявил, и что в коротких словах приступает к остальному. Тут он объявил мне, что ищет руки моей, что долгом своим почитает возвратить мне честь, что он богат, что он увезет меня после свадьбы в свою степную деревню, что он хочет там зайцев травить; что он более в Петербург никогда не приедет, потому что в Петербурге гадко, что у него есть здесь в Петербурге, как он сам выразился, негодный племянник, которого он присягнул лишить наследства, и собственно для этого случая, то есть желая иметь законных наследников, ищет руки моей, что это главная причина его сватовства. Потом он заметил, что я весьма бедно живу, что не диво, если я больна, проживая в такой лачуге, предрек мне неминуемую смерть, если я хоть месяц еще так останусь, сказал, что в Петербурге квартиры гадкие и, наконец, что не надо ли мне чего?
Я так была поражена его предложением, что, сама не знаю отчего, заплакала. Он принял мои слезы за благодарность и сказал мне, что он всегда был уверен, что я добрая, чувствительная и ученая девица, но что он не прежде, впрочем, решился на сию меру, как разузнав со всею подробностию о моем теперешнем поведении. Тут он расспрашивал о вас, сказал, что про все слышал, что вы благородных правил человек, что он с своей стороны не хочет быть у вас в долгу и что довольно ли вам будет пятьсот рублей за все, что вы для меня сделали? Когда же я ему объяснила, что вы для меня то сделали, чего никакими деньгами не заплатишь, то он сказал мне, что все вздор, что все это романы, что я еще молода и стихи читаю, что романы губят молодых девушек, что книги только нравственность портят и что он терпеть не может никаких книг; советовал прожить его годы и тогда об людях говорить; «тогда, – прибавил он, – и людей узнаете». Потом он сказал, чтобы я поразмыслила хорошенько об его предложениях, что ему весьма будет неприятно, если я такой важный шаг сделаю необдуманно, прибавил, что необдуманность и увлечение губят юность неопытную, но что он чрезвычайно желает с моей стороны благоприятного ответа, что, наконец, в противном случае, он принужден будет жениться в Москве на купчихе, потому что, говорит он, я присягнул негодяя племянника лишить наследства. Он оставил насильно у меня на пяльцах пятьсот рублей, как он сказал, на конфеты; сказал, что в деревне я растолстею, как лепешка, что буду у него как сыр в масле кататься, что у него теперь ужасно много хлопот, что он целый день по делам протаскался и что теперь между делом забежал ко мне…»
Не успела еще Варя стать его женой, как господин Быков уже совсем перестал церемониться и прикидываться бескорыстным – Варенька умоляет Девушкина: «Ради бога, бегите сейчас к брильянтщику. Скажите ему, что серьги с жемчугом и изумрудами делать не нужно. Господин Быков говорит, что слишком богато, что это кусается. Он сердится; говорит, что ему и так в карман стало и что мы его грабим, а вчера сказал, что если бы вперед знал да ведал про такие расходы, так и не связывался бы. Говорит, что только нас повенчают, так сейчас и уедем, что гостей не будет и чтобы я вертеться и плясать не надеялась, что еще далеко до праздников. Вот он как говорит! А Бог видит, нужно ли мне все это! Сам же господин Быков все заказывал. Я и отвечать ему ничего не смею: он горячий такой…»
Прототипом господина, Быкова, возможно, в какой-то мере послужил П. А. Карепин.
БЬОРИНГ (барон Бьоринг) («Подросток»), флигель-адъютант; жених Катерины Николаевны Ахмаковой. «Катерина Николаевна сходила вниз, в своей шубе, и рядом с ней шел или, лучше сказать, вел ее высокий стройный офицер, в форме, без шинели, с саблей; шинель нес за ним лакей. Это был барон, полковник, лет тридцати пяти, щеголеватый тип офицера, сухощавый, с немного слишком продолговатым лицом, с рыжеватыми усами и даже ресницами. Лицо его было хоть и совсем некрасиво, но с резкой и вызывающей физиономией. Я описываю наскоро, как заметил в ту минуту..» А минута та была злой для Подростка: он узнал, что Ахмакова приказала его не пускать в дом, и когда он попытался остановить ее и выяснить недоразумение – барон Бьоринг сильно и оскорбительно толкнул его. Аркадий даже мечтает, предполагая, что барон откажется («побрезгает») с ним драться на дуэли (перед этим он отказался даже с Версиловым драться), подкараулить его на улице и убить из револьвера. На этот раз дело ограничилось мечтаниями, но впоследствии дошло до того, что, вступившись за честь сестры Анны Андреевны Версиловой, которую Бьоринг оскорблял, Аркадий кинулся на барона с кулаками, попал из-за этого в полицию и провел ночь «на нарах».
В финале романа надменный барон, став почти свидетелем (немного опоздал) ужасной сцены, когда Ламберт шантажировал его невесту, а Версилов из-за нее в себя стрелял, очень «обеспокоился» и даже «испугался» возможных последствий этой истории для своей репутации. «Вот тут-то, как нарочно, ему вдруг удалось узнать о происходившем свидании, глаз на глаз, Катерины Николаевны с влюбленным в нее Версиловым, еще за два дня до той катастрофы. Это его взорвало, и он, довольно неосторожно, позволил себе заметить Катерине Николаевне, что после этого его уже не удивляет, что с ней могут происходить такие фантастические истории. Катерина Николаевна тут же и отказала ему, без гнева, но и без колебаний. Все предрассудочное мнение ее о каком-то благоразумии брака с этим человеком исчезло как дым. Может быть, она уже и давно перед тем его разгадала, а может быть, после испытанного потрясения, вдруг изменились некоторые ее взгляды и чувства…»
ВАЛКОВСКИЙ Алексей Петрович (Алеша) («Униженные и оскорбленные»), сын князя Волковского, «…это был премилейший мальчик: красавчик собою, слабый и нервный, как женщина, но вместе с тем веселый и простодушный, с душою отверстою и способною к благороднейшим ощущениям, с сердцем любящим, правдивым и признательным <…>. Несмотря на свои девятнадцать лет, он был еще совершенный ребенок. <…> Алеша чрезвычайно любил своего отца, которого не знал в продолжение всего своего детства и отрочества; он говорил об нем с восторгом, с увлечением; видно было, что он вполне подчинился его влиянию. <…> Все решения и увлечения Алеши происходили от его чрезвычайной, слабонервной восприимчивости, от горячего сердца, от легкомыслия, доходившего иногда до бессмыслицы; от чрезвычайной способности подчиняться всякому внешнему влиянию и от совершенного отсутствия воли…»
Алеша воспитывался сначала в доме богатого родственника графа Наинского, затем в лицее, а когда подрос – вдруг стал мешать отцу в Петербурге (сделался даже соперником его в амурных делах!) и был сослан князем в свое имение Васильевское под присмотр управляющего Ихменева и его жены. Между Алешей и дочерью управляющего Наташей Ихменевой вспыхивает любовь. Впоследствии, уже в Петербурге, куда перебрался старик Ихменев с семьей продолжать тяжбу с князем Валковским (первопричиной ссоры-разрыва, а затем и тяжбы между ними и стала гнусная сплетня, будто «Николай Сергеич, разгадав характер молодого князя, имел намерение употребить все недостатки его в свою пользу» и женить его на своей дочери), Наташа ради Алеши уходит из дому, не убоявшись проклятия отца. Валковский-младший – прожектер и эгоист. Он надеется на счастливый конец своего романа с Наташей, несмотря на вражду между их отцами, а сам в это время ездит к «Жозефинам и Миннам», влюбляется затем и в Катю Филимонову и, в конце концов, так и не переставая любить Наташу, – бросает-предает ее, уезжает с Катей.
Ярко характеризует Алешу то, что он, помимо Жозефин и Минн, посещает кружок передовой молодежи Левеньки и Бореньки, где увлекается высокопарно-бессмысленны-ми речами идеолога кружка Безмыгина, и то, что он мечтает даже о литературном поприще, наивно признаваясь Ивану Петровичу. «…Я хочу писать повести и продавать в журналы, так же как и вы. <…> Я рассчитывал на вас и вчера всю ночь обдумывал один роман, так, для пробы, и знаете ли: могла бы выйти премиленькая вещица. Сюжет я взял из одной комедии Скриба…» Здесь особенно примечательно то, что будущий «писатель» не из текущей жизни намеревается черпать сюжеты, а сразу из литературы же. Правда, к чести Алеши, у него хватило ума спохватиться: «А впрочем, вы, кажется, и правы: я ведь ничего не знаю в действительной жизни <…> какой же я буду писатель?..»
В целом же Алеша – сын своего отца: он также аристократически горд, высокомерен, также развратен, только, в отличие от сознательного циника, прагматика и хищного по натуре князя Валковского, Алеша инфантилен, вершит зло, не задумываясь о последствиях, невольно, «само собой». Он бесконечно грешит и бесконечно же кается.
ВАЛКОВСКИЙ Петр Александрович (князь Валковский) («Униженные и оскорбленные»), по сути, центральный персонаж романа – все скрытые пружины действия находятся в его руках, судьбы всех основных героев связаны с ним, зависят от его воли. Впервые предстает он перед читателем в рассказе повествователя Ивана Петровича о первом приезде князя в свое довольно богатое имение Васильевское (девятьсот душ), находящееся по соседству с небольшим имением Ихменева. «Его приезд произвел во всем околотке довольно сильное впечатление. Князь был еще молодой человек, хотя и не первой молодости, имел немалый чин, значительные связи, был красив собою, имел состояние и, наконец, был вдовец, что особенно было интересно для дам и девиц всего уезда. Рассказывали о блестящем приеме, сделанном ему в губернском городе губернатором, которому он приходился как-то сродни; о том, как все губернские дамы «сошли с ума от его любезностей», и проч., и проч. Одним словом, это был один из блестящих представителей высшего петербургского общества, которые редко появляются в губерниях и, появляясь, производят чрезвычайный эффект. Князь, однако же, был не из любезных, особенно с теми, в ком не нуждался и кого считал хоть немного ниже себя. С своими соседями по имению он не заблагорассудил познакомиться, чем тотчас же нажил себе много врагов. И потому все чрезвычайно удивились, когда вдруг ему вздумалось сделать визит к Николаю Сергеичу. <…> Впрочем, вскоре все объяснилось. Князь приехал в Васильевское, чтоб прогнать своего управляющего <…> Князю нужен был управитель, и выбор его пал на Николая Сергеича, отличнейшего хозяина и честнейшего человека, в чем, конечно, не могло быть и малейшего сомнения. <…> Ему же нужен был такой управляющий, которому он мог бы слепо и навсегда довериться, чтоб уж и не заезжать никогда в Васильевское, как и действительно он рассчитывал..»
И далее Иван Петрович сообщает весьма характерные подробности из прошлой жизни Валковского: «Я упомянул уже прежде, что он был вдов. Женат был он еще в первой молодости и женился на деньгах. От родителей своих, окончательно разорившихся в Москве, он не получил почти ничего. Васильевское было заложено и перезаложено; долги на нем лежали огромные. У двадцатидвухлетнего князя, принужденного тогда служить в Москве, в какой-то канцелярии, не оставалось ни копейки, и он вступал в жизнь как «голяк – потомок отрасли старинной». Брак на перезрелой дочери какого-то купца-откупщика спас его. Откупщик, конечно, обманул его на приданом, но все-таки на деньги жены можно было выкупить родовое именье и подняться на ноги. Купеческая дочка, доставшаяся князю, едва умела писать, не могла склеить двух слов, была дурна лицом и имела только одно важное достоинство: была добра и безответна. Князь воспользовался этим достоинством вполне: после первого года брака он оставил жену свою, родившую ему в это время сына, на руках ее отца-откупщика в Москве, а сам уехал служить в – ю губернию, где выхлопотал, через покровительство одного знатного петербургского родственника, довольно видное место. Душа его жаждала отличий, возвышений, карьеры, и, рассчитав, что с своею женой он не может жить ни в Петербурге, ни в Москве, он решился, в ожидании лучшего, начать свою карьеру с провинции. Говорят, что еще в первый год своего сожительства с женою он чуть не замучил ее своим грубым с ней обхождением. <…> Но лет через семь умерла наконец княгиня, и овдовевший супруг ее немедленно переехал в Петербург. В Петербурге он произвел даже некоторое впечатление. Еще молодой, красавец собою, с состоянием, одаренный многими блестящими качествами, несомненным остроумием, вкусом, неистощимою веселостью, он явился не как искатель счастья и покровительства, а довольно самостоятельно. Рассказывали, что в нем действительно было что-то обаятельное, что-то покоряющее, что-то сильное. Он чрезвычайно нравился женщинам, и связь с одной из светских красавиц доставила ему скандалезную славу. Он сыпал деньгами, не жалея их, несмотря на врожденную расчетливость, доходившую до скупости, проигрывал кому нужно в карты и не морщился даже от огромных проигрышей. Но не развлечений он приехал искать в Петербурге: ему надо было окончательно стать на дорогу и упрочить свою карьеру. Он достиг этого. Граф Наинский, его знатный родственник, который не обратил бы и внимания на него, если б он явился обыкновенным просителем, пораженный его успехами в обществе, нашел возможным и приличным обратить на него свое особенное внимание и даже удостоил взять в свой дом на воспитание его семилетнего сына. К этому-то времени относится и поездка князя в Васильевское и знакомство его с Ихменевыми. Наконец получив через посредство графа значительное место при одном из важнейших посольств, он отправился за границу. Далее слухи о нем становились несколько темными: говорили о каком-то неприятном происшествии, случившемся с ним за границей, но никто не мог объяснить, в чем оно состояло. (Потом дело прояснилось: князь обольстил за границей дочь богатого заводчика Смита, которая ради Валковского обокрала своего отца, родила от него дочь Нети, была им обобрана и брошена. – Н. Н.) Известно было только, что он успел прикупить четыреста душ, о чем уже я упоминал. Воротился он из-за границы уже много лет спустя, в важном чине, и немедленно занял в Петербурге весьма значительное место. В Ихменевке носились слухи, что он вступает во второй брак и роднится с каким-то знатным, богатым и сильным домом…» Увы, сын Алеша помешал этому браку, став неожиданно счастливым соперником отца, и тот сослал его в Васильевское на воспитание к Ихменеву.
Наиболее полно внутренняя хищническая сущность князя Валковского раскрывается в циничной исповеди его перед Иваном Петровичем в трактире, в которой он «заголяется и обнажается» не хуже героев рассказа «Бобок». Перед этим Иван Петрович добавляет важную деталь в характеристику князя: «Говорили про него, что он – всегда такой приличный и изящный в обществе – любит иногда по ночам пьянствовать, напиваться как стелька и потаенно развратничать, гадко и таинственно развратничать <…> Он производил на меня впечатление какого-то гада, какого-то огромного паука, которого мне ужасно хотелось раздавить. Он наслаждался своими насмешками надо мною; он играл со мной, как кошка с мышью, предполагая, что я весь в его власти. Мне казалось (и я понимал это), что он находил какое-то удовольствие, какое-то, может быть, даже сладострастие в своей низости и в этом нахальстве, в этом цинизме, с которым он срывал, наконец, передо мной свою маску. Он хотел насладиться моим удивлением, моим ужасом. Он меня искренно презирал и смеялся надо мною…»
И вот вкратце грязная исповедь-кредо князя Валковского: «Вот что, мой поэт, хочу я вам открыть одну тайну природы, которая, кажется, вам совсем неизвестна. Я уверен, что вы меня называете в эту минуту грешником, может быть, даже подлецом, чудовищем разврата и порока. Но вот что я вам скажу! Если б только могло быть (чего, впрочем, по человеческой натуре никогда быть не может), если б могло быть, чтоб каждый из нас описал всю свою подноготную, но так, чтоб не побоялся изложить не только то, что он боится сказать и ни за что не скажет людям, не только то, что он боится сказать своим лучшим друзьям, но даже и то, в чем боится подчас признаться самому себе, – то ведь на свете поднялся бы тогда такой смрад, что нам бы всем надо было задохнуться. <…> вы меня обвиняете в пороке, разврате, безнравственности, а я, может быть, только тем и виноват теперь, что откровеннее других и больше ничего; что не утаиваю того, что другие скрывают даже от самих себя, как сказал я прежде… Это я скверно делаю, но я теперь так хочу. <… > Есть особое сладострастие в этом внезапном срыве маски, в этом цинизме, с которым человек вдруг выказывается перед другим в таком виде, что даже не удостоивает и постыдиться перед ним. <… > Все для меня, и весь мир для меня создан. Послушайте, мой друг, я еще верую в то, что на свете можно хорошо пожить. А это самая лучшая вера, потому что без нее даже и худо-то жить нельзя: пришлось бы отравиться. <…> Я, например, уже давно освободил себя от всех пут и даже обязанностей. Я считаю себя обязанным только тогда, когда это мне принесет какую-нибудь пользу. <…> Вы тоскуете по идеалу, по добродетелям. Но, мой друг, я ведь сам готов признавать все, что прикажете; но что же мне делать, если я наверно знаю, что в основании всех человеческих добродетелей лежит глубочайший эгоизм. И чем добродетельнее дело – тем более тут эгоизма. Люби самого себя – вот одно правило, которое я признаю. Жизнь – коммерческая сделка; даром не бросайте денег, но, пожалуй, платите за угождение, и вы исполните все свои обязанности к ближнему, – вот моя нравственность, если уж вам ее непременно нужно, хотя, признаюсь вам, по-моему, лучше и не платить своему ближнему, а суметь заставить его делать даром. Идеалов я не имею и не хочу иметь; тоски по них никогда не чувствовал. В свете можно так весело, так мило прожить и без идеалов <…>, я очень рад, что могу обойтись без синильной кислоты. Ведь будь я именно добродетельнее, я бы, может быть, без нее и не обошелся <…>. Нет! В жизни так много еще хорошего. Я люблю значение, чин, отель; огромную ставку в карты (ужасно люблю карты). Но главное, главное – женщины… и женщины во всех видах; я даже люблю потаенный, темный разврат, постраннее и оригинальнее, даже немножко с грязнотцой для разнообразия… Ха, ха, ха! <…> Нет, мой друг: если вы истинный человеколюбец, то пожелайте всем умным людям такого же вкуса, как у меня, даже и с грязнотцой, иначе ведь умному человеку скоро нечего будет делать на свете и останутся одни только дураки. То-то им счастье будет! Да ведь и теперь есть пословица; дуракам счастье, и, знаете ли, нет ничего приятнее, как жить с дураками и поддакивать им: выгодно! Вы не смотрите на меня, что я дорожу предрассудками, держусь известных условий, добиваюсь значения; ведь я вижу, что я живу в обществе пустом; но в нем покамест тепло, и я ему поддакиваю, показываю, что за него горой, а при случае я первый же его и оставлю. Я ведь все ваши новые идеи знаю, хотя и никогда не страдал от них, да и не от чего. Угрызений совести у меня не было ни о чем. Я на все согласен, было бы мне хорошо, и нас таких легион, и нам действительно хорошо. Все на свете может погибнуть, одни мы никогда не погибнем. Мы существуем с тех пор, как мир существует. Весь мир может куда-нибудь провалиться, но мы всплывем наверх. Кстати: посмотрите хоть уж на одно то, как живучи такие люди, как мы. Ведь мы, примерно, феноменально живучи; поражало вас это когда-нибудь? Значит, сама природа нам покровительствует, хе, хе, хе! Я хочу непременно жить до девяноста лет. Я смерти не люблю и боюсь ее…»
Князь решил поправить свои дела с помощью сына, женив его на богатой наследнице Кате и завладев ее миллионами. Для этого Алешу надо было разлучить с Наташей Ихменевой, что князю с помощью интриг удается добиться.
Предтечами князя Валковского в раннем творчестве Достоевского в какой-то мере были помещик Быков («Бедные люди») и сладострастник Юлиан Мастакович («Петербургская летопись», «Елка и свадьба»), В дальнейшем развитие этот тип получил, с одной стороны (как сладострастник, идеолог цинизма), в образах Свидригайлова («Преступление и наказание»), отца Карамазова («Братья Карамазовы»), с другой (как «сверхчеловек»), в образах Раскольникова («Преступление и наказание»), Ивана Карамазова («Братья Карамазовы»), А наиболее полное и всестороннее развитие тип этот получил в образе Николая Ставрогина из романа «Бесы».
ВАРВИНСКИЙ («Братья Карамазовы»), земский врач. Повествователь впервые упоминает о нем так: «…наш земский врач, Варвинский, молодой человек, только что к нам прибывший из Петербурга, один из блистательно окончивших курс в петербургской медицинской академии». В дальнейшем Повествователь, слегка иронизируя, упорно именует его «молодым врачом» и явно ему симпатизирует. В сцене «дуэли» трех врачей-экспертов на суде «молодой врач» Варвинский побеждает и седовласого опытного Герценштубе, и заезжего знаменитого Московского доктора, заявив по поводу поведения подсудимого Дмитрия Карамазова: «Что же до того, налево или направо должен был смотреть подсудимый, входя в залу, то, «по его скромному мнению», подсудимый именно должен был, входя в залу, смотреть прямо пред собой, как и смотрел в самом деле, ибо прямо пред ним сидели председатель и члены суда, от которых зависит теперь вся его участь, «так что, смотря прямо пред собой, он именно тем самым и доказал совершенно нормальное состояние своего ума в данную минуту» <…>
– Браво, лекарь! – крикнул Митя со своего места. – Именно так!
Митю конечно остановили, но мнение молодого врача имело самое решающее действие как на суд, так и на публику, ибо, как оказалось потом, все с ним согласились…»
Штрих в портрет доктора Варвинского добавляется в самом финале романа, когда сообщается, что на второй день после решения суда Митя Карамазов заболел нервною лихорадкой и был отправлен в городскую больницу, в арестантское отделение: «Но врач Варвинский, по просьбе Алеши и многих других (Хохлаковой, Лизы и проч.), поместил Митю не с арестантами, а отдельно, в той самой каморке, в которой прежде лежал Смердяков. Правда, в конце корридора стоял часовой, а окно было решетчатое, и Варвинский мог быть спокоен за свою поблажку, не совсем законную, но это был добрый и сострадательный молодой человек. Он понимал, как тяжело такому, как Митя, прямо вдруг перешагнуть в сообщество убийц и мошенников и что к этому надо сперва привыкнуть…»
ВАРЛАМОВ («Записки из Мертвого дома»), арестант, из разряда «неунывающих». «Он был лет пятидесяти, мускулист и сухощав. В лице его было что-то лукавое и вместе веселое. В особенности замечательная была его толстая, нижняя, отвисшая губа; она придавала его лицу что-то чрезвычайно комическое…» В другом месте о Варламове сказано: «Он лет сорока, с необыкновенно толстой губой и с большим мясистым носом, усеянным угрями…» Этот веселый арестант в самый первый день прибытия Достоевского с С. Ф. Дуровым (Горянчикова с Товарищем из дворян) в острог первым из каторжного люда (не считая поляка-дворянина М-цкого) «не погнушался» подсесть к ним за стол в столовой, угоститься у них чаем.
ВАСИН Григорий («Подросток»), пасынок Стебелькова, участник кружка Дергачева. Судя по черновым материалам к роману, персонаж этот должен был играть более существенную роль в сюжете и, наряду с Версиловым, стать основным оппонентом Аркадия Долгорукого в опровержении его «идеи». В окончательном тексте Васин превратился в фигуру почти эпизодическую. Характеризуя Васина как представителя молодого поколения в романе, Достоевский в черновиках обозначает его как тип – «безвыходно-идеальный». Подросток, идя впервые на собрание у Дергачева, настойчиво спрашивает у Зверева, будет ли там Васин, которым он, Подросток, уже давно «интересовался». И далее – первые впечатления Аркадия: «Физиономия Васина не очень поразила меня, хоть я слышал о нем как о чрезмерно умном: белокурый, с светло-серыми большими глазами, лицо очень открытое, но в то же время в нем что-то было как бы излишне твердое; предчувствовалось мало сообщительности, но взгляд решительно умный, умнее дергачевского, глубже, – умнее всех в комнате..» Вывод этот он сделал сразу же, впервые услышав Васина в споре. А разбирали в этот раз «дергачевцы» теорию Крафта о «второстепенности России»:
«– Тут, очевидно, недоумение, – ввязался вдруг Васин. – Ошибка в том, что у Крафта не один логический вывод, а, так сказать, вывод, обратившийся в чувство. Не все натуры одинаковы; у многих логический вывод обращается иногда в сильнейшее чувство, которое захватывает все существо и которое очень трудно изгнать или переделать. Чтоб вылечить такого человека, надо в таком случае изменить самое это чувство, что возможно не иначе как заменив его другим, равносильным. Это всегда трудно, а во многих случаях невозможно.
– Ошибка! – завопил спорщик. – Логический вывод уже сам по себе разлагает предрассудки. Разумное убеждение порождает то же чувство. Мысль выходит из чувства и в свою очередь, водворяясь в человеке, формулирует новое!
– Люди очень разнообразны: одни легко переменяют чувства, другие тяжело, – ответил Васин, как бы не желая продолжать спор; но я был в восхищении от его идеи…»
Еще бы, ведь Подросток бьется именно над проблемой «математичности», «логичности» своей «идеи», и Васин многое тут ему опосредованно подсказывает. Недаром Достоевский в черновых материалах опять же сам для себя подчеркнул-уточнил: «К чему служат Васин и Дергачев в романе? Ответ: как аксессуар, выдающий фигуру Подростка, и как повод к окончательному разговору Подростка с НИМ». То есть как повод к центральной исповеди Версилова.
Интересна характеристика Васина, которую дает ему Аркадий, находясь в раздраженном состоянии духа (ожидая Васина в его комнате): «Прежде всего мне стала ужасно не нравиться комната Васина. «Покажи мне свою комнату, и я узнаю твой характер» – право, можно бы так сказать. Васин жил в меблированной комнате от жильцов, очевидно бедных и тем промышлявших, имевших постояльцев и кроме него. Знакомы мне эти узкие, чуть-чуть заставленные мебелью комнатки и, однако же, с претензией на комфортабельный вид; тут непременно мягкий диван с Толкучего рынка, который опасно двигать, рукомойник и ширмами огороженная железная кровать. Васин был, очевидно, лучшим и благонадежнейшим жильцом; такой самый лучший жилец непременно бывает один у хозяйки, и за это ему особенно угождают: у него убирают и подметают тщательнее, вешают над диваном какую-нибудь литографию, под стол подстилают чахоточный коврик. Люди, любящие эту затхлую чистоту, а главное, угодливую почтительность хозяек, – сами подозрительны. Я был убежден, что звание лучшего жильца льстило самому Васину. Не знаю почему, но меня начал мало-помалу бесить вид этих двух загроможденных книгами столов. Книги, бумаги, чернильница – все было в самом отвратительном порядке, идеал которого совпадает с мировоззрением хозяйки-немки и ее горничной. Книг было довольно, и не то что газет и журналов, а настоящих книг, – и он, очевидно, их читал и, вероятно, садился читать или принимался писать с чрезвычайно важным и аккуратным видом. Не знаю, но я больше люблю, где книги разбросаны в беспорядке, по крайней мере из занятий не делается священнодействия. Наверно, этот Васин чрезвычайно вежлив с посетителем, но, наверно, каждый жест его говорит посетителю: «Вот я посижу с тобою часика полтора, а потом, когда ты уйдешь, займусь уже делом». Наверно, с ним можно завести чрезвычайно интересный разговор и услышать новое, но – «мы вот теперь с тобою поговорим, и я тебя очень заинтересую, а когда ты уйдешь, я примусь уже за самое интересное»…»
Еще более определенна характеристика Васина, данная сестрой Подростка Лизой Долгоруковой, к которой Васин был «неравнодушен»: «Лиза же сама мне потом призналась (очень долго спустя), что Васин даже очень скоро перестал ей тогда нравиться; он был спокоен, и именно это-то вечное ровное спокойствие, столь понравившееся ей вначале, показалось ей потом довольно неприглядным. Казалось бы, он был деловит и действительно дал ей несколько хороших с виду советов, но все эти советы, как нарочно, оказались неисполнимыми. Судил же иногда слишком свысока и нисколько перед нею не конфузясь, – не конфузясь, чем дальше, тем больше, – что и приписала она возраставшему и невольному его пренебрежению к ее положению. Раз она поблагодарила его за то, что он, постоянно ко мне благодушен и, будучи так выше меня по уму, разговаривает со мной как с ровней (то есть передала ему мои же слова). Он ей ответил:
– Это не так и не оттого. Это оттого, что я не вижу в нем никакой разницы с другими. Я не считаю его ни глупее умных, ни злее добрых. Я ко всем одинаков, потому что в моих глазах все одинаковы.
– Как, неужели не видите различий?
– О, конечно, все чем-нибудь друг от друга разнятся, но в моих глазах различий не существует, потому что различия людей до меня не касаются; для меня все равны и все равно, а потому я со всеми одинаково добр.
– И вам так не скучно?
– Нет; я всегда доволен собой.
– И вы ничего не желаете?
– Как не желать? но не очень. Мне почти ничего не надо, ни рубля сверх. Я в золотом платье и я как есть – это все равно; золотое платье ничего не прибавит Васину. Куски не соблазняют меня: могут ли места или почести стоить того места, которого я стою? Лиза уверяла меня честью, что он высказал это раз буквально. <…> Мало-помалу Лиза пришла к заключению, что и к князю (князю Сереже, жениху Лизы. – Н. Н.) он относится снисходительно, может, потому лишь, что для него все равны и «не существует различий», а вовсе не из симпатии к ней. Но под конец он как-то видимо стал терять свое равнодушие и к князю начал относиться не только с осуждением, но и с презрительной иронией. Это разгорячило Лизу, но Васин не унялся. Главное, он всегда выражался так мягко, даже и осуждал без негодования, а просто лишь логически выводил о всей ничтожности ее героя; но в этой-то логичности и заключалась ирония. Наконец, почти прямо вывел перед нею всю «неразумность» ее любви, всю упрямую насильственность этой любви. <…> Лиза в негодовании встала с места, чтоб уйти, но что же сделал и чем кончил этот разумный человек? – с самым благородным видом, и даже с чувством, предложил ей свою руку. Лиза тут же назвала его прямо в глаза дураком и вышла.
Предложить измену несчастному потому, что этот несчастный «не стоит» ее, и, главное, предложить это беременной от этого несчастного женщине, – вот ум этих людей! Я называю это страшною теоретичностью и совершенным незнанием жизни, происходящим от безмерного самолюбия. И вдобавок ко всему, Лиза самым ясным образом разглядела, что он даже гордился своим поступком, хотя бы потому, например, что знал уже о ее беременности…»
Васин был арестован вместе с другим «дергачевцами», и свою роль сыграл в этом князь Сергей Петрович, который «донес» из ревности.
И еще надо добавить, что в соседях у Васина проживала будущая самоубийца Оля с матерью, с которыми Аркадий, находясь у Васина в гостях, и встретится впервые, познакомится, узнает, что и к ним Версилов имеет какое-то странное отношение…
ВАСЬКА (козел) («Записки из Мертвого дома»), один из главных «героев» главы «Каторжные животные», «…вдруг очутился в остроге маленький, беленький, прехорошенький козленок. В несколько дней все его у нас полюбили, и он сделался общим развлечением и даже отрадою. Нашли и причину держать его: надо же было в остроге, при конюшне, держать козла. Однако ж он жил не в конюшне, а сначала в кухне, а потом по всему острогу. Это было преграциозное и прешаловливое создание. Он бежал на кличку, вскакивал на скамейки, на столы, бодался с арестантами, был всегда весел и забавен. <…> Когда он стал подрастать, над ним, вследствие общего и серьезного совещания, произведена была известная операция, которую наши ветеринары отлично умели делать. «Не то пахнуть козлом будет», – говорили арестанты. После того Васька стал ужасно жиреть. Да и кормили его точно на убой. Наконец вырос прекрасный большой козел, с длиннейшими рогами и необыкновенной толщины. Бывало, идет и переваливается. Он тоже повадился ходить с нами на работу для увеселения арестантов и встречавшейся публики. Все знали острожного козла Ваську. Иногда, если работали, например, на берегу, арестанты нарвут, бывало, гибких талиновых веток, достанут еще каких-нибудь листьев, наберут на валу цветов и уберут всем этим Ваську: рога оплетут ветвями и цветами, по всему туловищу пустят гирлянды. Возвращается, бывало, Васька в острог всегда впереди арестантов, разубранный и разукрашенный, а они идут за ним и точно гордятся перед прохожими. До того зашло это любованье козлом, что иным из них приходила даже в голову, словно детям, мысль: «Не вызолотить ли рога Ваське!» Но только так говорили, а не исполняли…»
Увы, по приказу Плац-майора арестанты вынуждены были Ваську прирезать и съесть: «Мясо оказалось действительно необыкновенно вкусным».
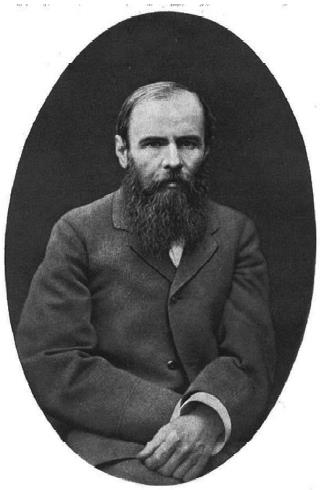
Ф. М. Достоевский Фотография М. М. Панова, 1880 г.
ВАСЯ («Дядюшкин сон»), учитель, поэт; возлюбленный Зины Москалевой. Хроникер рисует по сути предсмертный портрет этого героя – когда Зина по зову матери умирающего прибежала к нему проститься: «Не сказавшись матери, она накинула на себя салоп и тотчас же побежала со старухой, через весь город, в одну из самых бедных слободок Мордасова, в самую глухую улицу, где стоял один ветхий, покривившийся и вросший в землю домишка, с какими-то щелочками вместо окон и обнесенный сугробами снегу со всех сторон.
В этом домишке, в маленькой, низкой и затхлой комнатке, в которой огромная печь занимала ровно половину всего пространства, на дощатой некрашеной кровати, на тонком, как блин, тюфяке лежал молодой человек, покрытый старой шинелью. Лицо его было бледное и изможденное, глаза блистали болезненным огнем, руки были тонки и сухи, как палки; дышал он трудно и хрипло. Заметно было, что когда-то он был хорош собою; но болезнь исказила тонкие черты его красивого лица, на которое страшно и жалко было взглянуть, как на лицо всякого чахоточного или, вернее сказать, умирающего. <…> Все лицо его, исхудалое и страдальческое, дышало теперь блаженством. Он видел наконец перед собою ту, которая снилась ему целые полтора года, и наяву и во сне, в продолжение долгих тяжелых ночей его болезни…»
По словам Марьи Александровны Москалевой, старающейся очернить Васю в глазах дочери, это «мальчик, сын дьячка, получающий двенадцать целковых в месяц жалования, кропатель дрянных стимонков, которые, из жалости, печатают в «Библиотеке для чтения», и умеющий только толковать об этом проклятом Шекспире…» Уже в этих, явно несправедливых словах слышится что-то симпатическое, что-то располагающее в его пользу. Вася не просто поэт, а влюбленный поэт, и вследствие этого он не просто мечтает о славе, а о славе ради любимой (другой вопрос – достойна ли Зина Москалева такой мечты?): «Мечтал я, например, сделаться вдруг каким-нибудь величайшим поэтом, напечатать в «Отечественных записках» такую поэму, какой и не бывало еще на свете. Думал в ней излить все свои чувства, всю мою душу, так, что, где бы ты ни была, я все бы был с тобой, беспрерывно бы напоминал о себе моими стихами…» Бедный Вася осмеливается признаться в своих мечтах лишь на смертном одре, умирая от чахотки…
И, между прочим, Вася-поэт умирает добровольно – он сам себя убил. И свел он счеты с жизнью, казалось бы, из-за несчастной любви, из-за ревности, но все же коренная причина кроется в его неудачливости, в его страсти к поэзии. Зина-то как раз отвечает ему взаимностью, любит-ценит его именно за поэтическую возвышенность души и талант. Однако ж, в глазах ее маменьки он в качестве жениха для Зины представляет из себя полный ноль. Да и сам Вася, уже на смертном одре, высказывает Зине свои потаенные мысли, каковые терзали и самого Достоевского перед свадьбой с М. Д. Исаевой: «Недостоин я твоей любви, Зина! Ты и на деле была честная и великодушная: ты пошла к матери и сказала, что выйдешь за меня и ни за кого другого, и сдержала бы слово, потому что у тебя слово не рознилось с делом. <…> Знаешь ли, Зиночка, что ведь я даже не понимал тогда, чем ты жертвуешь, выходя за меня!
Я не мог даже того понять, что, выйдя за меня, ты, может быть, умерла бы с голоду…»
Поэт Вася решился добровольно уйти из жизни весьма романтическим способом – убить себя скоротечной чахоткой. Вот как он сам объяснил Зине свою задумку и, так сказать, технологию суицидного процесса: «Самолюбия-то сколько тут было! романтизма! рассказывали ль тебе подробно мою глупую историю, Зина? Видишь ли, был тут третьего года один арестант, подсудимый, злодей и душегубец; но когда пришлось к наказанию, он оказался самым малодушным человеком. Зная, что больного не выведут к наказанию, он достал вина, настоял в нем табаку и выпил. С ним началась такая рвота с кровью и так долго продолжалась, что повредила ему легкие. Его перенесли в больницу, и через несколько месяцев он умер в злой чахотке. Ну вот, ангел мой, я и вспомнил про этого арестанта <…> и решился так же погубить себя. Но как бы ты думала, почему я выбрал чахотку? почему я не удавился, не утопился? побоялся скорой смерти? Может быть, и так, – но все мне как-то мерещится, Зиночка, что и тут не обошлось без сладких романтических глупостей! Все-таки у меня была тогда мысль: как это красиво будет, что вот я буду лежать на постели, умирая в чахотке, а ты все будешь убиваться, страдать, что довела меня до чахотки; сама придешь ко мне с повинною, упадешь предо мной на колени… Я прощаю тебя, умирая на руках твоих..» Вскоре в документально-мемуарных «Записках из Мертвого дома» таким способом один из каторжников Устьянцев «переменит участь», боясь наказания палками, и станет ясно, что писатель вино, настоянное на табаке, не придумал..
Поэт-герой из «Дядюшкиного сна» решил, что самоубийство – самый действенный способ наказать виновницу самоубийства. И Зина, действительно, чувствуя свою вину, в отчаянии восклицает: «Не встретил бы ты меня, не полюбил бы меня, так остался бы жить!..» И более того, она поклялась Васе обречь себя на одиночество, но слово свое не сдержала…
Судя по всему, похожий на Васю герой должен был стать заглавным героем неосуществленного замысла конца 1860-х гг. «Смерть поэта».
ВАХРАМЕЕВ Нестор Игнатьевич («Двойник»), губернский секретарь, «молодой сослуживец и некогда приятель» Якова Петровича Голядкина. По аттестации Голядкина, Вахрамеев – «глуп, как простое осиновое бревно». Такое мнение о бывшем приятеле появилось у Голядкина после того, как тот переметнулся на сторону Голядкина-младшего.
ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР («Братья Карамазовы»), католический первосвященник – испанский кардинал, заглавный герой вставной «поэмы» Ивана Карамазова «Великий инквизитор», пересказанной автором брату Алеше (ч. 2, кн. 5, гл. V). Действие в «поэме» Ивана происходит в XVI в., в Испании, в Севилье, когда инквизиция (от лат. inguisitio – расследование), специально учрежденный с XIII в. институт римско-католической церкви, свирепствовала особенно жестоко и тысячами сжигала на кострах еретиков. «Будничный» портрет Великого инквизитора дан в момент, когда, обходя улицы Севильи, он увидел, как Иисус Христос совершает чудо воскрешения умершей девочки: «Это девяностолетний почти старик, высокий и прямой, с иссохшим лицом, со впалыми глазами, но из которых еще светится как огненная искорка блеск. О, он не в великолепных кардинальских одеждах своих, в каких красовался вчера пред народом, когда сжигали врагов Римской веры, – нет, в эту минуту он лишь в старой, грубой монашеской своей рясе. За ним в известном расстоянии следуют мрачные помощники и рабы его и «священная» стража. Он останавливается пред толпой и наблюдает издали. Он все видел, он видел, как поставили гроб у ног Его, видел, как воскресла девица, и лицо его омрачилось. Он хмурит седые густые брови свои, и взгляд его сверкает зловещим огнем. Он простирает перст свой и велит стражам взять Его…»
Вся дальнейшая часть «поэмы», по существу, – монолог Великого инквизитора перед упорно молчащим узником в темнице: кардинал страстно доказывает Христу, что Его новое пришествие на землю совершенно излишне, Он только мешает им, представителям католической церкви, устанавливать царствие Божие на земле: «…Ты гордишься своими избранниками, но у Тебя лишь избранники, а мы успокоим всех. Да и так ли еще: сколь многие из этих избранников, из могучих, которые могли бы стать избранниками, устали наконец ожидая Тебя, и понесли и еще понесут силы духа своего и жар сердца своего на иную ниву и кончат тем, что на Тебя же и воздвигнут свободное знамя свое. Но Ты сам воздвиг это знамя. У нас же все будут счастливы и не будут более ни бунтовать, ни истреблять друг друга, как в свободе Твоей, повсеместно. О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся. И что же, правы мы будем или солжем? Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабства и смятения доводила их свобода Твоя. Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят пред такими чудами и неразрешимыми тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя самих, другие непокорные, но малосильные, истребят друг друга, а третьи оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопиют к нам: «Да, вы были правы, вы одни владели тайной его, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от себя самих». Получая от нас хлебы, конечно, они ясно будут видеть, что мы их же хлебы, их же руками добытые, берем у них, чтобы им же раздать, безо всякого чуда, увидят, что не обратили мы камней в хлебы, но воистину более, чем самому хлебу, рады они будут тому, что получают его из рук наших! Ибо слишком будут помнить, что прежде, без нас, самые хлебы, добытые ими, обращались в руках их лишь в камни, а когда они воротились к нам, то самые камни обратились в руках их в хлебы. Слишком, слишком оценят они, что значит раз навсегда подчиниться! И пока люди не поймут сего, они будут несчастны. Кто более всего способствовал этому непониманию, скажи? Кто раздробил стадо и рассыпал его по путям неведомым? Но стадо вновь соберется и вновь покорится, и уже раз навсегда. Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы. О, мы убедим их наконец не гордиться, ибо Ты вознес их и тем научил гордиться; докажем им, что они слабосильны, что они только жалкие дети, но что детское счастие слаще всякого. Они станут робки и станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе как птенцы к наседке. Они будут дивиться, и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучи и так умны, что могли усмирить такое буйное тысячемиллионное стадо. Они будут расслабленно трепетать гнева нашего, умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин, но столь же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и к смеху, светлой радости и счастливой детской песенке. Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения; позволяем же им грешить потому, что их любим, наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем на себя. И возьмем на себя, а нас они будут обожать, как благодетелей, понесших на себе их грехи пред Богом. И не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей, – все судя по их послушанию, – и они будут нам покоряться с весельем и радостью. Самые мучительные тайны их совести, – все, все понесут они нам, и мы все разрешим, и они поверят решению нашему с радостию, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного. И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будут тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. Тихо умрут они, тихо угаснут во имя Твое и за гробом обрящут лишь смерть. Но мы сохраним секрет и для их же счастия будем манить их наградой небесною и вечною. Ибо если б и было что на том свете, то, уж конечно, не для таких как они. Говорят и пророчествуют, что Ты придешь и вновь победишь, придешь со своими избранниками, со своими гордыми и могучими, но мы скажем, что они спасли лишь самих себя, а мы спасли всех. <…> Знай, что я не боюсь Тебя. Знай, что и я был в пустыне, что и я питался акридами и кореньями, что и я благословлял свободу, которою Ты благословил людей, и я готовился стать в число избранников Твоих, в число могучих и сильных с жаждой «восполнить число». Но я очнулся и не захотел служить безумию. Я воротился и примкнул к сонму тех, которые исправили подвиг Твой. Я ушел от гордых и воротился к смиренным для счастья этих смиренных. То, что я говорю Тебе, сбудется, и царство наше созиждется. Повторяю Тебе, завтра же Ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгребать горячие угли к костру Твоему, на котором сожгу Тебя за то, что пришел нам мешать. Ибо если был, кто всех более заслужил наш костер, то это Ты. Завтра сожгу Тебя. Dixi…»
Однако ж это латинское непреложное «Dixi» («Я сказал»), похожее на клятву, окончательной точкой в диспуте не стало: последнее слово, вернее, поцелуй Иисуса в «бескровные девяносто летние уста» заставляют Великого инквизитора «вздрогнуть» и изменить свое решение – он раскрывает двери темницы, выпускает пленника и говорит ему: «Ступай и не приходи более… не приходи вовсе… никогда, никогда!»
Алеша, выслушав «поэму» и дополнительные доводы Ивана, что-де его Великий инквизитор прав, отрицая «нужность» для людей Христа и примкнув к «умным людям» (то есть – к высшему католичеству), восклицает: «– Никакого у них нет такого ума и никаких таких тайн и секретов… Одно только разве безбожие, вот и весь их секрет. Инквизитор твой не верует в Бога, вот и весь его секрет!..»
Идея римского католицизма как идея всемирной государственной власти церкви, католицизм и православие, роль Иисуса Христа в судьбах человечества… Вопросы эти волновали Достоевского на протяжении всего его «зрелого» творчества, поднимались-затрагивалась в «Записках из подполья.», «Идиоте», «Подростке», на страницах «Дневника писателя». В главе «Великий инквизитор» «Братьев Карамазовых» размышления писателя на эти темы выразились наиболее концентрированно и полно. Сам автор придавал большое значение этой «поэме», ибо выразил в ней все то, что обозначил емкой метафорой в самой последней записной тетради 1880–1881 гг. – «горнило сомнений»: «И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла…» И еще в одном месте: «Мерзавцы дразнили меня необразованною и ретроградною верою в Бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицание Бога, какое положено в «Инквизиторе» и в предшествовавшей главе, которому ответом служит весь роман. Не как дурак же, фанатик, я верую в Бога. И эти хотели меня учить и смеялись над моим неразвитием! Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицание, которое перешел я. Им ли меня учить!..»
Единственный раз Достоевский читал главу «Великий инквизитор» из романа «Братья Карамазовы» на литературном утре в пользу студентов С.-Петербургского университета 30 декабря 1879 г. и во вступительном слове так пояснил суть поэмы «атеиста» Ивана Карамазова и ее заглавного героя: «Между тем его Великий инквизитор есть, в сущности, сам атеист. Смысл тот, что если исказишь Христову веру, соединив ее с целями мира сего, то разом утратится и весь смысл христианства, ум несомненно должен впасть в безверие, вместо великого Христова идеала созиждется лишь новая Вавилонская башня. Высокий взгляд христианства на человечество понижается до взгляда как бы на звериное стадо, и под видом социальной любви к человечеству является уже не замаскированное презрение к нему…»
Образ Великого инквизитора из «поэмы» Ивана Карамазова был навеян в какой-то мере образом Томаса Торквемады (1420–1498) – главы испанской инквизиции (великого инквизитора). Любопытно, что после выхода романа читатели и критика стали проводить параллели между Великим инквизитором и К. П. Победоносцевым, с которым Достоевский близко общался в последние годы жизни.
ВЕЛЬЧАНИНОВ Алексей Иванович («Вечный муж»), бывший любовник Натальи Васильевны Трусоцкой, настоящий отец Лизы Трусоцкой.
Повествование начинается с «именной» главы – «Вельчанинов», в которой сразу сообщается, что в жизни Алексея Ивановича длится-тянется черная полоса: какая-то тяжба по имению приняла «дурной оборот», квартиру пришлось переменить, на дачу выехать не удалось, прислуги нет, погода – «пыль, духота, белые петербургские ночи, раздражающие нервы». И вот после такой «прелюдии» автор знакомит читателя с героем: «Это был человек много и широко поживший, уже далеко не молодой, лет тридцати восьми или даже тридцати девяти, и вся эта «старость» – как он сам выражался – пришла к нему «совсем почти неожиданно»; но он сам понимал, что состарился скорее не количеством, а, так сказать, качеством лет и что если уж и начались его немощи, то скорее изнутри, чем снаружи. На взгляд он и до сих пор смотрел молодцом. Это был парень высокий и плотный, светлорус, густоволос и без единой сединки в голове и в длинной, чуть не до половины груди, русой бороде; с первого взгляда как бы несколько неуклюжий и опустившийся; но, вглядевшись пристальнее, вы тотчас же отличили бы в нем господина, выдержанного отлично и когда-то получившего воспитание самое великосветское. Приемы Вельчанинова и теперь были свободны, смелы и даже грациозны, несмотря на всю благоприобретенную им брюзгливость и мешковатость. И даже до сих пор он был полон самой непоколебимой, самой великосветски нахальной самоуверенности, которой размера, может быть, и сам не подозревал в себе, несмотря на то что был человек не только умный, но даже иногда толковый, почти образованный и с несомненными дарованиями. Цвет лица его, открытого и румяного, отличался в старину женственною нежностью и обращал на него внимание женщин; да и теперь иной, взглянув на него, говорил: «Экой здоровенный, кровь с молоком!» И, однако ж, этот «здоровенный» был жестоко поражен ипохондрией. Глаза его, большие и голубые, лет десять назад имели тоже много в себе победительного; это были такие светлые, такие веселые и беззаботные глаза, что невольно влекли к себе каждого, с кем только он ни сходился. Теперь, к сороковым годам, ясность и доброта почти погасли в этих глазах, уже окружившихся легкими морщинками; в них появились, напротив, цинизм не совсем нравственного и уставшего человека, хитрость, всего чаще насмешка и еще новый оттенок, которого не было прежде: оттенок грусти и боли, – какой-то рассеянной грусти, как бы беспредметной, но сильной. Особенно проявлялась эта грусть, когда он оставался один. И странно, этот шумливый, веселый и рассеянный всего еще года два тому назад человек, так славно рассказывавший такие смешные рассказы, ничего так не любил теперь, как оставаться совершенно один. Он намеренно оставил множество знакомств, которых даже и теперь мог бы не оставлять, несмотря на окончательное расстройство своих денежных обстоятельств. Правда, тут помогло тщеславие: с его мнительностию и тщеславием нельзя было вынести прежних знакомств. Но и тщеславие его мало-помалу стало изменяться в уединении. Оно не уменьшилось, даже – напротив; но оно стало вырождаться в какое-то особого рода тщеславие, которого прежде не было: стало иногда страдать уже совсем от других причин, чем обыкновенно прежде, – от причин неожиданных и совершенно прежде немыслимых, от причин «более высших», чем до сих пор, – «если только можно так выразиться, если действительно есть причины высшие и низшие…» Это уже прибавлял он сам…»
И вот в жизнь этого человека, наслаждавшегося своей ипохондрией, входит нежданно старый знакомый по губернскому городу Т. – Павел Павлович Трусоцкий, с женой которого он когда-то был в связи. Выяснилось, что эта Наталья Васильевна только что скончалась, муж-рогоносец обнаружил ее интимную переписку и приехал в Петербург «мучить» бывших «друзей дома», в том числе и Вельчанинова. При этом еще выясняется, что 8-летняя дочь Трусоцкого Лиза на самом деле родилась от Вельчанинова, так что недаром трусоватый Трусоцкий даже с бритвой бросится на Вельчанинова, пытаясь его убить…
В последней главе сообщается, что минуло два года, Вельчанинов от ипохондрии своей совершенно излечился, процесс тот выиграл и ехал на юг, в Одессу, дабы повидаться с приятелем, который обещал познакомить его «с одною из чрезвычайно интересных женщин, с которою ему давно уже желалось познакомиться». Неожиданно Алексей Иванович на одной из станций спасает-защищает молодую даму от пьяного купчика, а она оказывается супругой все того же Павла Павловича Трусоцкого, который тут же появился и испугался, что Вельчанинов и впрямь примет приглашение благодарной супруги приехать к ним в гости, опять станет «другом семьи» и – объяснился с ним, взял с него слово не приезжать в гости, испортил счастливому Алексею Ивановичу настроение…
ВЕРДЕНЬ Альфонсина Карловна, де (Альфонсинка) («Подросток»), француженка, сожительница и подруга Ламберта во всех его темных делах. Аркадий Долгорукий, очутившись впервые у Ламберта, слышит вначале «из-за ширм дребезжащий женский голос с парижским акцентом», а затем и саму mademoiselle Alphonsine, наскоро одетую, в распашонке, только что с постели: «…странное какое-то существо, высокого роста и сухощавая, как щепка, девица, брюнетка, с длинной талией, с длинным лицом, с прыгающими глазами и с ввалившимися щеками, – страшно износившееся существо!» Именно Альфонсинка помогла Ламберту выкрасть «документ» против Катерины Николаевны Ахмаковой, зашитый в кармане у Подростка – вытащила у пьяного: «Альфонсинка и взрезывала карман. Достав письмо, ее письмо, мой московский документ, они взяли такого же размера простую почтовую бумажку и положили в надрезанное место кармана и зашили снова как ни в чем не бывало, так что я ничего не мог заметить. Альфонсинка же и зашивала…» Подружка Ламберта активно участвовала и в кульминационной сцене шантажа Катерины Николаевны: она должна была повести Аркадия по ложному следу, но в последний момент, благодаря Тришатову, этот коварный план француженки-авантюристки сорвался.
ВЕРСИЛОВ Андрей Петрович («Подросток»), дворянин-помещик; настоящий отец Аркадия Долгорукого. По мнению некоторых исследователей – центральный персонаж романа, хотя сам Достоевский в черновых материалах подчеркнул-определил, что главный герой все же не ОН (так именовался будущий Версилов), а Аркадий: «…герой – Подросток. А остальные все второстепенность, даже ОН – второстепенность». Ряд моментов биографии Версилова (возраст 45 лет, странствия по Европе, вериги и т. д.) совпадают с биографией героя неосуществленного замысла «Атеизм» (1868).
Уже в самом начале своих «Записок» Аркадий, разъясняя «казус» со своей княжеской фамилией, кратко рассказывает о Версилове, попутно характеризуя его: «Дело произошло таким образом: двадцать два года назад помещик Версилов (это-то и есть мой отец), двадцати пяти лет, посетил свое имение в Тульской губернии. Я предполагаю, что в это время он был еще чем-то весьма безличным. Любопытно, что этот человек, столь поразивший меня с самого детства, имевший такое капитальное влияние на склад всей души моей и даже, может быть, еще надолго заразивший собою все мое будущее, этот человек даже и теперь в чрезвычайно многом остается для меня совершенною загадкой. <…> Он как раз к тому времени овдовел, то есть к двадцати пяти годам своей жизни. Женат же был на одной из высшего света, но не так богатой, Фанариотовой, и имел от нее сына и дочь. Сведения об этой, столь рано его оставившей, супруге довольно у меня неполны и теряются в моих материалах; да и много из частных обстоятельств жизни Версилова от меня ускользнуло, до того он был всегда со мною горд, высокомерен, замкнут и небрежен, несмотря, минутами, на поражающее как бы смирение его передо мною. Упоминаю, однако же, для обозначения впредь, что он прожил в свою жизнь три состояния, и весьма даже крупные, всего тысяч на четыреста с лишком и, пожалуй, более. Теперь у него, разумеется, ни копейки…
Приехал он тогда в деревню «бог знает зачем», по крайней мере сам мне так впоследствии выразился. Маленькие дети его были не при нем, по обыкновению, а у родственников; так он всю жизнь поступал с своими детьми, с законными и незаконными. Дворовых в этом имении было значительно много; между ними был и садовник Макар Иванов Долгорукий…»
Дальше события развивались так, что помещик «отбил» молодую жену у своего дворового, «стал таскать ее за собою почти повсюду, кроме тех случаев, когда отлучался надолго». И вот, спустя годы, Аркадий, приехав по вызову Версилова в Петербург, и знакомится, наконец, со своим отцом (которого до этого видел лишь однажды в детстве). Семья к тому времени живет почти в нищете. «Мать работала, сестра тоже брала шитье; Версилов жил праздно, капризился и продолжал жить со множеством прежних, довольно дорогих привычек. Он брюзжал ужасно, особенно за обедом, и все приемы его были совершенно деспотические. Но мать, сестра, Татьяна Павловна и все семейство покойного Андроникова (одного месяца три перед тем умершего начальника отделения и с тем вместе заправлявшего делами Версилова), состоявшее из бесчисленных женщин, благоговели перед ним, как перед фетишем. Я не мог представить себе этого. Замечу, что девять лет назад он был несравненно изящнее. Я сказал уже, что он остался в мечтах моих в каком-то сиянии, а потому я не мог вообразить, как можно было так постареть и истереться всего только в девять каких-нибудь лет с тех пор: мне тотчас же стало грустно, жалко, стыдно. Взгляд на него был одним из тяжелейших моих первых впечатлений по приезде. Впрочем, он был еще вовсе не старик, ему было всего сорок пять лет; вглядываясь же дальше, я нашел в красоте его даже что-то более поражающее, чем то, что уцелело в моем воспоминании. Меньше тогдашнего блеску, менее внешности, даже изящного, но жизнь как бы оттиснула на этом лице нечто гораздо более любопытнее прежнего…»
Аркадий сравнивает Версилова с тем, каким видел он его лет за восемь до того, в раннем детстве: «Я как сейчас вас вижу тогдашнего, цветущего и красивого. Вы удивительно успели постареть и подурнеть в эти девять лет, уж простите эту откровенность; впрочем, вам и тогда было уже лет тридцать семь, но я на вас даже загляделся: какие у вас были удивительные волосы, почти совсем черные, с глянцевитым блеском, без малейшей сединки; усы и бакены ювелирской отделки – иначе не умею выразиться; лицо матово-бледное, не такое болезненно бледное, как теперь, а вот как теперь у дочери вашей, Анны Андреевны, которую я имел честь давеча видеть; горящие и темные глаза и сверкающие зубы, особенно когда вы смеялись. <…> Вы были в это утро в темно-синем бархатном пиджаке, в шейном шарфе, цвета сольферино [ярко-красного], по великолепной рубашке с алансонскими кружевами…» И еще чрезвычайно важно для характеристики внешности Версилова мимолетное замечание Аркадия: «…у Версилова лицо становилось удивительно прекрасным, когда он чуть-чуть только становился простодушным».
Еще в одном месте Аркадий приводит вкратце «формулярный список» Версилова: «Он учился в университете, но поступил в гвардию, в кавалерийский полк. Женился на Фанариотовой и вышел в отставку. Ездил за границу и, воротясь, жил в Москве в светских удовольствиях. По смерти жены прибыл в деревню; тут эпизод с моей матерью. Потом долго жил где-то на юге. В войну с Европой поступил опять в военную службу, но в Крым не попал и все время в деле не был. По окончании войны, выйдя в отставку, ездил за границу, и даже с моею матерью, которую, впрочем, оставил в Кенигсберге. <…> Потом Версилов вступил в мировые посредники первого призыва и, говорят, прекрасно исполнял свое дело; но вскоре кинул его и в Петербурге стал заниматься ведением разных частных гражданских исков. Андроников всегда высоко ставил его способности, очень уважал его и говорил лишь, что не понимает его характера. Потом Версилов и это бросил и опять уехал за границу, и уже на долгий срок, на несколько лет. Затем начались особенно близкие связи с стариком князем Сокольским. Во все это время денежные средства его изменялись раза два-три радикально: то совсем впадал в нищету, то опять вдруг богател и подымался…»
Главная особенность Версилова – его раздвоенность, двойничество. Многие его поступки выглядят в глазах окружающих низкими и подлыми (к примеру, «соблазнил» Лидию Ахмакову, она родила от него ребенка и отравилась; пытался «купить» учительницу Олю, которая покончила жизнь самоубийством…), на самом же деле, как потом выясняется, и в случае с Лидией Версилов на самом деле хотел благородно прикрыть «чужой грех», и Оле искренне помочь хотел… Раздвоенность определяет и личную жизнь этого героя: долгие годы живет с Софьей Андреевной Долгорукой, любит ее своеобразной любовью, и вместе с тем многие же годы одержим страстью к Катерине Николаевне Ахмаковой. Символична в этом плане сцена, когда Версилов, намереваясь окончательно разорвать с «миром Софьи» и уйти в «мир Ахмаковой», раскалывает образ, завещанный ему Макаром Ивановичем Долгоруким, на две половинки. Вскоре после этого следует кульминационная сцена и романа, и судьбы самого Версилова: он, взяв в подручные негодяя Ламберта, шантажирует Катерину Николаевну, потом пытается ее застрелить, наконец, окончательно помешавшись, стреляет в себя, чудом остается жить (Аркадий с Триматовым в последний момент помешали).
В «Заключении» перед читателем предстает обновленный, избавившийся от темной половины своей сущности Версилов (что и подчеркивает Аркадий): «Теперь, когда я пишу эти строки, – на дворе весна, половина мая, день прелестный, и у нас отворены окна. Мама сидит около него; он гладит рукой ее щеки и волосы и с умилением засматривает ей в глаза. О, это – только половина прежнего Версилова; от мамы он уже не отходит и уж никогда не отойдет более. Он даже получил «дар слезный», как выразился незабвенный Макар Иванович в своей повести о купце; впрочем, мне кажется, что Версилов проживет долго. С нами он теперь совсем простодушен и искренен, как дитя, не теряя, впрочем, ни меры, ни сдержанности и не говоря лишнего. Весь ум его и весь нравственный склад его остались при нем, хотя все, что было в нем идеального, еще сильнее выступило вперед…»
Чрезвычайно емкую характеристику Версилова дает Николай Семенович в своем письме-комментарии к «Запискам» Аркадия: «Это дворянин древнейшего рода и в то же время парижский коммунар. Он истинный поэт и любит Россию, но зато и отрицает ее вполне. Он без всякой религии, но готов почти умереть за что-то неопределенное, чего и назвать не умеет, но во что страстно верует, по примеру множества русских европейских цивилизаторов петербургского периода русской истории…»
Именно зачастую Версилову в «Подростке» доверены автором мысли-размышления об атеизме, католицизме, «золотом веке» человечества и других «капитальных» проблемах, занимавших большое место в «Дневнике писателя», которые будут развиты позже в «Братьях Карамазовых».
Образ Версилова, его «идеологический» портрет можно соотнести как с реальными историческим личностями, так и с литературными героями. Среди первых его «прототипов» (в той или иной мере) исследователи называют П. Я. Чаадаева (1794–1856), В. С. Печерина (1807–1885), А. И. Герцена, Ч. Ч. Валиханова, среди вторых – Рудина, Чацкого, Онегина.
ВЕРСИЛОВА Анна Андреевна («Подросток»), дочь Версилова от брака с Фанариотовой, сестра по отцу Аркадия и Лизы Долгоруких. Впервые «по-настоящему» Подросток встретил-увидел ее в доме князя Сокольского: «Анна Андреевна Версилова, дочь Версилова, старше меня тремя годами, жившая с своим братом у Фанариотовой и которую я видел до этого времени всего только раз в моей жизни, мельком на улице <…> Высокая, немного даже худощавая; продолговатое и замечательно бледное лицо, но волосы черные, пышные; глаза темные, большие, взгляд глубокий; малые и алые губы, свежий рот. Первая женщина, которая мне не внушала омерзения походкой; впрочем, она была тонка и сухощава. Выражение лица не совсем доброе, но важное; двадцать два года. Почти ни одной наружной черты сходства с Версиловым, а между тем, каким-то чудом, необыкновенное сходство с ним в выражении физиономии. Не знаю, хороша ли она собой; тут как на вкус…»
Чуть позже, получше узнав сестру, Аркадий обрисовал Анну Андреевну и ее образ жизни более основательно: «Она жила у Фанариотовой, своей бабушки, конечно как ее воспитанница (Версилов ничего не давал на их содержание), – но далеко не в той роли, в какой обыкновенно описывают воспитанниц в домах знатных барынь, как у Пушкина, например, в «Пиковой даме» воспитанница у старой графини. Анна Андреевна была сама вроде графини. Она жила в этом доме совершенно отдельно, то есть хоть и в одном этаже и в одной квартире с Фанариотовыми, но в отдельных двух комнатах, так что, входя и выходя, я, например, ни разу не встретил никого из Фанариотовых. Она имела право принимать к себе, кого хотела, и употреблять все свое время, как ей было угодно. Правда, ей был уже двадцать третий год. В свет она, в последний год, почти прекратила ездить, хотя Фанариотова и не скупилась на издержки для своей внучки, которую, как я слышал, очень любила. Напротив, мне именно нравилось в Анне Андреевне, что я всегда встречал ее в таких скромных платьях, всегда за каким-нибудь занятием, с книгой или с рукодельем. В ее виде было что-то монастырское, почти монашеское, и это мне нравилось. Она была немногоречива, но говорила всегда с весом и ужасно умела слушать, чего я никогда не умел. Когда я говорил ей, что она, не имея ни одной общей черты, чрезвычайно, однако, напоминает мне Версилова, она всегда чуть-чуть краснела. Она краснела часто и всегда быстро, но всегда лишь чуть-чуть, и я очень полюбил в ее лице эту особенность. У ней я никогда не называл Версилова по фамилии, а непременно Андреем Петровичем, и это как-то так само собою сделалось. Я очень даже заметил, что вообще у Фанариотовых, должно быть, как-то стыдились Версилова; я по одной, впрочем, Анне Андреевне это заметил <…> Любил я тоже очень, что она очень образованна и много читала, и даже дельных книг; гораздо более моего читала…»
С именем Анны Андреевны в романе связаны в основном матримониальные сюжетные линии: сначала она выступает как бы соперницей сестры Лизы в притязаниях на руку князя Сережи, но в конце концов ей неожиданно делает предложение князь Сокольский, и тут Анна Андреевна становится уже соперницей его дочери Катерины Николаевны Ахмаковой в праве на наследство. В «Заключении» сказано, что хотя Анна Андреевна почему-то не была упомянута в завещании старого князя, однако он успел перед смертью сделать устное распоряжение о выдаче ей 60-ти тысяч рублей, однако ж Анна Андреевна наотрез от них отказалась. Она призналась Аркадию (который стал часто бывать у нее), что «непременно пойдет в монастырь», чему он, впрочем, не верит.
В черновых материалах сам Достоевский упоминает свою сестру В. М. Достоевскую (Карепину) в качестве одного из прототипов Анны Андреевны Версиловой.
ВЕРСИЛОВ-МЛАДШИЙ («Подросток»), камер-юнкер; сын Андрея Петровича Версилова (по матери Фанариотов), брат Анны Андреевны Версиловой, «брат» по отцу и Аркадия с Елизаветой Долгоруких. Сам Подросток в большинстве случаев «братом» его называет в кавычках. У них было две встречи. Вторая – когда плелись интриги с переездом князя Сокольского на квартиру Аркадия. И вот в один из дней это произошло, когда Подросток вернулся домой: «Едва я отворил дверь в квартиру, как столкнулся, еще в передней, с одним молодым человеком высокого роста, с продолговатым и бледным лицом, важной и «изящной» наружности и в великолепной шубе. У него был на носу пенсне; но он тотчас же, как завидел меня, стянул его с носа (очевидно, для учтивости) и, вежливо приподняв рукой свой цилиндр, но, впрочем, не останавливаясь, проговорил мне, изящно улыбаясь: «На, bonsoir», – и прошел мимо на лестницу. Мы оба узнали друг друга тотчас же, хотя видел я его всего только мельком один раз в моей жизни, в Москве. Это был брат Анны Андреевны, камер-юнкер, молодой Версилов, сын Версилова, а стало быть, почти и мой брат…»
А та, первая, встреча случилась, когда Аркадий жил еще в Москве и ожидал присылки денег на дорогу, ему Николай Семенович сообщил, что приехал из Петербурга камер-юнкер Версилов, остановился у своего товарища князя и к нему надо зайти за деньгами. Подросток с волнением отправился на встречу с «братом» и испил чашу унижения до дна: его продержали в передней, а потом деньги вынес ему лакей и даже не в конверте, не на тарелке. Когда же Аркадий начал возмущаться, и довелось ему наконец-то впервые лицезреть единокровного родственничка: «Почти тотчас же я заслышал шаги, важные, неспешные, мягкие, и высокая фигура красивого и надменного молодого человека (тогда он мне показался еще бледнее и худощавее, чем в сегодняшнюю встречу) показалась на пороге в переднюю – даже на аршин не доходя до порога. Он был в великолепном красном шелковом халате и в туфлях, и с пенсне на носу. Не проговорив ни слова, он направил на меня пенсне и стал рассматривать. Я, как зверь, шагнул к нему один шаг и стал с вызовом, смотря на него в упор. Но рассматривал он меня лишь мгновение, всего секунд десять; вдруг самая неприметная усмешка показалась на губах его, и, однако ж, самая язвительная, тем именно и язвительная, что почти неприметная; он молча повернулся и пошел опять в комнаты, так же не торопясь, так же тихо и плавно, как и пришел. О, эти обидчики еще с детства, еще в семействах своих выучиваются матерями своими обижать! Разумеется, я потерялся… О, зачем я тогда потерялся!..»
Немудрено, что Аркадий с этим своим «братом» совершенно не сошелся и сходиться не имел охоты.
ВЕРХОВЕНСКИЙ Петр Степанович («Бесы»), главный «бес», руководитель тайной организации; сын Степана Трофимовича Верховенского. «Это был молодой человек лет двадцати семи или около, немного повыше среднего роста, с жидкими белокурыми, довольно длинными волосами и с клочковатыми, едва обозначавшимися усами и бородкой. Одетый чисто и даже по моде, но не щегольски; как будто с первого взгляда сутуловатый и мешковатый, но однако ж совсем не сутуловатый и даже развязный. Как будто какой-то чудак, и однако же все у нас находили потом его манеры весьма приличными, а разговор всегда идущим к делу.
Никто не скажет, что он дурен собой, но лицо его никому не нравится. Голова его удлинена к затылку и как бы сплюснута с боков, так что лицо его кажется вострым. Лоб его высок и узок, но черты лица мелки; глаз вострый, носик маленький и востренький, губы длинные и тонкие. Выражение лица словно болезненное, но это только кажется. У него какая-то сухая складка на щеках и около скул, что придает ему вид как бы выздоравливающего после тяжкой болезни. И однако же он совершенно здоров, силен и даже никогда не был болен.
Он ходит и движется очень торопливо, но никуда не торопится. Кажется, ничего не может привести его в смущение; при всяких обстоятельствах и в каком угодно обществе он останется тот же. В нем большое самодовольство, но сам он его в себе не примечает нисколько.
Говорит он скоро, торопливо, но в то же время самоуверенно, и не лезет за словом в карман. Его мысли спокойны, несмотря на торопливый вид, отчетливы и окончательны, – и это особенно выдается. Выговор у него удивительно ясен; слова его сыплются, как ровные, крупные зернышки, всегда подобранные и всегда готовые к вашим услугам. Сначала это вам и нравится, но потом станет противно, и именно от этого слишком уже ясного выговора, от этого бисера вечно готовых слов. Вам как-то начинает представляться, что язык у него во рту должно быть какой-нибудь особенной формы, какой-нибудь необыкновенно длинный и тонкий, ужасно красный и с чрезвычайно вострым, беспрерывно и невольно вертящимся кончиком…»
Петруша, как часто именуется он в романе, впоследствии скажет-признается о самом себе Ставрогину: «Ну-с, какое же мое собственное лицо? Золотая средина: ни глуп, ни умен, довольно бездарен и с луны соскочил, как говорят здесь благоразумные люди, не так ли?..»
– Что ж, может быть и так, – чуть-чуть улыбнулся Николай Всеволодович…»
Тот же Ставрогин отзовется о Верховенском-младшем однозначно – «полупомешанный энтузиаст». Еще презрительнее охарактеризует его Шатов – «клоп, невежда, дуралей». Однако ж этому «невежде» и «дуралею» удалось «взбаламутить» целый уезд, смутить умы многих благочестивых до этого обывателей.
Петруша, единственный сын либерала 1840-х гг. Степана Трофимовича Верховенского, росший, как сирота, у чужих людей, довел либерализм отца до крайнего анархизма и экстремизма. Он предстает перед читателями уже вполне законченным негодяем, с темным прошлым, в его биографии много недомолвок и темных пятен, его подозревают в ренегатстве и провокаторстве, что не мешает «нашим» признать его вождем и вполне ему подчиниться. Главное деяние Петра Верховенского – организация убийства Шатова с целью окончательно скрепить его кровью членов шайки-организации, дабы продолжить «смуту» и разжечь борьбу по захвату власти в уезде, стране, мире. Власть, вождизм – вот главная цель этого политического авантюриста и фанатика. Он хочет, по словам его отца, заменить собою Христа.
Главным прототипом Петра Верховенского послужил С. Г. Нечаев (в черновиках он так поначалу и именовался), отразились в этом образе и отдельные черты М. В. Петрашевского (в тех же черновиках: «Нечаев – отчасти Петрашевский»), еще очевиднее – петрашевца Р. А. Черносвитова, а также Д. И. Писарева.
ВЕРХОВЕНСКИЙ Степан Трофимович («Бесы»), помещик, «профессор», «либерал»; отец Петра Степановича Верховенского, «друг» Варвары Петровны Ставрогиной, воспитатель Николая Всеволодовича Ставрогина. Герой этот пожил в молодости довольно бурно, был дважды женат (на «одной легкомысленной девице», родившей ему сына Петра, и какой-то «неразговорчивой берлинской немочке»), дважды овдовел, принадлежал к славной плеяде либералов 1840-х гг., профессорствовал, литературствовал, однако ж прославиться не сумел и, спустя 20 лет, доживает век свой в доме генеральши Ставрогиной в качестве ее «друга» и чуть ли не приживала. «Она сама сочинила ему даже костюм, в котором он и проходил всю свою жизнь. Костюм был изящен и характерен: длиннополый, черный сюртук, почти доверху застегнутый, но щегольски сидевший; мягкая шляпа (летом соломенная) с широкими полями; галстук белый, батистовый, с большим узлом и висячими концами; трость с серебряным набалдашником, при этом волосы до плеч. Он был темно-рус, и волосы его только в последнее время начали немного седеть. Усы и бороду он брил. Говорят, в молодости он был чрезвычайно красив собой. Но, по-моему, и в старости был необыкновенно внушителен. Да и какая же старость в пятьдесят три года? Но по некоторому гражданскому кокетству, он не только не молодился, но как бы и щеголял солидностию лет своих, и в костюме своем, высокий, сухощавый, с волосами до плеч, походил как бы на патриарха или, еще вернее, на портрет поэта Кукольника, литографированный в тридцатых годах при каком-то издании, особенно когда сидел летом в саду, на лавке, под кустом расцветшей сирени, опершись обеими руками на трость, с раскрытою книгой подле и поэтически задумавшись над закатом солнца…»
Весьма точно самого Верховенского-старшего и его статус в жизни обозначит мужик Анисим уже в финале романа (глава «Последнее странствование Степана Трофимовича»), объясняя таким же мужикам – что это за странный «путешественник» из города, объявившийся в их селе: «Выйдя в сени, он сообщил всем, кто хотел слушать, что Степан Трофимович не то чтоб учитель, а «сами большие ученые и большими науками занимаются, а сами здешние помещики были и живут уже двадцать два года у полной генеральши Ставрогиной, заместо самого главного человека в доме, а почет имеют от всех по городу чрезвычайный. В клубе Дворянском по серенькой и по радужной в один вечер оставляли, а чином советник, все равно, что военный подполковник, одним только чином ниже полного полковника будут. А что деньги имеют, так деньгам у них через полную генеральшу Ставрогину счету нет» и пр. и пр.»
Ну и, конечно, очень ярко характеризует Степана Трофимовича, как и любого автора, его сочинительство. Хроникер на первых же страницах выдает его с головой – оказывается, тот в молодости сочинил поэму, да еще и с «направлением». Из пересказа поэмы становится ясно, что здесь спародировано целое направление в романтизме (произведения Печерина, Грановского, Ростопчиной, Тихомирова…) Степан Трофимович искренне считает себя революционным поэтом – еще бы, ведь поэму нашли «тогда опасною», хотя она, по остроумному замечанию хроникера, всего лишь ходила «по рукам, в списках, между двумя любителями и у одного студента». Антон Лаврентьевич Г – в (хроникер) предложил ее теперь напечатать «за совершенною ее, в наше время, невинностью», но Степана Трофимовича даже оскорбило подобное мнение об его детище.
Тенденциозности, наполнявшей «Бесы», не отрицал сам Достоевский. Вот и в образе тщеславного Степана Трофимовича он карикатурно изобразил тех либералов (не только поэтов), которые, в его понимании, сделали для лучшего будущего России на грош, а ожидают награды на рубль (для таких людей, как старший Верховенский, и гонения от правительства – своеобразная награда, признание их значимости); тех поэтов, которые считали, что главное в их творчестве «направление», и это, дескать, важнее литературных достоинств. Для полноты характеристики Верховенского-старшего и понимания иронического отношения к нему со стороны Достоевского нельзя забывать, что Степан Трофимович – западник 40-х годов, представитель идейных противников писателя-почвенника. Весьма характерно, что он воспитывал сына хозяйки дома, Николая Ставрогина, и совершенно не занимался воспитанием родного сына Петруши – в результате из обоих выросли-получились «бесы».
В «человеческом» плане герой этот вполне вызывает симпатию читателя, и его смерть в финале воспринимается трагически. К слову, он, как и все романтически настроенные личности, был весьма наклонен к суициду. На первых же страницах хроники выясняется, что он частенько пишет Варваре Петровне покаянные письма после каждой очередной ссоры с признаниями, что «он себя презирает и решился погибнуть насильственной смертью». И впоследствии, когда Варвара Петровна надумала выдать за Степана Трофимовича Дарью Шатову, она инструктировала девушку, как ей обращаться с будущим супругом: «Заставь слушаться; не сумеешь заставить – дура будешь. Повеситься захочет, грозить будет – не верь; один только вздор! Не верь, а все-таки держи ухо востро, неровен час и повесится; а потому никогда не доводи до последней черты, – и это первое правило в супружестве. Помни тоже, что он поэт…» Знаменательно, что в описании финала жизни Степана Трофимовича Достоевский ровно за сорок (!) лет по сути как бы описал последние дни Л. Н. Толстого: и «уход», и горячечную болезнь в дороге, и смерть на чужой постели, в случайном доме…
Прототипом этого персонажа послужил главным образом Т. И. Грановский, но проявились в этом образе черты и других либералов-западников, которых Достоевский знал лично, к примеру В. Ф. Корша.
ВЕРХОВЦЕВ Иван («Братья Карамазовы»), подполковник; отец Катерины Ивановны и Агафьи Ивановны Верховцевых. Он появляется в рассказе Мити Карамазова своему брату Алеше о том, как Катерина Ивановна стала его невестой. Отец ее был батальонным командиром, под началом которого Дмитрий служил прапорщиком и не пользовался его расположением. «У этого старого упрямца, недурного очень человека и добродушнейшего хлебосола, были когда-то две жены, обе померли…» Первая жена была из «простых» и оставила дочь «простую» – Агафью. Вторая жена оказалась генеральской дочкой, однако «денег подполковнику тоже никаких не принесла». Вот и придумал подполковник, дабы растить двух дочерей достойно и обеспечить им приданое, давал казенные деньги купцу Трифонову под проценты, и тот его, в конце концов, обманул, деньги присвоил – 4,5 тысячи. «Ну, так и сидит наш подполковник дома, голову себе обвязал полотенцем, <… > вдруг вестовой с книгой и с приказом: «Сдать казенную сумму, тотчас же, немедленно, через два часа». Он расписался, я эту подпись в книге потом видел, – встал, сказал, что одеваться в мундир идет, прибежал в свою спальню, взял двуствольное охотничье свое ружье, зарядил, вкатил солдатскую пулю, снял с правой ноги сапог, ружье упер в грудь, а ногой стал курок искать. А Агафья уже подозревала, мои тогдашние слова запомнила, подкралась и во время подсмотрела: ворвалась, бросилась на него сзади, обняла, ружье выстрелило вверх в потолок; никого не ранило; вбежали остальные, схватили его, отняли ружье, за руки держат…» Дмитрий Карамазов пообещал выручить старика-полковника, но, куражась, потребовал, дабы за деньгами к нему пришла младшая дочь – красавица Катерина… Когда прапорщик Карамазов растрату покрыл и покрыл «бескорыстно», подполковник на удивление всем благополучно дела сдал новому командиру-майору, тут же слег и через несколько недель умер от «размягчения мозга». Похоронили его с воинским почестями.
В образе и судьбе Верховцева отразились, по-видимому, отдельные штрихи образа и судьбы подполковника А. Велихова.
ВЕРХОВЦЕВА Агафья Ивановна («Братья Карамазовы»), старшая дочь подполковника Верховцева, сестра по отцу Катерины Ивановны Верховцевой. Агафья родилась от первого брака отца. Дмитрий Карамазов рассказывает брату Алеше, что у подполковника было две жены и обе умерли: «Одна, первая, была из каких-то простых и оставила ему дочь, тоже простую. Была уже при мне девою лет двадцати четырех и жила с отцом вместе с теткой, сестрой покойной матери. Тетка – бессловесная простота, а племянница, старшая дочь подполковника, – бойкая простота. Люблю, вспоминая, хорошее слово сказать: никогда-то, голубчик, я прелестнее характера женского не знал, как этой девицы, Агафьей звали ее, – представь себе, Агафьей Ивановной. Да и недурна она вовсе была, в русском вкусе – высокая, дебелая, полнотелая, с глазами прекрасными, лицо, положим, грубоватое. Не выходила замуж, хотя двое сватались, отказала и веселости не теряла. Сошелся я с ней – не этаким образом, нет, тут было чисто, а так, по-дружески. Я ведь часто с женщинами сходился совершенно безгрешно, по-дружески. Болтаю с ней такие откровенные вещи, что ух! – а она только смеется. Многие женщины откровенности любят, заметь себе, а она к тому же была девушка, что очень меня веселило. И вот еще что: никак бы ее барышней нельзя было назвать. Жили они у отца с теткой, как-то добровольно принижая себя, со всем другим обществом не равняясь. Ее все любили и нуждались в ней, потому что портниха была знатная: был талант, денег за услуги не требовала, делала из любезности, но когда дарили – не отказывалась принять…»
Агафья спасла отца, батальонного командира, растратившего казенные 4,5 тысячи, от самоубийства («ворвалась, бросилась на него сзади, обняла, ружье выстрелило вверх в потолок…»); и затем, как ни обожала сестру Катю, как перед ней ни преклонялась, но все же передала ей «грязное» предложение-условие Дмитрия Карамазова, который пообещал выручить деньгами их отца, если Катерина Ивановна придет за ними «лично»…
Впоследствии, когда Агафья Ивановна жила уже в Москве, Катерина Ивановна под предлогом пересылки ей 3-х тысяч рублей попросила это сделать Дмитрия Карамазова, который на эти деньги увез Грушеньку Светлову в Мокрое и там их прокутил. Эти роковые три тысячи и станут главной интригой в развитии сюжета романа.
ВЕРХОВЦЕВА Катерина Ивановна («Братья Карамазовы»), младшая дочь Ивана Верховцева, сестра по отцу Агафьи Ивановны Верховцевой. Дмитрий Карамазов рассказывает брату Алеше: «Когда я приехал и в баталион поступил, заговорили во всем городишке, что вскоре пожалует к нам, из столицы, вторая дочь подполковника, раскрасавица из красавиц, а теперь только что-де вышла из аристократического столичного одного института. Эта вторая дочь – вот эта самая Катерина Ивановна и есть, и уже от второй жены подполковника. А вторая эта жена, уже покойница, была из знатного, какого-то большого генеральского дома, хотя впрочем, как мне достоверно известно, денег подполковнику тоже никаких не принесла. Значит, была с родней, да и только, разве там какие надежды, а в наличности ничего. И однако, когда приехала институтка (погостить, а не навсегда), весь городишко у нас точно обновился, самые знатные наши дамы, – две превосходительные, одна полковница, да и все, все за ними, тотчас же приняли участие, расхватали ее, веселить начали, царица балов, пикников, живые картины состряпали в пользу каких-то гувернанток. Я молчу, я кучу, я одну штуку именно тогда удрал такую, что весь город тогда загалдел. Вижу, она меня раз обмерила взглядом, у батарейного командира это было, да я тогда не подошел: пренебрегаю, дескать, знакомиться. Подошел я к ней уже несколько спустя, тоже на вечере, заговорил, еле поглядела, презрительные губки сложила, а, думаю, подожди, отмщу! Бурбон я был ужаснейший в большинстве тогдашних случаев, и сам это чувствовал. Главное то чувствовал, что Катенька не то чтобы невинная институтка такая, а особа с характером, гордая и в самом деле добродетельная, а пуще всего с умом и образованием, а у меня ни того, ни другого. Ты думаешь, я предложение хотел сделать? Ни мало, просто отмстить хотел за то, что я такой молодец, а она не чувствует. А пока кутеж и погром…»
Батальонный командир растратил казенные 4,5 тысячи, пытался застрелиться, и Дмитрий, который как раз получил от отца шесть тысяч, предложил покрыть растрату ее отца, если Катерина Ивановна придет за ними «лично». «Она вошла и прямо глядит на меня, темные глаза смотрят решительно, дерзко даже, но в губах и около губ, вижу, есть нерешительность.
– Мне сестра сказала, что вы дадите четыре тысячи пятьсот рублей, если я приду за ними… к вам сама. Я пришла… дайте деньги!.. – не выдержала, задохлась, испугалась, голос пресекся, а концы губ и линии около губ задрожали…»
В конце концов Митя, поборов в себе «карамазовщину», деньги дал «просто так» и даже в пояс поклонился Катерине Ивановне, и она ему поклонилась в ответ. Спустя три месяца Катерина Ивановна, получив богатое наследство от родственницы-генеральши, сама себя предложила в невесты Дмитрию. Между тем в нее влюбляется брат Дмитрия – Иван Карамазов. Сама Катерина Ивановна, судя по всему, так до конца и не решила, кого она из двух братьев все же любит по-настоящему – не головой, а сердцем.
Для характеристики Катерины Ивановны важно суждение Алеши о ней: «Красота Катерины Ивановны еще и прежде поразила Алешу, когда брат Дмитрий, недели три тому назад, привозил его к ней в первый раз представить и познакомить, по собственному чрезвычайному желанию Катерины Ивановны. <…> Его поразила властность, гордая развязность, самоуверенность надменной девушки. И все это было несомненно, Алеша чувствовал, что он не преувеличивает. Он нашел, что большие черные горящие глаза ее прекрасны и особенно идут к ее бледному, даже несколько бледно-желтому продолговатому лицу. Но в этих глазах, равно как и в очертании прелестных губ, было нечто такое, во что конечно можно было брату его влюбиться ужасно, но что, может быть, нельзя было долго любить. <…> Тем с большим изумлением почувствовал он теперь при первом взгляде на выбежавшую к нему Катерину Ивановну, что, может быть, тогда он очень ошибся. В этот раз лицо ее сияло неподдельною простодушною добротой, прямою и пылкою искренностью. Изо всей прежней «гордости и надменности», столь поразивших тогда Алешу, замечалась теперь лишь одна смелая, благородная энергия и какая-то ясная, могучая вера в себя. Алеша понял с первого взгляда на нее, с первых слов, что весь трагизм ее положения относительно столь любимого ею человека для нее вовсе не тайна, что она, может быть, уже знает все, решительно все. И однако же, несмотря на то, было столько света в лице ее, столько веры в будущее, Алеша почувствовал себя перед нею вдруг серьезно и умышленно виноватым. Он был побежден и привлечен сразу. Кроме всего этого, он заметил с первых же слов ее, что она, в каком-то сильном возбуждении, может быть очень в ней необычайном, – возбуждении похожем почти даже на какой-то восторг…»
Катерина Ивановна, как и ее полная тезка Катерина Ивановна Мармеладова из «Преступления и наказания», как и многие (все!) героини Достоевского, нервную систему имеет совершенно далекую от идеала. Одна из самых драматично-напряженных сцен романа – встреча Катерины Ивановны и Грушеньки Светловой. Первая, поддавшись чарам второй и поверив поначалу, что та пришла к ней с дружбой, растрогалась, взялась расхваливать при Алеше гостью в глаза и даже ручку ей в припадке восторга трижды поцеловала. В ответ Грушенька ее страшно унизила и надсмеялась над ней в глаза, тоже при Алеше. С Катериной Ивановной случился нервический припадок: она даже кинулась на соперницу с кулаками, потом рыдала до спазм в горле, а затем, выпроваживая невольного свидетеля ее позора Алешу, весьма многозначительно выкрикнула-заявила, словно намекая на самоубийство: «Не осудите, простите, я не знаю, что с собой еще сделаю!» В другой раз, опять же Алеше (этому исповеднику всех потенциальных самоубийц в романе!), Катерина Ивановна заявила уже непреложно и впрямую, что если и Иван ее бросит-оставит, как некогда Дмитрий, она «убьет себя». А между тем, именно показания Кати, предъявленное ею «пьяное» письмо Мити с угрозами убить отца и способствовали осуждению Мити, но когда она приходит к нему в тюрьму, то вдруг признается, что по-прежнему безумно любит его, Митю…
В образе, в характере Катерины Ивановны отразились некоторые черты первой жены писателям Д. Достоевской.
ВИДОПЛЯСОВ Григорий («Село Степанчиково и его обитатели»), лакей Егора Ильича Ростанева, «секретарь» Фомы Фомича Опискина. «Это был еще молодой человек, для лакея одетый прекрасно, не хуже иного губернского франта. Коричневый фрак, белые брюки, палевый жилет, лакированные полусапожки и розовый галстучек подобраны были, очевидно, не без цели. Все это тотчас же должно было обратить внимание на деликатный вкус молодого щеголя. Цепочка к часам была выставлена напоказ непременно с тою же целью. Лицом он был бледен и даже зеленоват; нос имел большой, с горбинкой, тонкий, необыкновенно белый, как будто фарфоровый. Улыбка на тонких губах его выражала какую-то грусть и, однако ж, деликатную грусть. Глаза, большие, выпученные и как будто стеклянные, смотрели необыкновенно тупо, и, однако ж, все-таки просвечивалась в них деликатность. Тонкие, мягкие ушки были заложены, из деликатности, ватой. Длинные, белобрысые и жидкие волосы его были завиты в кудри и напомажены. Ручки его были беленькие, чистенькие, вымытые чуть ли не в розовой воде; пальцы оканчивались щеголеватыми, длиннейшими розовыми ногтями. Все это показывало баловня, франта и белоручку. Он шепелявил и премодно не выговаривал букву р, подымал и опускал глаза, вздыхал и нежничал до невероятности. От него пахло духами. Роста он был небольшого, дряблый и хилый, и на ходу как-то особенно приседал, вероятно, находя в этом самую высшую деликатность, – словом, он весь был пропитан деликатностью, субтильностью и необыкновенным чувством собственного достоинства…»
Видоплясов служил прежде у «одного учителя чистописания», обучился сам писать, учит теперь сына Ростанева Илюшу, за что полковник ему платит отдельно по приказу Фомы Фомича полтора целковых за урок. Мало этого, Видоплясов и по окрестным помещикам со своими уроками ездит – и там ему платят. Лакей этот особенно интересен тем, что он – «поэт». Его поэтический дар характеризует в повести восторженный полковник Ростанев. По его словам, у Видоплясова «настоящие стихи», что он «тотчас же всякий предмет стихами опишет», что это «настоящий талант», что у него в стихах «музы летают» и что, наконец, «он до того перед всей дворней после стихов нос задрал, что уж и говорить с ними не хочет». Доморощенный поэт под покровительством Фомы Опискина на полном серьезе намеревается издать книжку под названием «Вопли Видоплясова», но самолюбивый автор опасается насмешек над фамилией и требует почтительно, чтобы «сообразно таланту и фамилия была облагороженная». Но «поэту» не везет: за короткий срок он становится поочередно Олеандровым, Тюльпановым, Верным, Улановым, Танцевым и даже Эссбукетовым, но презираемая им дворня упорно подбирает к очередной «облагороженной» фамилии отнюдь не благородные рифмы… Вот уж действительно, можно носить довольно заурядную фамилию Пушкин и быть гением, а можно быть Эссбукетовым, «рифмовать любой предмет», но оставаться лакеем и в жизни, и в литературе. Такие поэты, высмеянные Достоевским, беспокоятся о чем угодно, только не о том – есть ли у них талант? Только тем, что колоссальный образ Фомы Опискина затенил Видоплясова, и можно, кажется, объяснить тот парадокс, что имя этого лакея-поэта не стало нарицательным.
В финале повести сообщается, что лакей-поэт «давным-давно в желтом доме и, кажется, там и умер». Видоплясов является, в какой-то мере, предтечей лакея Смердякова из «Братьев Карамазовых».
ВИРГИНСКАЯ (девица Виргинская) («Бесы»), «студентка и нигилистка»; сестра Виргинского, племянница Капитона Максимовича. Она появляется в главе седьмой «У наших»: «Всех дам в комнате было три: сама хозяйка, безбровая ее сестрица и родная сестра Виргинского, девица Виргинская, как раз только что прикатившая из Петербурга. <…> Прибывшая девица Виргинская, тоже недурная собой, студентка и нигилистка, сытенькая и плотненькая как шарик, с очень красными щеками и низенького роста, поместилась подле Арины Прохоровны, еще почти в дорожном своем костюме, с каким-то свертком бумаг в руке, и разглядывала гостей нетерпеливыми прыгающими глазами. <…> Студентка же, конечно, ни в чем не участвовала, но у ней была своя забота; она намеревалась прогостить всего только день или два, а затем отправиться дальше и дальше, по всем университетским городам, чтобы «принять участие в страданиях бедных студентов и возбудить их к протесту». Она везла с собою несколько сот экземпляров литографированного воззвания и, кажется, собственного сочинения. <…> Майор приходился ей родным дядей и встретил ее сегодня в первый раз после десяти лет. Когда вошли Ставрогин и Верховенский, щеки ее были красны, как клюква: она только что разбранилась с дядей за убеждения по женскому вопросу…»
Эта девица весьма напоминает Нигилистку из неопубликованной пьесы-фельетона в стихах «Офицер и нигилистка», тем более что все время спорит-дискутирует не только с ненавистным ей Гимназистом, но и со своим дядей-майором Капитоном Максимовичем. Впоследствии она на скандальном бале в пользу гувернанток выскочит на сцену в самом конце, по-прежнему со свертком под мышкой, в сопровождении «ненавистного» Гимназиста и начнет агитировать-кричать о бедственном положении студентов..
Прототипом девицы Виргинской послужила 19-летняя А. Дементьева-Ткачева, на средства которой нечаевцами была устроена подпольная типография, в которой она напечатала сочиненную ею прокламацию «К обществу» о бедственном положении студентов.
ВИРГИНСКАЯ Арина Прохоровна («Бесы»), акушерка; супруга Виргинского, сестра Шигалева. Хроникер так характеризует «передовую» жену Виргинского вкупе с другими дамами семьи – теткой и свояченицей: «Супруга его, да и все дамы были самых последних убеждений, но все это выходило у них несколько грубовато, именно, тут была «идея, попавшая на улицу», как выразился когда-то Степан Трофимович по другому поводу. Они все брали из книжек, и по первому даже слуху из столичных прогрессивных уголков наших, готовы были выбросить за окно все, что угодно, лишь бы только советовали выбрасывать. М-me Виргинская занималась у нас в городе повивальною профессией; в девицах она долго жила в Петербурге…» И далее приводится характерный пример-эпизод супружеского «счастья» в эмансипированном семействе: «Рассказывали про Виргинского и, к сожалению, весьма достоверно, что супруга его, не пробыв с ним и году в законном браке, вдруг объявила ему, что он отставлен и что она предпочитает Лебядкина. <…> Этот человек пренеделикатно тотчас же к ним переехал, обрадовавшись чужому хлебу, ел и спал у них и стал наконец третировать хозяина свысока…» Правда, однажды Виргинский, впав в истерику, оттаскал капитана Лебядкина за волосы, но потом опять-таки просил за это у супруги прощения на коленях.
Подкаблучничество Виргинского объяснялось отчасти тем, что дом их принадлежал жене, да и доход она имела немалый, но главную роль, конечно, играла ее натура: «Виргинский жил в собственном доме, то есть в доме своей жены, в Муравьиной улице. Дом был деревянный, одноэтажный, и посторонних жильцов в нем не было. (К слову, в доме этом проходила сходка-собрание «наших». – Н. Н.) <. > Сама же m-me Виргинская, занимавшаяся повивальною профессией, уже тем одним стояла ниже всех на общественной лестнице; даже ниже попадьи, несмотря на офицерский чин мужа. Соответственного же ее званию смирения не примечалось в ней вовсе. А после глупейшей и непростительно откровенной связи ее, из принципа, с каким-то мошенником, капитаном Лебядкиным, даже самые снисходительные из наших дам отвернулись от нее с замечательным пренебрежением. Но m-me Виргинская приняла все так, как будто ей того и надо было. Замечательно, что те же самые строгие дамы, в случаях интересного своего положения, обращались по возможности к Арине Прохоровне (то есть к Виргинской), минуя остальных трех акушерок нашего города. Присылали за нею даже из уезда к помещицам – до того все веровали в ее знание, счастье и ловкость в решительных случаях. Кончилось тем, что она стала практиковать единственно только в самых богатых домах; деньги же любила до жадности. Ощутив вполне свою силу, она под конец уже нисколько не стесняла себя в характере. Может быть, даже нарочно, на практике в самых знатных домах, пугала слабонервных родильниц каким-нибудь неслыханным нигилистическим забвением приличий или наконец насмешками над «всем священным» и именно в те минуты, когда «священное» наиболее могло бы пригодиться. <…> Но хоть и нигилистка, а в нужных случаях Арина Прохоровна вовсе не брезговала не только светскими, но и стародавними, самыми предрассудочными обычаями, если таковые могли принести ей пользу. Ни за что не пропустила бы она, например, крестин повитого ею младенца, причем являлась в зеленом шелковом платье со шлейфом, а шиньон расчесывала в локоны и в букли, тогда как во всякое другое время доходила до самоуслаждения в своем неряшестве. И хотя во время совершения таинства сохраняла всегда «самый наглый вид», так что конфузила причет, но по совершении обряда шампанское непременно выносила сама (для того и являлась, и рядилась), и попробовали бы вы, взяв бокал, не положить ей «на кашу»…»
О внешности Виргинской (в момент собрания «у наших») говорится вскользь: «Арина Прохоровна, видная дама лет двадцати семи, собою недурная, несколько растрепанная, в шерстяном непраздничном платье зеленоватого оттенка, сидела, обводя смелыми очами гостей и как бы спеша проговорить своим взглядом: «видите, как я совсем ничего не боюсь».
М-me Виргинская активно участвует в диспутах «наших», а затем даже, можно сказать, непосредственно принимает участие в ключевом действе: пытаясь вместе с мужем каким-то образом избежать участия его в убийстве Шатова и не совсем веря в предательство Шатова, она охотно бежит ночью помогать внезапно объявившейся шатовской жене Marie при родах, дабы заодно разведать обстановку.
ВИРГИНСКИЙ («Бесы»), чиновник, член революционной пятерки, соучастник (наряду с Липутиным, Лямшиным, Толкаченко и Эркелем) убийства Шатова Петром Верховенским; муж Арины Прохоровны Виргинской, брат девицы Виргинской, племянник Капитона Максимовича. Поначалу он представлен как один из постоянных посетителей «вечеров» у Степана Трофимовича Верховенского: «Являлся на вечера и еще один молодой человек, некто Виргинский, здешний чиновник, имевший некоторое сходство с Шатовым, хотя по-видимому и совершенно противоположный ему во всех отношениях; но это тоже был «семьянин». Жалкий и чрезвычайно тихий молодой человек, впрочем лет уже тридцати, с значительным образованием, но больше самоучка. Он был беден, женат, служил и содержал тетку и сестру своей жены. <…> Сам Виргинский был человек редкой чистоты сердца, и редко я встречал более честный душевный огонь. «Я никогда, никогда не отстану от этих светлых надежд», – говаривал он мне с сияющими глазами. О «светлых надеждах» он говорил всегда тихо, с сладостию, полушепотом, как бы секретно. Он был довольно высокого роста, но чрезвычайно тонок и узок в плечах, с необыкновенно жиденькими, рыжеватого оттенка волосиками. Все высокомерные насмешки Степана Трофимовича над некоторыми из его мнений он принимал кротко, возражал же ему иногда очень серьезно и во многом ставил его в тупик. <…> Рассказывали про Виргинского и, к сожалению, весьма достоверно, что супруга его, не пробыв с ним и году в законном браке, вдруг объявила ему, что он отставлен и что она предпочитает Лебядкина. <…> Уверяли, что Виргинский, при объявлении ему женой отставки, сказал ей: «Друг мой, до сих пор я только любил тебя, теперь уважаю», но вряд ли в самом деле произнесено было такое древнеримское изречение; напротив, говорят, навзрыд плакал. Однажды, недели две после отставки, все они, всем «семейством», отправились за город, в рощу кушать чай вместе с знакомыми. Виргинский был как-то лихорадочно-весело настроен и участвовал в танцах; но вдруг и без всякой предварительной ссоры схватил гиганта Лебядкина, канканировавшего соло, обеими руками за волосы, нагнул и начал таскать его с визгами, криками и слезами. Гигант до того струсил, что даже не защищался и все время, как его таскали, почти не прерывал молчания; но после таски обиделся со всем пылом благородного человека. Виргинский всю ночь на коленях умолял жену о прощении; но прощения не вымолил, потому что все-таки не согласился пойти извиниться пред Лебядкиным; кроме того, был обличен в скудости убеждений и в глупости; последнее потому, что, объясняясь с женщиной, стоял на коленях…»
Впоследствии сам Виргинский стал принимать «гостей». «Виргинский жил в собственном доме, то есть в доме своей жены, в Муравьиной улице. Дом был деревянный, одноэтажный, и посторонних жильцов в нем не было…» Именно здесь, у Виргинских, состоялась сходка «наших» под видом празднования дня рождения хозяина.
В кульминационной сцене убийства Шатова Виргинский, который и до того пытался предотвратить преступление, ведет себя крайне пассивно, а затем, вслед за Лямшиным, почти впадает в истерику и все твердит-повторяет: «Это не то, не то! Нет, это совсем не то!..» Это и смягчило его участь после ареста «наших»: «Виргинский сразу и во всем повинился: он лежал больной и был в жару, когда его арестовали. Говорят, он почти обрадовался: «с сердца свалилось», проговорил он будто бы. Слышно про него, что он дает теперь показания откровенно, но с некоторым даже достоинством и не отступает ни от одной из «светлых надежд» своих, проклиная в то же время политический путь (в противоположность социальному), на который был увлечен так нечаянно и легкомысленно «вихрем сошедшихся обстоятельств». Поведение его при совершении убийства разъясняется в смягчающем для него смысле, кажется, и он тоже может рассчитывать на некоторое смягчение своей участи…»
Прототипами Виргинского в какой-то мере послужили «нечаевцы» П. Г. Успенский и А. К. Кузнецов.
ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ («Двойник»), коллежский асессор; племянник Андрея Филипповича. Именно этот блестящий молодой чиновник (ему 25 лет) – главный претендент на руку Клары Олсуфьевны Берендеевой: на балу в ее честь он смотрится уже совсем женихом, танцует с виновницей торжества, держится все время рядом с ней, вызывая ревнивую зависть униженного Якова Петровича Голядкина: «С другой стороны кресел держался Владимир Семенович, в черном фраке, с новым своим орденом в петличке…» Повествователь в преувеличенно торжественном тоне так аттестует его: «Я ничего не скажу, но молча – что будет лучше всякого красноречия – укажу вам на этого счастливого юношу, вступающего в свою двадцать шестую весну, – на Владимира Семеновича, племянника Андрея Филипповича, который встал в свою очередь с места, который провозглашает в свою очередь тост и на которого устремлены слезящиеся очи родителей царицы праздника, гордые очи Андрея Филипповича, стыдливые очи самой царицы праздника, восторженные очи гостей и даже прилично завистливые очи некоторых молодых сослуживцев этого блестящего юноши. Я не скажу ничего, хотя не могу не заметить, что все в этом юноше, – который более похож на старца, чем на юношу, говоря в выгодном для него отношении, – все, начиная с цветущих ланит до самого асессорского, на нем лежавшего чина, все это в сию торжественную минуту только что не проговаривало, что, дескать, до такой-то высокой степени может благонравие довести человека!..» В последний момент, когда бедного господина Голядкина увозили в желтый дом, ему показалось, что Владимир Семенович прослезился.
ВОРОХОВА («Братья Карамазовы»), генеральша; благодетельница-воспитательница Софьи Ивановны Карамазовой, родственница Ефима Петровича Поленова. Повествователь сообщает: «Софья Ивановна была из «сироток», безродная с детства, дочь какого-то темного дьякона, взросшая в богатом доме своей благодетельницы, воспитательницы и мучительницы, знатной генеральши старухи, вдовы генерала Ворохова. Подробностей не знаю, но слышал лишь то, что будто воспитанницу, кроткую, незлобивую и безответную, раз сняли с петли, которую она привесила на гвозде в чулане, – до того тяжело было ей переносить своенравие и вечные попреки этой, по-видимому не злой старухи, но бывшей лишь нестерпимейшею самодуркой от праздности..» Когда Софья убежала с Федором Павловичем Карамазовым, благодетельница жестоко обиделась: «О житье-бытье ее «Софьи» все восемь лет она имела из-под руки самые точные сведения, и слыша, как она больна и какие безобразия ее окружают, раза два или три произнесла вслух своим приживалкам: «Так ей и надо, это ей Бог за неблагодарность послал»…» Но после смерти воспитанницы отыскала заброшенных отцом ее сыновей Ивана и Алексея Карамазовых, сама тоже вскоре умерла, но успела отписать им в завещании по тысяче рублей, да, кроме того, как бы по наследству передала их на воспитание Ефиму Петровичу Поленову.
ВРУБЛЕВСКИЙ («Братья Карамазовы»), товарищ и «телохранитель» пана Муссяловича. Он при первой встрече в Мокром сразу поразил Дмитрия Карамазова своим высоким ростом: «Другой же пан, сидевший у стены, более молодой, чем пан на диване, смотревший на всю компанию дерзко и задорно и с молчаливым презрением слушавший общий разговор, опять-таки поразил Митю только очень высоким своим ростом, ужасно непропорциональным с паном, сидевшим на диване. «Коли встанет на ноги, будет вершков одиннадцати», – мелькнуло в голове Мити. Мелькнуло у него тоже, что этот высокий пан, вероятно, друг и приспешник пану на диване, как бы «телохранитель его», и что маленький пан с трубкой, конечно, командует паном высоким…» Митю недаром, видно, поразил рост «телохранителя» – он предполагал, что без ссоры-драки дело не обойдется. Но поляки оказались в итоге жидковаты и уступили «поле битвы»: в решающий момент Митя бросился на Врублевского, «обхватил его обеими руками, поднял на воздух и в один миг вынес его из залы». Перед этим еще и выяснилось, что пан Врублевский – карточный шулер, подменивший колоду карт. Более того, когда позже началось дознание и допросили поляков, то спесивый «пан» Врублевский «оказался вольнопрактикующим дантистом, по-русски зубным врачом».
ВУРМЕРГЕЛЬМ, барон («Игрок»), «длинный, сухой пруссак, с палкой в руке», которого Алексей Иванович оскорбил (вместе с супругой, баронессой Вурмергельм) по капризу Полины. «Барон сух, высок. Лицо, по немецкому обыкновению, кривое и в тысяче мелких морщинок; в очках; сорока пяти лет. Ноги у него начинаются чуть ли не с самой груди; это, значит, порода. Горд, как павлин. Мешковат немного. Что-то баранье в выражении лица, по-своему заменяющее глубокомыслие…».
Вероятно, прототипом спесивого барона послужил Ф. Майдель.
ВУРМЕРГЕЛЬМ, баронесса («Игрок»), супруга барона Вурмергельма. «Помню, баронесса была в шелковом необъятной окружности платье, светло-серого цвета, с оборками, в кринолине и с хвостом. Она мала собой и толстоты необычайной, с ужасно толстым и отвислым подбородком, так что совсем не видно шеи. Лицо багровое. Глаза маленькие, злые и наглые. Идет – точно всех чести удостоивает…» Игрок, оскорбив супругов Вурмергельм по капризу Полины, потом так объяснял происшествие Генералу. «Мне еще в Берлине запало в ухо беспрерывно повторяемое ко всякому слову «ja wohl» [нем. да, конечно], которое они так отвратительно протягивают. Когда я встретился с ним в аллее, мне вдруг это «ja wohl», не знаю почему, вскочило на память, ну и подействовало на меня раздражительно… Да к тому же баронесса вот уж три раза, встречаясь со мною, имеет обыкновение идти прямо на меня, как будто бы я был червяк, которого можно ногою давить. Согласитесь, я тоже могу иметь свое самолюбие. Я снял шляпу и вежливо (уверяю вас, что вежливо) сказал: «Madame, j’ai l’honneur d’Ktre votre esclave» [фр. «Мадам, честь имею быть вашим рабом»]. Когда барон обернулся и закричал «гейн!» [от нем. gehen – убирайтесь!] – меня вдруг так и подтолкнуло тоже закричать: «Ja wohl!» Я и крикнул два раза: первый раз обыкновенно, а второй – протянув изо всей силы. Вот и все…» Здесь самое знаменательное – «как будто бы я был червяк», ибо фамилия «Вурмергельм» – это по сути «червяк в квадрате»: от нем. Wurm, Wurmer – червь, глист; гр. Helmins – червь, глист. Впрочем, если и вторая половина фамилии образована от немецкого слова Helm (шлем, каска), то фамилию чванливых барона и баронессы можно перевести как «червь в шляпе».
ГАВРИЛА ИГНАТЬЕВИЧ («Село Степанчиково и его обитатели»), камердинер Егора Павловича Ростанева, бывший «дядька» Сергея Александровича. Последний, встретив впервые Гаврилу после долгой разлуки, застал его за странным занятием: «Старик был в очках и держал в руке тетрадку, которую читал с необыкновенным вниманием…» Оказалось, Фома Фомич Опискин лично «за грубость и в наказание» обучает старого слугу, «как скворца», французскому языку и строго экзаменует. В одной из сцен, не выдержав, Гаврила «бунтует»: «Нет, Фома Фомич, – с достоинством отвечал Гаврила, – не грубиянство слова мои, и не след мне, холопу, перед тобой, природным господином, грубиянить. Но всяк человек образ Божий на себе носит, образ его и подобие. Мне уже шестьдесят третий год от роду. Отец мой Пугачева-изверга помнит, а деда моего вместе с барином, Матвеем Никитичем, – дай Бог им царство небесное – Пугач на одной осине повесил, за что родитель мой от покойного барина, Афанасья Матвеича, не в пример другим был почтен: камардином служил и дворецким свою жизнь скончал. Я же, сударь, Фома Фомич, хотя и господский холоп, а такого сраму, как теперь, отродясь над собой не видывал!..» Однако ж бунт старика был не долог и он опять «с благоговением» потом смотрел на Фому, особенно после его временного изгнания. В финале повести сообщается, что «Гаврила очень постарел и совершенно разучился говорить по-французски».
ГАВРИЛКА («Записки из Мертвого дома»), арестант – «известный плут и бродяга, малый веселый и бойкий», которого «все любили за веселый и складный характер». Гаврилка пришел в острог, где уже отбывали срок Ломов и его племянник за преступление, совершенное как раз Гаврилкой, – убийство нескольких ломовских работников-киргизов. Ломов пырнул в драке Гаврилку шилом, но, как оказалось, не за это, а просто приревновал его то ли к Чекунде, то ли к Двугрошовой.
Прототип Гаврилки – Г. Евдокимов.
ГАГАНОВ Артемий Павлович («Бесы»), помещик, владелец «славного» поместья Духово с «хорошим» домом (эпитеты Петра Верховенского), отставной капитан гвардии; сын Павла Павловича Гаганова. Он специально бросил и гвардию, и Петербург, дабы отомстить Ставрогину за отца. Ставрогин, приглашая в секунданты Кириллова, поясняет суть дела: «Этого Гаганова, – начал объяснять Николай Всеволодович, – как вы знаете, я встретил месяц тому, в Петербурге, в первый раз в жизни. Мы столкнулись раза три в людях. Не знакомясь со мной и не заговаривая, он нашел-таки возможность быть очень дерзким. Я вам тогда говорил; но вот чего вы не знаете: уезжая тогда из Петербурга раньше меня, он вдруг прислал мне письмо, хотя и не такое, как это, но однако неприличное в высшей степени и уже тем странное, что в нем совсем не объяснено было повода, по которому оно писано. Я ответил ему тотчас же, тоже письмом, и совершенно откровенно высказал, что, вероятно, он на меня сердится за происшествие с его отцом, четыре года назад, здесь в клубе, и что я с моей стороны готов принести ему всевозможные извинения, на том основании, что поступок мой был неумышленный и произошел в болезни. Я просил его взять мои извинения в соображение. Он не ответил и уехал; но вот теперь я застаю его здесь уже совсем в бешенстве. Мне передали несколько публичных отзывов его обо мне, совершенно ругательных и с удивительными обвинениями. Наконец сегодня приходит это письмо, какого верно никто никогда не получал, с ругательствами и с выражениями «ваша битая рожа». Я пришел, надеясь, что вы не откажетесь в секунданты…»
На дуэли, превратившейся, благодаря хладнокровию Ставрогина и его нежеланию стрелять в противника, почти в фарс, в пародию на поединок из лермонтовского «Героя нашего времени», Гаганов-младший ведет себя очень достойно, но бешенство мешает ему в полной мере насладиться мщением – он стреляет трижды и мажет: еще бы, ведь он еще перед началом «вышел из своего шарабана весь желтый от злости и почувствовал, что у него дрожат руки».
Характерно, что с Артемием Павловичем коротко сошелся Петр Верховенский и всласть пользовался его гостеприимством.
ГАГАНОВ Павел Павлович («Бесы»), помещик; отец Артемия Павловича Гаганова. Персонаж этот интересен тем, что попал однажды в неприятную историю, показавшую Николая Всеволодовича Ставрогина со странной стороны: «Один из почтеннейших старшин нашего клуба, Павел Павлович Гаганов, человек пожилой и даже заслуженный, взял невинную привычку ко всякому слову с азартом приговаривать: «Нет-с, меня не проведут за нос!» Оно и пусть бы. Но однажды в клубе, когда он, по какому-то горячему поводу, проговорил этот афоризм собравшейся около него кучке клубных посетителей (и все людей не последних), Николай Всеволодович, стоявший в стороне один и к которому никто и не обращался, вдруг подошел к Павлу Павловичу, неожиданно, но крепко ухватил его за нос двумя пальцами и успел протянуть за собою по зале два-три шага. Злобы он не мог иметь никакой на господина Гаганова…» Ставрогин сразу же небрежно извинился, чем только усилил оскорбление, сатисфакцию за которое потребовал от него через четыре года, уже после смерти Павла Павловича, его сын – Артемий Павлович.
ГАЗИН (Газин Фейдулла) («Записки из Мертвого дома», «Мужик Марей»), арестант, один из самых страшных острожных типов. «Этот Газин был ужасное существо. Он производил на всех страшное, мучительное впечатление. Мне всегда казалось, что ничего не могло быть свирепее, чудовищнее его. Я видел в Тобольске знаменитого своими злодеяниями разбойника Каменева; видел потом Соколова, подсудимого арестанта, из беглых солдат, страшного убийцу. Но ни один из них не производил на меня такого отвратительного впечатления, как Газин. Мне иногда представлялось, что я вижу перед собой огромного, исполинского паука, с человека величиною. Он был татарин; ужасно силен, сильнее всех в остроге; росту выше среднего, сложения геркулесовского, с безобразной, непропорционально огромной головой; ходил сутуловато, смотрел исподлобья. В остроге носились об нем странные слухи: знали, что он был из военных; но арестанты толковали меж собой, не знаю, правда ли, что он беглый из Нерчинска; в Сибирь сослан был уже не раз, бегал не раз, переменял имя и наконец-то попал в наш острог, в особое отделение. Рассказывали тоже про него, что он любил прежде резать маленьких детей, единственно из удовольствия: заведет ребенка куда-нибудь в удобное место; сначала напугает его, измучает и, уже вполне насладившись ужасом и трепетом бедной маленькой жертвы, зарежет ее тихо, медленно, с наслаждением. Все это, может быть, и выдумывали, вследствие тяжелого впечатления, которое производил собою на всех Газин, но все эти выдумки как-то шли к нему, были к лицу. А между тем в остроге он вел себя, не пьяный, в обыкновенное время очень благоразумно. Был всегда тих, ни с кем никогда не ссорился и избегал ссор, но как будто от презрения к другим, как будто считая себя выше всех остальных; говорил очень мало и был как-то преднамеренно несообщителен. Все движения его были медленные, спокойные, самоуверенные. По глазам его было видно, что он очень неглуп и чрезвычайно хитер; но что-то высокомерно-насмешливое и жестокое было всегда в лице его и в улыбке. Он торговал вином и был в остроге одним из самых зажиточных целовальников. Но в год раза два ему приходилось напиваться самому пьяным, и вот тут-то высказывалось все зверство его натуры. Хмелея постепенно, он сначала начинал задирать людей насмешками, самыми злыми, рассчитанными и как будто давно заготовленными; наконец, охмелев совершенно, он приходил в страшную ярость, схватывал нож и бросался на людей. Арестанты, зная его ужасную силу, разбегались от него и прятались; он бросался на всякого встречного. Но скоро нашли способ справляться с ним. Человек десять из его казармы бросались вдруг на него все разом и начинали бить. Невозможно представить себе ничего жесточе этого битья: его били в грудь, под сердце, под ложечку, в живот; били много и долго и переставали только тогда, когда он терял все свои чувства и становился как мертвый. Другого бы не решились так бить: так бить – значило убить, но только не Газина. После битья его, совершенно бесчувственного, завертывали в полушубок и относили на нары. «Отлежится, мол!» И действительно, наутро он вставал почти здоровый и молча и угрюмо выходил на работу. И каждый раз, когда Газин напивался пьян, в остроге все уже знали, что день кончится для него непременно побоями. Да и сам он знал это и все-таки напивался. Так шло несколько лет. Наконец, заметили, что и Газин начинает поддаваться. Он стал жаловаться на разные боли, стал заметно хиреть; все чаще и чаще ходил в госпиталь… «Поддался-таки!» – говорили про себя арестанты…»