II. Модники былых времен
Расскажем для начала о модниках мужского пола, красавцах и баловнях судьбы. Их было немало в истории. Что объединяло их при всех различиях – страсть к моде… характер… или нечто большее, какое-то неуловимое сочетание качеств?
Алкивиад: протоденди
Знаменитый герой древности Алкивиад[33] – один из первых модников в истории. Афинский полководец, прославленный любовник, он служил моделью счастливого единства различных добродетелей. Байрон веско заметил: «И все же несомненно, что из всех имен античности ни одно не окружено таким обаянием, как имя Алкивиада»[34]. Бодлер включил его в свой перечень предшественников дендизма – «Цезарь, Катилина, Алкивиад…». Друг Бодлера Арсен Уссе видел в Алкивиаде греческого Дон Жуана, проводившего вечера в оргиях.
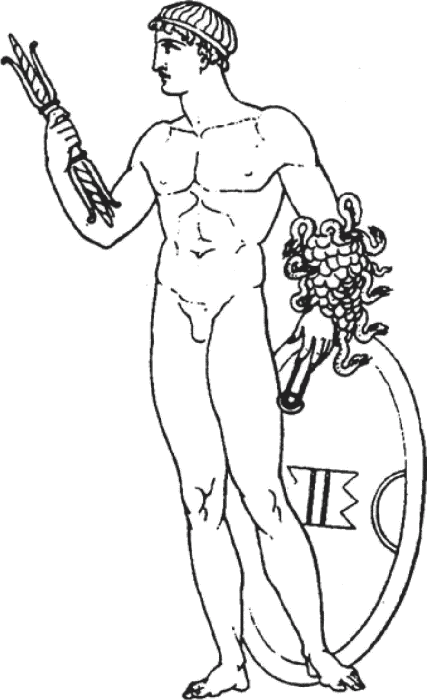
Юпитер. Рисунок Т.Хоупа. 1812 г.
Плутарх рассказывает, что Алкивиад отличался редкой красотой, причем «она оставалась цветущей и в детстве, и в юношестве, и в зрелом возрасте, словом – всю его жизнь, делая его любимым и приятным для всех»[35]. Красота и обаяние Алкивиада действовали на всех магически, и он умело пользовался своим преимуществом, покоряя как мужчин, так и женщин. Его имя стало символом андрогинной красоты, и много столетий спустя миф об Алкивиаде как о дивном универсальном любовнике не утратил своей силы. Оттого писатель-романтик XIX века Барбе д’Оревильи мог позволить себе завершить свой трактат «О дендизме и Джордже Браммелле» многозначительной фразой о денди: «Это натуры двойственные и многоликие, неопределенного духовного пола, грация которых еще более проявляется в силе, а сила опять-таки в грации; это андрогины, двуполые существа; но уже не из Сказки, а из Истории, и Алкивиад был лучшим их представителем у прекраснейшего в мире народа»[36].
Современники, однако, как это нередко бывает, не были склонны видеть в Алкивиаде воплощение всех земных совершенств и порой упрекали его в излишней женственности, в экстравагантности и в пристрастии к роскоши. Он, например, пользовался для своих трапез золотой и серебряной посудой, принадлежащей городу, демонстративно выбирал себе лучших наложниц. И все же его любили, даже у врагов он пользовался уважением, а простой народ желал сделать его единовластным правителем-тираном, презрев хваленую афинскую демократию.
Хотя он немного картавил, считалось, «что даже это ему шло, придавая его речи убедительность и грацию»[37]. Если недостаток превращается в достоинство – это сигнал, что перед нами сильная харизматическая личность; и действительно, во всех историях об Алкивиаде проглядывает прежде всего незаурядная натура, основной страстью которой Плутарх считает честолюбие и стремление к первенству. Мальчиком он был готов рискнуть жизнью, только чтобы настоять на своем: когда возница хотел проехать по той части улицы, где он с приятелями играл в кости, Алкивиад «бросился лицом вниз на землю перед повозкой и велел вознице ехать, если он хочет. Тот, испугавшись, осадил лошадей…»[38]. Вкус к победе – будь то военное сражение или риторический поединок, политическая интрига или конные соревнования (колесницы Алкивиада не раз выигрывали на Олимпийских играх) – по этому алгоритму строилась вся его жизнь. Но, гонясь за успехом, он отнюдь не подчинял свои действия жестким нормам общественного поведения. Наоборот, Алкивиад не раз нарушал их, оскорбляя именитых граждан, пародируя религиозные культы (даже священнейшие для греков Элевсинские мистерии), и все это до поры до времени сходило ему с рук. Но больше всего пищу молве давали модные привычки любимца публики: «Алкивиад вел роскошную жизнь, злоупотреблял напитками и любовными похождениями, носил, точно женщина, пурпурные одеяния, волоча их по рыночной площади, и щеголял своей расточительностью; он вырезывал части палубы на триерах, чтобы было спать мягче, т. е. чтобы постель его висела на ремнях, а не лежала на палубных досках»[39].
Зная, что каждый его шаг становится предметом для пересудов, Алкивиад умел без труда манипулировать мнением толпы. Самыйяркий пример – как он отрубил хвост своей красивой собаке, за которую заплатил немалые деньги, и с улыбкой заметил: «Мне хотелось, чтобы афиняне болтали об этом и не говорили обо мне чего-нибудь худшего»[40]. Говоря языком нашей эпохи, можно сказать, что Алкивиад успешно конструировал собственный имидж, но дело не только в этом. Он знал цену своему имиджу, своему имени и своей репутации. В характере Алкивиада проскальзывает подозрительно современная черта – умение извлекать экономическую выгоду из символических ценностей, манипулировать престижностью в своих интересах.
Очень показательна такая история. Один метэк[41], желая завоевать расположение Алкивиада, продал все свое имущество и предложил ему вырученные деньги. Фактически это был знак, что он признает Алкивиада своим покровителем. Алкивиад «улыбнулся и довольный пригласил его к ужину. Угостив и радушно приняв его, он вернул деньги»[42], после чего решил ответить жестом на жест, продемонстрировав своему протеже, как можно заработать, имея такого покровителя. Он подвиг его на финансовую аферу и выступил его поручителем, что было необычно по отношению к лишенному гражданских прав чужеземцу. «Приведенный в замешательство метэк уже отступал, когда Алкивиад крикнул архонтам издалека: “Пишите мое имя, это мой друг, я его поручитель”»[43]. Хотя метэк испугался задуманной спекуляции (практически речь шла об искусственном повышении цен при сделках на афинских публичных торгах – прообразе современной биржи), Алкивиад заставил его рискнуть, после чего тот получил существенную прибыль (вдобавок к первоначальной сумме, возвращенной Алкивиадом). Таким образом афинянин элегантно показывает своему подопечному, что можно сделать, имея гарантией имя Алкивиада, и приобщает его к искусству делать деньги «из воздуха». Сам Алкивиад, несомненно, четко осознавал, что символический капитал ничуть не менее важен, чем экономический, а при случае они взаимообратимы.
Существуют аналогичные истории о знаменитых денди XIX века. Позднее мы расскажем, как граф д’Орсе, чье имя было синонимом тонкого вкуса и престижа, пользуясь собственной репутацией, обеспечил обширную клиентуру торговцу спичками. Подобные рекламные акции не раз осуществлял и основоположник дендизма Джордж Браммелл.
Но вернемся к образу Алкивиада в исторических и литературных источниках. В диалоге Платона «Пир» Алкивиад выступает одним из собеседников и произносит пылкую речь – панегирик Сократу. Интересно, что у Платона он появляется «в каком-то пышном венке из плюща и фиалок и с великим множеством лент на голове»[44]. Первая реплика Алкивиада – как раз по поводу этих лент: «Я пришел, и на голове у меня ленты, но я сейчас их сниму и украшу голову самого… мудрого и красивого»[45]. Далее Алкивиад наделяет ими своего друга Агафона, а затем, заметив Сократа, передает часть лент ему, то есть выступает как арбитр, присуждающий приз и поощряющий (здесь-то как раз и кроется философская интрига) не только красоту, но и мудрость. Его речь, собственно, и посвящена обоснованию этого двойного стандарта, и он восхваляет Сократа, сравнивая его с полым изваянием уродливого силена, внутри которого скрыта статуя бога.
Платон особо останавливается на довольно необычном для застольной беседы эпизоде. Алкивиад подробно рассказывает присутствующим, как Сократ отверг его любовные притязания: «Он одержал верх, пренебрег цветущей моей красотой, посмеялся над ней… Проспав с Сократом всю ночь, я встал точно таким же, как если бы спал с отцом или старшим братом»[46]. Для того чтобы с полным самообладанием и для забавы присутствующих рассказать о собственном фиаско, надо обладать поразительной уверенностью в себе и умением любое происшествие обращать себе на пользу. Подобными качествами впоследствии будут блистать многие денди XIX столетия. Герой Бульвера-Литтона Пелэм, дабы завоевать репутацию незаурядного человека, первый раз появляясь в парижском салоне, в деталях повествует о том, как он свалился в канаву и, стоя по пояс в грязи, вопил о помощи. Как и Алкивиад, он рискует, идет ва-банк и выигрывает – на него сразу обращают внимание.
В поведении Алкивиада на пиру есть еще один нюанс: он приходит навеселе и тотчас ставит вопрос ребром: «Э, друзья, да вы, кажется, трезвы. Это не годится, надо пить, такой уж у нас уговор. Пока вы как следует не напьетесь, распорядителем пира буду я»[47]. Эта роль тоже типична для денди: «распорядитель пира», присутствие которого необходимо для общего тонуса, остроты беседы, гастрономического удовольствия. Эффект достигается не столько за счет горячительных напитков, сколько за счет личности «распорядителя пира» – его чувственной энергии, катализирующей остальных участников.
Для европейцев последующих веков из всех греческих героев именно Алкивиад служил образцом светского и галантного человека. Особо выделяли его способность без усилий менять внешность и манеры и оставаться исключительным при любых обстоятельствах. Эти свойства делали его желанным гостем как среди образованных мужчин, так и среди самых красивых женщин своего времени. Плутарх особо отмечал, что «Алкивиад… мог подражать в равной мере как хорошим, так и плохим обычаям. Так, в Спарте он занимался гимнастикой, был прост и серьезен, в Ионии – изнежен, предан удовольствиям и легкомыслию, во Фракии – пьянствовал и занимался верховой ездой; при дворе сатрапа Тиссаферна – превосходил своей пышностью и расточительностью даже персидскую роскошь»[48].
В этом месте у Плутарха дан еще один очень интересный попутный комментарий: «Наряду с прочими дарованиями он обладал величайшим искусством пленять людей, применяясь к их привычкам иобразу жизни, чтобы стать похожим на них; в искусстве менять свой облик он превосходил даже хамелеона, который, по общепринятому мнению, не может принять только одного цвета – белого… Дело обстояло, однако, не так, чтобы он легко переходил от одной склонности к другой, меняясь при этом и внутренне, но, не желая оскорблять своим природным обликом тех, с кем ему приходилось иметь дело, он принимал облик, подобный им, скрываясь под этой маской»[49].
По сути, речь идет об универсальной общежительности модника, о его метаморфности, способности менять маски по собственному усмотрению. Это «хамелеонство» чрезвычайно важно: порой оно может восприниматься как деликатность и светская предусмотрительность, а порой – как бесхарактерность, беспринципность или даже самый изощренный цинизм, о чем у нас еще будет случай подумать на других примерах.
Позднее, уже в Новое время, денди именно из-за этой самой черты всегда будут подозревать в неискренности, появятся метафоры вечной игры, вечного лицедейства; но пока Плутарх великодушно оправдывает своего героя, объясняя все его галантностью.
Отметим также еще одну «тотемическую» черту Алкивиада, которая, как нам кажется, отразилась в его последователях-денди. Алкивиада часто сравнивали с львом. Началось все с того, что один раз в схватке, чувствуя, что противник его одолевает, Алкивиад укусил его и в ответ на упрек, что он кусается, как женщина, возразил: «Вовсе нет, как львы»[50]. Образ льва закрепился за ним как эмблема силы и благородства, что к тому же подкреплялось изяществом его телесной пластики. На «львиность» также ссылались, когда имели в виду его властное своеволие:
К чему было в Афинах льва воспитывать? А вырос он – так угождать по норову[51].
Вероятно, не случайно слово «лев» стало синонимом светского «щеголя» в Европе XIX века, во многом обгоняя по популярности термин «денди».
Итак, мы видим, что образ Алкивиада как мужчины-модника, предшественника денди, содержит вполне определенный пучок свойств:
– «распорядитель пира» и желанный гость повсюду;
– человек с огромной уверенностью в себе, намеренно идущий на риск, создающий ситуации на грани фола и, вероятно, получающий от этого особое наслаждение;
– тотемический лев;
– «арбитр элегантности», судья красоты, с чьими вердиктами не спорят, даже если они кому-либо обидны;
– «хамелеон», умеющий меняться в зависимости от обстоятельств, общаться в разных стилях.
– андрогин, персонаж «неопределенного духовного пола».
Все эти черты будут в дальнейшем преломляться в образе денди, но важно заметить, что они всегда выступают в связке, как комбинация свойств.

Мужчины-модники: исторические типы
Человек, чье единственное ремесло – быть элегантным, во все времена резко выделяется среди других.
Главное отличие модника – приоритетное внимание к собственной внешности и одежде. Красоту облика он ценит больше комфорта, что в принципе для мужчин достаточно необычно. Соблазн моды оказывался неодолимым даже для интеллектуалов: классик итальянской поэзии Франческо Петрарка в молодости являл собой тип «fashion victim» – жертвы, или даже мученика моды. «Ты помнишь, – пишет он брату в 1349 году о днях юности, – что это была за мания одевания и переодевания, ежеутренне и ежевечерне повторявшийся труд; что это был за страх, как бы прядка волос не выбилась из приданной ей формы, как бы порыв ветерка не спутал прилизанные и причесанные кудри; что это было за шараханье от встречных и настигающих четвероногих, чтобы случайные брызги не попали на чистую и надушенную тогу, чтобы не утратила она от толчков оттиснутые на ней складки…
Что скажу о сапогах? По видимости защищая ноги, какой частой и непрестанной они теснили их войной! Мои, честно сказать, они вовсе бы вывели из употребления, не решись я под давлением крайней необходимости лучше оскорбить немножечко чужие взоры, чем терзать собственные жилы и суставы.

К.Верне. Инкройябль. 1797 г.
А щипцы для завивки и заботы о прическе? Сколько раз боль прерывала наш сон, и без того отложенный ради этих трудов! Какая пиратская пытка мучила бы нас жесточе, чем мы себя мучили собственными руками? Сколько раз, глядя поутру в зеркало, мы видели ночные рубцы на воспламененном лбу и, собравшись блеснуть волосами, вынуждены были теперь прятать лицо! Не говоря уж об этих мелочах, сколько трудов, сколько бессонных ночей мы с тобой положили на то, чтобы безумие наше стало широко известно и мы сделались бы притчей во языцех для многих людей!»[52] Петрарка здесь вспоминает о грехе юношеского тщеславия, но описание «слабостей» певца Лауры и автора поздней проникновенной «Книги о презрении к миру» столь заразительно, что наверняка вызовет симпатию у современного неравнодушного читателя.
В Англии мужчины-модники обратили на себя внимание в эпоху Реставрации. После возвращения Карла II[53] из Франции пуританские обычаи при дворе смягчились и воцарилась весьма вольная атмосфера, благоприятствующая расцвету моды и свободе нравов. Именно в XVII веке сформировался особый тип щеголя – красавца (Beau)[54]. При дворе блистали «красавцы» Джон Рочестер, Джордж Хьюитт, Роберт Филдинг. Они не только отличались изысканными нарядами, но и преуспевали в светской жизни и в политических интригах. «Грация вступила в Англию при реставрации Карла II под руку с распущенностью»[55], – писал Барбе д’Оревильи, имея в виду влияние либертинов. «Придворные Карла II, испив в бокалах с французским шампанским сок лотоса, даровавший им забвение мрачных религиозных обычаев родины»[56], заложили традицию английского щегольства.
Красавец Нэш: батский щеголь
В XVIII веке самым знаменитым «красавцем» в Англии слыл Ричард Нэш (1674–1761). Ареной его деятельности был курортный городок Бат, славившийся своими горячими источниками. Нэш приехал в Бат в 1705 году, и в первые же дни ему улыбнулась фортуна: он сразу выиграл в карты крупную сумму и решил остаться на сезон, устроившись в качестве помощника тамошнего распорядителя балов. Нэш и раньше был известен своими талантами в сфере общественных увеселений: в юности он столь удачно организовал карнавал в честь короля Вильгельма III, что монарх хотел пожаловать его в рыцари. Но Нэш был вынужден отказаться от предложенной чести, поскольку неминуемые финансовые расходы, связанные с титулом, были для него в тот момент непосильны.
Вскоре элегантность и знание светской жизни сделали Нэша любимцем курортной публики, и он получил место «мастера церемоний». В этой должности он сразу принялся за реформы. Щеголь поставил перед собой задачу превратить маленький провинциальный городок в модное место. Прежде всего Нэш решил способствовать «смягчению нравов» батской публики. Он издал ряд постановлений, регулирующих поведение и костюм на курорте. Во-первых, он запретил аристократам ношение шпаг – от этого в городе резко уменьшилось количество дуэлей. Но благодаря указу против забияк неожиданно выиграли и дамы: ведь болтающиеся на поясе клинки нередко рвали женские платья во время танцев. В то время на курорте было немало зажиточных сельских джентльменов, которые повсюду ходили в тяжелых сапогах, а их жены на танцах появлялись в белых фартуках. Нэш развернул целуюкампанию против сапог и фартуков и даже устроил специальное представление кукольного театра, где неотесанный Панч заваливался спать, не снимая сапог. Сатира возымела действие, и на балы публика стала наряжаться более цивильно. Последней мерой мастера церемоний стал запрет на ругательства в общественных местах. Новые правила поведения были развешаны повсюду и не замедлили сказаться на внешнем облике и манерах горожан.
В результате реформ образовалось пространство новой вежливости и общежительности: снизилось число конфликтов, самые явные знаки социальных различий в костюме были устранены – заезжие аристократы и сельские жители теперь уже не столь разительно отличались друг от друга. Сословные различия, разумеется, никто не отменял, но на время пребывания на курорте они как будто в известной степени нивелировались: люди легче знакомились, вокруг царила атмосфера праздника и развлечений.

Ричард Нэш
Нэш как мог поддерживал этот новый дух курортной общежительности не только официальными распоряжениями, но и неформальными методами: он умело гасил в зародыше споры, возникающие за карточным столом, тактично останавливал чересчур азартных игроков, удерживая их от неминуемых проигрышей, и даже успевал следить за развитием любовных романов среди отдыхающих – словом, вникал во все тайные пружины батских интриг. Он неизменно помогал бедным (вероятно, памятуя о своей безденежной юности), собирал деньги по подписке для неимущих и с редким искусством раздобывал фонды на благотворительные проекты: его самым крупным достижением было строительство больницы для бедняков.
При всей этой бурной общественной деятельности он не упускал возможность и самому сесть за карточный стол или повеселиться на балу. Нэш неизменно привлекал внимание изяществом своего костюма: он носил пышный черный парик и кремовую треуголку, лихо заломленную набок, богато расшитый коричневый сюртук и белую сорочку с кружевным жабо. Мастер церемоний разъезжал по городу в запряженной шестерней карете, а лакей на запятках оповещал о его приближении звуком французского рожка. Элегантность «красавца» служила камертоном соревнования для батских щеголей.
Благодаря Нэшу Бат довольно быстро стал модным курортом, сюда каждый сезон съезжались не только англичане, но и иностранцы. День начинался с купания в бассейне со знаменитыми горячими водами. Дамы заходили в него в закрытых купальных костюмах, с париками на голове, а к руке у них была привязана ленточкой небольшая деревянная подставка, на которой лежали носовой платок, табакерка или цветок.
Описания подобных костюмов можно найти в романе Смоллетта: «Под самыми окнами галереи минеральных вод находится Королевский бассейн – громадный водоем, где вы можете наблюдать больных, погруженных по самую шею в горячую воду. На леди надеты коричневые полотняные кофты и юбки и плетеные шляпы, в которые они прячут носовой платок, чтобы утирать пот с лица…»[57] Эти водные процедуры прописывались в лечебных целях, но можно представить себе, насколько утомительно было купаться в таких одеяниях. После обеда прогуливались, вечером шли на бал или с визитами.
Приезжие обычно снимали комнаты у местных жителей, и здесь Нэш также навел порядок: установил систему тарифов на жилье, существенно снизив цены за неудобные помещения. Его стараниями было построено новое красивое здание Ассамблеи, а улицы каждый день тщательно подметались. Не обошел вниманием мастер церемоний и культурную жизнь Бата: пригласил из Лондона хороших музыкантов, которые играли не только на балах, но и каждый день у бассейна. Даниэль Дефо, посетив Бат, заметил: «Нэш – распорядитель удовольствий повсюду в городе. Его очень почитают, а его приказам подчиняются с наслаждением, поскольку его меры по украшению и порядку в городе снискали ему величайшее уважение».
Когда Нэш оставил свой пост, он жил достаточно скромно, а в старости за ним ухаживала одна дама, его бывшая возлюбленная. Его последователи продолжили его курортные реформы, в Бате продолжали строить красивые здания в палладианском стиле по проекту архитектора Джона Вуда.
На примере Нэша мы видим удивительно удачный образчик деятельности щеголя в качестве профессионального администратора, фактически мэра города. Моднику удалось сделать модным целый город, привлечь туда разборчивую столичную публику. Провести сезон в Бате стало престижным. Щеголь выступил как тонкий знаток нравов – корректируя этикет, он изменил всю атмосферу в городе. Начав с реформы костюма, Нэш создал в Бате новое пространство – престижное, праздничное, светское и в то же время вполне демократичное, отчасти нивелирующее социальные различия. Преобразования «арбитра элегантности» имели далеко идущие последствия. Фактически он предвосхитил в Бате модель городской буржуазной социальности XIX века, открывающую большие возможности для способных людей незнатного происхождения. Этот вектор общежительности впоследствии оказался очень существенным для развития европейского дендизма.
«Нет сомнения, щеголи еще не денди, а лишь их предшественники. Дендизм уже скрывается под этой маской, но пока еще не открывает лица»[58], – обобщал Барбе д’Оревильи.
Макарони
На протяжении XVIII века традиция щегольской культуры в Англии породила еще один модный тип – макарони. «Макарони» («macaroni») – английские франты 1760–1770-х годов, в правление Георга III. Стиль макарони возник изначально среди молодых лондонских аристократов, но затем распространился среди щеголей среднего сословия в Йорке и в Бате. Макарони подражали итальянским[59] и французским стилям: отсюда и их прозвище (на манер современного «макаронники»). Как и во времена Карла II, новый всплеск мужской моды возник благодаря взаимодействию с романской модой, более цветистой и прихотливой, чем сдержанная британская одежда.

Возвращение из заграничной поездки: «Боже мой! Неужели это мой сын Том?» Том одет по моде макарони
Английские сторонники итальянской моды в XVIII веке увлекались пастельными тонами в одежде и смело сочетали разные типы орнамента. Они также стали использовать для повседневных выходов такие атрибуты придворного костюма, как шпаги у пояса, высокие надушенные парики, открытые жилеты и перчатки с отворотами, красные каблуки[60]. Все это скандализировало городскую публику, непривычную к подобной экстравагантности в общественных местах. Среди макарони было немало знатных людей – лорд Скарборо, лорд Эффингем; в Австрии этим стилем увлекался князь Кауниц.
Макарони нередко упрекали в утрированной женственности облика за их пристрастие к помадам, румянам, мушкам и зубочисткам – последняя деталь была исключена из джентльменского обихода вплоть до начала XIX века. Макарони также отличались манерным и претенциозным поведением, среди них было немало геев.
Современники-традиционалисты, наблюдая за их стилем и поведением, оставили нам дотошные описания макарони, проникнутые духом неприязненного любопытства: «Они и впрямь представляют из себя смехотворное зрелище! Представьте себе шляпу с полями величиной в дюйм, которая не покрывает голову, а еле держится на макушке; два фунта фальшивых волос, забранных сзади в длинный “пучок” (“club”), свисающий по плечам, белый, как мешок булочника[61]. Полы фрака спускаются до первой пуговицы штанов, а сами укороченные штаны (“breeches”) – или коричневые в полоску, или белые широкие, как у голландцев. Рукава фрака так узки, что руки с трудом проходят в них, а манжеты шириной около дюйма. Рукава рубашки без складок, отделаны кружевом “тролли”[62]. Чулки на ногах могут быть самых немыслимых оттенков радуги, не исключая телесного цвета или чулок зеленого шелка. Туфли – небольшие лодочки, а пряжки – на расстоянии дюйма от носка. Увидев такого модника, надушенного и напомаженного, с пышным кружевным жабо под подбородком, обычный прохожий порой затрудняется определить его пол. Бывало, ничего не подозревающий уличный носильщик говорил “Проходите, мадам”, не желая при этом никого обидеть»[63]. Как видим, макарони, акцентируя андрогинный элемент в своих нарядах, вполне успели зарекомендовать себя как «жертвы моды». Неудивительно, что они стали героями множества карикатур и литературных пародий[64]. Стиль макарони упоминается даже в детской песенке «Янки Дудль», которая стала американским национальным гимном:
Макарони были последними представителями старой шегольской культуры в Англии. Их женственный и пышный стиль на следующем витке развития моды требовал антитезиса – сурового мужского пуризма. Этот антитезис смогли обеспечить британские денди на рубеже XVIII–XIX веков. Но прежде, чем подробно говорить о них, посмотрим, что происходило во Франции.
Модники эпохи Великой французской революции
В 1790-е годы на улицах Парижа появились странные модники. Они настолько выделялись из толпы, что их прозвали «невероятными» («les incroyables»). «Невероятные» носили узкие бутылочно-зеленые или коричневые сюртуки с огромными лацканами и высоченными воротниками, шейный платок нередко закрывал подбородок. Под сюртук поддевался короткий жилет, а то и сразу два – один под другой. Панталоны в начале десятилетия были облегающими, а затем в моду вошли довольно широкие, с завышенной, вплоть до подмышек, талией. На поясе болтались гигантские монокли и лорнеты. Прическа «собачьи уши» («oreilles de chien») отличалась нарочитой растрепанностью, причем сзади волосы коротко стригли, а по бокам, напротив, отпускали. Наряд завершала шляпа-двууголка, которую часто держали в руке или под мышкой.
Экстравагантный костюм «невероятных» намекал на их роялистские взгляды. Зеленые сюртуки были нарочитым подражанием младшему брату короля – графу д’Артуа, а черный воротник символизировал траур по казненному королю Людовику XVI. Ближайшие предшественники «невероятных» получили прозвище «мюскадены», так как они любили душиться мускусом, который был в моде при дворе до революционных потрясений. Хотя общее количество щеголей было невелико – от двух до трех тысяч, после 9 Термидора Конвент вполне мог положиться на их лояльность и даже рассчитывать на них в качестве защиты. Как видно, консервативные настроения после якобинского террора нашли непосредственное выражение в уличной моде[66].

Три игрока за карточным столом. Увеличенные лацканы – характерная черта костюма инкройяблей. 1798 г.
«Мюскадены» и «невероятные» представляли сословие «золотой молодежи» («Jeunesse Dorée») – многие из них происходили из среднего класса или из семей разбогатевших буржуа. В эпоху Директории они не скрывали своих монархических симпатий и открыто противостояли якобинцам. Завидев красный фригийский колпак санкюлота, они нередко начинали уличную драку, главным оружием в которой им служила мощная суковатая палка.
Подруги «невероятных» звались «изумительными» («les merveilleuses»). Они предпочитали «нагую моду» – полупрозрачные туники в античном стиле[67]. Нарочитый эротизм их нарядов эпатировал публику, впрочем, отвечая давно подмеченной историками костюма закономерности: женская мода становится более вызывающей и сексуальной после больших исторических потрясений, когда необходимо восполнить людские потери за счет повышения рождаемости.
«Невероятные» и «изумительные» веселились на «балах жертв», куда допускались только родственники казненных во время террора. Мужчины приходили с короткими стрижками à la Titus, а женщины собирали волосы наверх в стиле à la victime, имитируя прическу приговоренных к гильотине. Дамы даже повязывали на шею узкую красную ленточку, а во время танцев отчаянно мотали головой во все стороны, как будто голова вот-вот скатится с плеч, – разыгрывался коллективный перформанс на тему смертной казни.
Чтобы еще более подчеркнуть свое отличие от окружающих, модники изобрели особую манеру произносить слова – они картавили, не выговаривая звук «р». Одни историки костюма связывают это арго с подражанием английскому произношению, другие указывают на выговор популярного певца Гара, но стоит отметить, что эти щеголи уже не ограничивались оригинальностью костюма, а чувствовали потребность создать свое тайное наречие, которое объединяло бы их, позволяя знаково отделиться от чужих. Впоследствии многие денди будут прибегать к этому приему – акцентировать те или иные особенности выговора, нарочно заикаться или даже имитировать лицевой тик. Семиотическая зона моды в этот момент требовала расширения, захватывая и речь, и жесты, и тело.
К концу XVIII века мода уже стала важным культурным институтом европейского города – началось издание первых модных журналов, заметно ускорились ритмы новых тенденций. Между Англией и Францией все время шел обмен культурной информацией по моде. Подобно тому как на Британию периодически накатывали волны континентальной моды (чему пример – макарони), так и во Франции в зависимости от политической обстановки наступали эпохи «англомании». Носителями британской моды выступали путешественники, странствующие торговцы и аристократия. Два самых явных пика англомании пришлись на 1763–1769 (после окончания Семилетней войны) и 1784–1789 годы.
В основном влияние британской моды выражалось в упрощении мужского платья, во временном преобладании удобных и практичных фасонов. «Англичане одеваются просто, – замечал путешественник Сезар де Соссюр в 1760 году, – у них редко увидишь отделку золотой тесьмой или галунами; они предпочитают укороченные сюртуки, которые они называют “фраками”, – без заложенных складок, без воротника и украшений. Они носят маленькие парики, в руке – трость вместо шпаги; шерстяные и льняные ткани – высочайшего качества. Подобный наряд можно увидеть и на зажиточных торговцах, и на богатых джентльменах, и на знатных лордах…»[68] Склонность к сдержанному стилю, выступающая как императив хорошего вкуса, присутствовала в английской традиции со времен Возрождения. Еще у Шекспира можно встретить наставления в этом духе[69]:
Шей платье по возможности дороже,
Но без затей – богато, но не броско[70].
Этот типично английский простой и универсальный стиль окончательно одержал победу в мужской моде к концу XVIII века. Но для закрепления его в качестве базовой модели мужского костюма требовалась благоприятная историческая ситуация. Появление на арене денди было событием большего масштаба, нежели просто пришествие еще одного типа мужчины-модника. Дендизм знаменовал смену крупных культурных парадигм, утверждение новых моделей телесности и новых стереотипов поведения.
Дендизм и романтизм
Известно, что дендизм – специфически английский феномен. Но почему именно в Британии на рубеже XVIII–XIX веков утверждается тип денди? Изначально дендизм возникает как особая модификация английских традиций щегольства и джентльменства, а с 1820-х годов становится общеевропейской модой, сохраняя, впрочем, исходный набор таких национальных черт, как сдержанный минималистский стиль в одежде, спортивность, клубная культура, джентльменский кодекс поведения.
Появлению на светской арене нового типа мужчины-модника в значительной мере способствовала высокая репутация Лондона как столицы роскоши. Счастливо избегнув революционных и военных потрясений, Лондон на рубеже XVIII–XIX веков уверенно обгоняет Париж по части моды. Именно в это время происходит расцвет портновского ремесла: непревзойденной репутацией пользуются Швейцер и Дэвидсон, а также Вестон и Мейер, позднее лидером становится Стульц. Самый модный район в Лондоне – Вест-Энд. Здесь сосредоточены основные дендистские маршруты: на Сэвил Роу расположены портновские мастерские; на Бонд-стрит – продавцы чулок, духов и галантереи, на Сент-Джеймс-стрит – знаменитые клубы, а также винные и табачные магазины[71]. Берлингтонская аркада, находящаяся в центре Вест-Энда, всегда являлась излюбленным местом прогулок лондонских денди.
Полная панорама городских развлечений была представлена широкой публике в 1821 году, когда вышла известная книжка Пирса Эгана «Жизнь в Лондоне»[72]. Три приятеля – Том, Джерри и Боб Лоджик – посещают все интересные места Лондона и исследуют на личном опыте модные столичные удовольствия. Лондон раскрывается перед ними как «полная энциклопедия, где каждый человек, независимо от веры и нравов, может найти нечто приятное сообразно своему вкусу и кошельку, чтобы расширить свои взгляды, наслаждаться счастьем и комфортом»[73]. Среди знакомых отважной троицы, разумеется, мелькают и «денди – сын Тщеславия и Аффектации, потомок макарони и петиметров», и «накрахмаленный щеголь… пользующийся услугами лучших портных, башмачников и шляпников, дабы хладнокровно поразить общество своей элегантностью»[74].
Денди как городской тип появляется в тот период, когда на рубеже XVIII–XIX веков начинает складываться парадигма европейского модерна[75]. Социальную базу дендизма составляли аристократия и представители среднего класса. Благодаря демократическим завоеваниям Французской революции третье сословие в Европе получило возможность проявлять инициативу во всех сферах деятельности. А в Англии, стране со старейшей демократической традицией, где к тому же еще раньше произошла промышленная революция, сложились наиболее благоприятные условия для развития свободного самовыражения буржуазного индивида. Человек мог выделиться независимо от социального происхождения что, собственно, и подтверждает пример знаменитого денди Браммелла. Однако для подобного продвижения требовались незаурядная воля, харизма, сильный характер и (что немаловажно) предрасположенность общества оценить эти качества по достоинству.
Эту предрасположенность обеспечивала культурная ситуация рубежа XVIII–XIX веков, когда воцарилась романтическая эстетика. Именно романтизм возвел на пьедестал свободную творческую личность и санкционировал ее право диктовать свою волю толпе. Недаром многие герои поэм Байрона так охотно изображал и дендистское высокомерие, а персонажи Колриджа и Гёльдерлина не только обладали колоссальной энергией, но и осмеливались идти против большинства, веря в свою правоту. Культ оригинальности, апологетика индивидуальной свободы нередко ставили этих мечтателей на грань экзистенциального бунта, и первоначальный энтузиазм нередко завершался разочарованием – отсюда мотив «мировой скорби», выразительно представленный в творчестве великого пессимиста Джакомо Леопарди и в философии Артура Шопенгауэра.

Д.Г. Байрон. Гравюра по портрету Дж. Харлоу 1815 г.
«Мировая скорбь» предполагала не только отказ от просветительских идей относительно разумной и доброй природы человека, но и интенсивное исследование ранее недооцененных эмоциональных ресурсов – всего диапазона тончайших переживаний от просветленной печали и «снов наяву» до отчаяния и скептицизма[76]. Душевная жизнь героев Шатобриана, Мюссе, Констана демонстрирует бесконечные варианты этого «воспитания чувств». Благодаря романтизму созерцательная меланхолия становится знаком внутренней зрелости личности – и, как следствие, модники охотно разыгрывают ее в качестве новой «интересной» позы. Но существенно, что излияние эмоций у романтиков отнюдь не исключает установки на жесткую саморефлексию. Вот характерный фрагмент из записных книжек молодого Стендаля: 1805 год, он страстно влюблен в актрису Мелани Гильбер.
«В двенадцать часов дня, одеваясь, чтобы идти к Мелани, я почти не помнил себя, до того я был взволнован. Звоню – никто не отвечает. Иду в Пале-Рояль, провожу там полчаса, быть может, самые мучительные в моей жизни; единственным развлечением было наблюдение за собственным состоянием, и, право же, это немалое развлечение. Прибегнуть к этому способу утешения, если мне когда-нибудь случится утешать умного человека»[77]. Подобная способность дистанцироваться и как бы со стороны следить за своими переживаниями уже предполагает сложную автономию внешне сдержанного субъекта, который культивирует собственные эмоции, не теряя при этом аналитического контроля. Это стремление подняться над страданием – первичный тренинг невозмутимости, школа владения собой. Парадоксальные «правила» дендистского поведения «ничему не удивляться», «сохраняя спокойствие, поражать неожиданностью» во многом вытекают из этой науки романтического самопознания.
В предельном развитии поза мировой скорби дает образ «демонической натуры» – человека, проникнутого разочарованием, бросающего вызов не только высшим силам (байроновские герои Манфред, Каин), но и всем людям. Апофеоз этой линии – демонический циник, этакий денди – Мефистофель в безупречном фраке (нередкий типаж в творчестве Теофиля Готье, Фредерика Сулье и Барбе д’Оревильи). Не случайно наиболее сильно тема «цветов зла» разрабатывается у Бодлера, создавшего последовательную теорию дендизма. Более сниженный, «бытовой» вариант «демонической натуры» – рефлектирующий фат, роковой соблазнитель (Дон Жуан, Печорин, Адольф), чье тщеславие нередко базируется на особой «теории успеха»[78].
Сознание собственной исключительности у романтического героя диктует изощренные формы косвенного выражения своего превосходства: среди них – ирония и сарказм; жизнетворчество (включающее, между прочим, и стилистику внешности); критика дурного вкуса. «Повсюду мы находим теперь громадную массу пошлости, вполне сложившейся и оформленной, проникшей более или менее во все искусства и науки. Такова толпа; господствующий принцип человеческих дел в настоящее время, всем управляющий и все решающий, – это польза и барыш и опять-таки польза и барыш», – писал один из главных теоретиков романтизма Фридрих Шлегель[79]. Эта презрительная интонация разоблачения меркантилизма берется на вооружение денди: романтический протест против пошлости массового вкуса оборачивается эстетской позой «арбитра элегантности»: таким образом лидер моды дистанцируется от неумелых подражателей и филистеров. Романтическая ирония, эта «трансцендентальная буффонада» и «самая свободная из всех вольностей», становится способом сохранения личного достоинства и даже порой оружием нападения перед лицом «гармонической банальности»[80]. Наконец, великолепная вера романтиков во всевластие человеческого духа проецируется на сферу жизнетворчества: «Все случаи нашейжизни – это материалы, из которых мы можем делать, что хотим. Кто богат духом, тот делает много из своей жизни. Всякое знакомство, всякое происшествие было бы для всецело вдохновенного человека первым звеном бесконечной вереницы, началом бесконечного романа»[81]. Не в последнюю очередь романтики задумывались и о роли костюма: недаром во фрагментах Новалиса попадаются многозначительные записи: «Об одежде как символе»[82].
Итак, дендизм роднит с романтической эстетикой культ сильного индивида (включая комплекс мировой скорби и демонизм), программа жизнетворчества и установка на иронию. Основные различия между дендизмом и романтизмом состоят в том, что, во-первых, денди, будучи поклонником городской культуры, не разделяет романтического восхищения природой (противоположность естественного и искусственного), и, во-вторых, денди не склонен к лирическому излиянию чувств, предпочитая контролировать свои эмоции или разбавлять их холодной рефлексией. Впрочем, начало подобной раздвоенности уже было заложено в самом романтизме, как видно по стендалевским записным книжкам.
Резюмируем: дендизм оформляется на рубеже XVIII–XIX веков в Англии благодаря трем факторам:
– расцвет Лондона как столицы моды;
– демократизация общества и выдвижение среднего класса после буржуазных революций;
– апология личности и индивидуальной свободы в эстетике европейского романтизма.
