Часть первая Белый тигр
Глава I
Экваториальная буря гнула вершины громадных деревьев девственного леса. Удары грома, то раскатистые, то глухие, то отрывистые, то протяжные, но всегда одинаково страшные, казалось, сливались в один нескончаемый гул.
На севере и на юге, на западе и на востоке – со всех сторон небо закрывала громадная туча, окаймленная зловещей полосой медного цвета. Из тучи, как из громадного опрокинутого кратера, вылетали целые снопы ослепительных молний всех цветов радуги. Дождь лил потоками – экваториальный дождь, о котором у нас в Европе не имеют ни малейшего понятия.
С деревьев слетали срываемые ветром листья; временами валились, словно подкошенные, лесные гиганты, то сломанные на половине ствола, то вырванные с корнем из земли. Испуганные животные притихли. Птицы не подавали голоса. Над всем безраздельно господствовал вой урагана.
Эта страшная буря разразилась в обширной долине реки Марони, одной из главнейших рек во Французской Гвиане.
Непривычный к такому буйству стихий человек был бы, конечно, очень удивлен, увидев до сотни людей разных возрастов и национальностей, спокойно и безмолвно стоящих в четыре ряда под обширным навесом.
Ветер грозил в любую минуту сорвать с навеса лиственную крышу; врытые в землю столбы качались, ежеминутно грозя упасть, а эти люди стояли себе, как ни в чем не бывало, со шляпами в руках.
Угрюмое равнодушие читалось на разнохарактерных лицах этих арабов, индейцев, негров и европейцев.
Все они были босиком, в серых полотняных панталонах и блузах, на спинах которых легко прочитывались крупные буквы «С» и «Р», отделенные одна от другой якорем.
По рядам ходил среднего роста человек с непомерно широкими плечами, с грубым зверским лицом, украшенным густыми темными усами, закрученными на концах. Голубовато-серые глаза, казалось, все видевшие, но ни на что не смотревшие, неприятно поражали своим хитрым и лукавым выражением.
Человек этот был в короткой серой суконной блузе с серебряным галуном и отложным воротником. У пояса болталась короткая сабля, за пояс был заткнут пистолет. В руках человек держал огромную тяжелую дубинку, которой все время ловко размахивал.
Он следил за перекличкой и каждого выкликнутого окидывал с ног до головы пронзительным взглядом из-под козырька кепи, сшитого из такого же сукна, как и блуза.
Перекличку делал другой человек, одетый в такую же форму, как и первый, но в физическом отношении составлявший со своим товарищем разительный контраст. Он был высок, худощав, строен и имел симпатичное лицо. Дубинки у него не было; он держал в руках только записную книгу, по которой и вычитывал имена.
Имена эти он называл громко, временами останавливаясь, когда усиливавшийся шум бури мешал ему говорить.
– Абдалла! – выкрикивал он.
– Здесь.
– Минграссами!
– Здесь! – отвечал хриплым голосом индус, дрожавший всем телом, несмотря на экваториальную духоту.
– Вот еще субъект, одержимый пляской святого Витта, – проворчал человек с закрученными усами. – Это, видите ли, он притворяется, что у него лихорадка. Погоди, дружок, уж я тебя вылечу!
– Здесь! – слабым голосом отозвался бледный, со впалыми щеками европеец, едва державшийся на ногах.
– А ты не можешь отвечать громче, скотина?..
И дубинка опустилась на спину несчастного, который присел на корточки и громко застонал.
– Что? Вот и голос отыскался… Свинья!
– Ромулус!..
– Здесь! – как из бочки, выпалил богатырского роста и сложения негр, осклабившись и показав белые крупные зубы, которым мог бы позавидовать любой крокодил.
– Робен!
Ответа не было.
– Робен! – повторил делавший перекличку.
– Да отвечай же, гад! – крикнул человек с дубинкой.
Опять никто не откликнулся. По всем четырем шеренгам пробежал ропот.
– Цыц, кобели! – заорал на них человек с дубинкой, выхватывая из-за пояса пистолет и нажимая на курок. – Первого, который двинется, уложу на месте.
Гром в это время на минуту стих, и среди кратковременной тишины вдали послышались крики:
– К оружию!.. К оружию!..
Затем прогремел выстрел.
– Тысяча громов!.. Я уверен, что этот негодяй Робен сбежал… Славно мы влетели, нечего сказать.
Ссыльнокаторжного Робена как отметили неявившегося, и перекличка пошла своим чередом.
Мы уже сказали, что действие происходило во Французской Гвиане, на левом берегу реки Марони, отделяющей французскую колонию от голландских владений.
Люди, собранные под навесом, были каторжники, состоявшие под надзором острожного надзирателя Бенуа, человека злобного и жестокого.
Исправительная колония, где развертывались события этого пролога к драме, которую мы собираемся изложить, называлась Сен-Лоранским острогом. Время действия – 185… год. Сен-Лоранская колония служила как бы дополнением к Кайенне. Каторжников в ней тогда было еще немного – не более пятисот человек. Место там очень болотистое, климат крайне нездоровый, а работа заключается в расчистке почвы и, следовательно, очень трудна, воистину каторжная.
Надзиратель Бенуа повел свою бригаду в казарму острога. Он имел вид лисицы, попавшей в западню. Своей дубинкой он уже не размахивал. Напомаженные кончики его усов опустились, уши отвисли, и козырек кепи как будто еще ниже нахлобучился на лоб.
Убежавший арестант был очень важным преступником, человеком умным, образованным и энергичным. Его бегство было тяжелым ударом для Бенуа: Робен был поручен лично его усиленному надзору.
Каторжники, радуясь неприятности, постигшей их острожного начальника, не скрывали своей радости, и глаза их весело блестели. Впрочем, они больше ничем не могли выразить своего протеста против жестокого, не в меру усердного Бенуа.
Они разбрелись по своим койкам и скоро заснули крепким сном – если не невинности, то, во всяком случае, тяжелого утомительного труда.
Бенуа, несмотря на проливной дождь и громовые раскаты, в крайнем смущении пошел с рапортом к главному начальнику острога.
Последний уже по слышанному выстрелу знал о случившемся побеге и спокойно сделал распоряжение насчет мер, которые следовало принять для поимки беглого.
Не то, чтобы он серьезно надеялся поймать убежавшего, но уж таков был порядок: определенные меры всегда в подобных случаях принимались. Гораздо больше начальник острога рассчитывал на то, что голод рано или поздно заставит бежавшего вернуться в острог. Побеги из Сен-Лоранской колонии были часты, но все они в большинстве случаев кончались ничем. Истомленные голодом беглецы обыкновенно сами возвращались в острог, если только не погибали раньше из-за диких зверей или ядовитых гадов и насекомых.
Но когда начальник острога узнал имя бежавшего арестанта, он смутился. Ему была известна энергия Робена, и он понимал, что этот каторжник вряд ли испугается голода и хищных зверей.
– Он не вернется, – пробормотал он. – Это человек – погибший.
– Господин смотритель, – заговорил Бенуа, надеясь усердием загладить свою вину, грозившую ему суровым наказанием, – господин смотритель, я доставлю его вам живым или мертвым. Я за это берусь.
– «Мертвым» – это уж слишком… понимаете? – сухо возразил смотритель острога, человек суровый и строгий, но справедливый и вовсе не злой. – Вообще, я недоволен вашим зверским обращением с каторжниками. Я строго запрещаю вам давать волю рукам… Вы понимаете, что я хочу сказать?.. Было бы вам известно, что я предостерегаю вас в последний раз. Постарайтесь поймать беглеца, если не желаете попасть под суд, и приготовьтесь отбыть по возвращении из экспедиции восьмидневный арест – это в любом случае. Ступайте.
Надзиратель поклонился и ушел, осыпая страшными проклятиями бежавшего каторжника.
– Негодяй! Подлец!.. Уж я тебя поймаю, погоди! Как это я сказал, не подумав: живым или мертвым!.. Как же! Очень ты мне нужен мертвым! Нет, я верну тебя живым, и опять ты будешь ходить у меня под палкой… Итак, немедленно в дорогу.
Надзиратель возвратился в дом, где жил он сам и его товарищи по службе, наскоро уложил в ранец кое-какую провизию, взял компас, охотничье ружье и приготовился в путь.
Было семь часов вечера. Со времени, как стало известно о побеге Робена, прошло три четверти часа.
Бенуа был старшим надзирателем в отделении. Он выбрал себе трех помощников и велел им тоже собираться в дорогу. Те повиновались, не говоря ни слова.
– Послушай, Бенуа, – сказал один из остающихся надзирателей, тот самый, который вместе с ним делал перекличку, – неужели ты отправишься прямо сейчас? Дождись, по крайней мере, когда кончится гроза. Робен наверняка не смог уйти далеко.
– Не твое дело, – грубо отрезал Бенуа. – Я ведь старший и твоего совета не спрашиваю. Чем скорее я выйду, тем вернее его поймаю. Он наверняка попытается переправиться через Марони, чтобы найти убежище у аруагов или галибисов, и, разумеется, пойдет берегом. Тут-то я его и сцапаю. Я насквозь вижу его план. План этот, по обыкновению, очень глуп, тем более, что три дня назад около засеки видели краснокожих. Не правда ли, Фарго, мы его живо отыщем?
При слове «Фарго» из-под грубого, неуклюжего стола вылез мохнатый сердитый пудель на коротких ногах и с умными глазами.
Фарго так же ненавидел каторжников, как и его хозяин. Вообще, нужно отметить, что собаки, принадлежащие каторжникам, ненавидят надзирателей и их собак, а надзирательские собаки платят им той же монетой. Очевидно, так воспитывают и тех, и других. Надзирательские собаки чуют каторжника на таком далеком расстоянии, что даже удивление берет, до какой степени развито у них чутье.
Бенуа, долго живший в Гвиане и изучивший страну вдоль и поперек, был отличным следопытом. Своего Фарго он выдрессировал великолепно, приобретя в нем незаменимого помощника.
Собравшись в путь, он отвел Фарго в казарму и дал ему несколько раз понюхать койку убежавшего Робена, прищелкивая при этом языком, как делают охотники, и приговаривая:
– Ищи, Фарго! Ищи! Пиль!
Пудель обнюхал постель, повилял хвостом, тявкнул два раза, как бы желая сказать: «Я понял», и выбежал вон.
– Чертовская погода! – проворчал один из трех надзирателей, который, едва успев сделать несколько шагов, уже промок до нитки. – Самая подходящая для бегства из острога. Черт меня побери, если нам удастся его изловить.
– Да, – согласился другой, – и не хватает только, чтобы мы наступили на ядовитую змею или провалились в трясину.
– Тут даже и собака его не поможет, – сказал третий. – Какого черта она найдет, если дождик давным-давно смыл все следы?
– Ну, вы! – прикрикнул на своих помощников Бенуа. – Чего вы там раскудахтались? Ступайте себе вперед. Гроза скоро кончится, небо прояснится, взойдет луна, и будет видно, как днем. Вперед!
Четыре человека гуськом пошли по глухой тропинке в кустах вдоль берега реки вверх по течению. Собака бежала впереди.
Охота на человека началась.
Когда каторжники двумя рядами шли на перекличку, часовой у ворот острога заметил при свете блеснувшей молнии, как какой-то человек выбежал из своего ряда и пустился со всех ног бежать.
Солдат успел разглядеть клеймо на спине блузы. Сомнения не было ни малейшего. Инструкцию свою часовой знал твердо. Он быстро взвел курок ружья и выстрелил, не сделав даже обычного оклика «Кто идет?».
Конечно, второпях он блестяще промахнулся. Бежавший слышал, как прожужжала пуля, припустил еще шибче и скрылся в кустах. Прибежавшие на выстрелы солдаты уже никого не нашли.
Не обращая внимания на ветер, дождь и молнию, беглец углубился в самую чащу леса с уверенностью человека, которому знакома каждая кочка, каждая ямка, каждый бугорок. При свете молнии он огляделся и повернул налево, причем острог остался у него позади, а река – направо.
Он шел по незаметному следу, заранее проложенному сквозь сплошную чащу зелени. Через полчаса быстрой ходьбы он вышел на широкую поляну, на которой валялись срубленные деревья. Их свалила, это было очевидно, рука человека, и пила уже отчасти затронула их стволы.
Здесь было место, где работали каторжники. В нескольких шагах от расчищенного пространства возвышался на метр от земли ствол огромного срубленного дерева. Гвианские колонизаторы-пионеры всегда срубают деревья на такой высоте.
У ствола беглец остановился и ощупал его руками, так как молнии стали реже и глаза плохо видели в темноте.
– Здесь! – сказал беглец тихо, дотронувшись до деревяшки, заостренной в виде кола и оставленной как бы невзначай.
Он взял кол и принялся быстро буравить им землю около пня. Земля тут была рыхлая, очевидно, недавно раскопанная. Вскоре кол наткнулся на какой-то предмет, издавший металлический звук.
Беглец вытащил жестяной ящик, в каких обыкновенно матросы хранят сухари.
Ящик был обвязан в несколько раз длинной и гибкой лианой, от которой отходили два свободных конца, словно ремни у ранца. Беглец привязал к себе ящик на спину, как ранец, вытащил из ямы тесак с деревянной, обвитой медной проволокой ручкой, взял в левую руку кол и несколько минут постоял, прислонившись спиной к пню.
Затем он гордо выпрямился во весь свой огромный рост и сказал:
– Наконец я свободен, свободен, как те дикие звери, с которыми мне предстоит теперь жить. Мне, как и им, принадлежат теперь бесконечные леса и страшные пустыни. Лучше змея, лучше тигр, лучше зной и голод, лучше смерть во всех ее видах, чем жизнь в остроге, на каторге. Лучше умереть свободным, чем влачить жизнь в колодках и цепях. Пусть же теперь они придут и попробуют отнять у меня жалкие остатки моей свободы! Пусть попробуют!.. Я сумею за себя постоять.
Надзиратель Бенуа был прав, говоря, что гроза скоро кончится. Экваториальные бури ужасны по своей силе, но непродолжительны. Через полчаса тучи рассеялись и унеслись дальше. Луна медленно выплыла из-за деревьев, окаймлявших реку, и круг ее заблестел ярко, отражаясь в еще не успокоившихся волнах и играя на листьях в сверкавших дождевых каплях. Местами голубоватый кроткий луч пронизывал густые лиственные своды, забираясь в самую чащу листьев и цветов.
Беглец невольно залюбовался этим пробуждением природы, но скоро опомнился. Нужно было спешить. Нужно было уйти как можно дальше, дабы преграда между ним и преследователями стала непреодолимой.
Он резко оторвался от приятного зрелища, снова сориентировался и пустился в путь.
Во время своей ссылки на берега Марони Робен пригляделся к тому, как совершаются побеги из острога. Обыкновенно, как он имел много случаев заметить, эти побеги оканчивались или поимкой беглецов надзирателями, или выдачей их острогу голландским правительством, или, наконец, их голодной смертью где-нибудь в пустыне или лесу. Некоторые сами возвращались в острог, доведенные до изнеможения голодом и разными лишениями.
Возвращавшиеся беглецы знали, что их ждет военный суд, который обречет их быть закованными в двойную цепь на срок от двух до пяти лет, но все-таки шли назад, гонимые призраком смерти: столь велика у человека тяга к жизни, хотя бы даже на каторге.
Но наш беглец был человеком особого рода. Он не был преступником в обычном смысле, он пострадал за идею и в свое время храбро рисковал жизнью, чтобы эта идея восторжествовала. Его не пугала смерть. Он уже не вернется в острог сам, нет, не вернется, что бы ни случилось. Встречи с голландцами он постарается избежать. Это вовсе не трудно: стоит только держаться правого берега реки. Голод? Он будет его мужественно переносить. Он силен, вынослив, энергичен и может долго выдержать. Если же и умрет – что ж такого? Пускай. Не он первый, не он последний. И его скелет будет так же белеть в траве, дочиста обглоданный муравьями, как и скелеты многих других до него…
Впрочем, он не собирается умирать. О нет!.. Он муж и отец, у него семья… Он гражданин, дух которого не сломили ни каторжная работа, ни горе, ни нужда, ни унижения острога.
Он хотел жить для семьи, для друзей, а когда человек подобной закалки говорит: «Я хочу», считайте, что он уже и может.
Все это так, все это хорошо, но ведь его могут поймать. За ним уже наверняка и гонятся.
Пускай. Его дело – сбить погоню со следа, одурачить ее, направить по ложному пути.
«Они теперь идут по моему следу, – размышлял он про себя, – и убеждены, что я направился в голландские владения. Хорошо. Пусть думают так, а я постараюсь поддержать их в этом убеждении. Сделаем, прежде всего, плот».
С этими мыслями беглец быстро повернулся и пошел к реке, волны которой шумно катились направо от него.
– Хорошо, – сказал он. – Это Синие скалы. В одном километре отсюда вверх по течению я найду нужный мне материал.
Тихо, крадучись, точно краснокожий индеец на войне или на охоте, беглец направился прямиком к берегу, до которого было три четверти часа ходьбы.
План был смелый, и для выполнения его требовалось много ловкости и мужества.
Робен знал, что за ним гонятся и что погоня в любом случае ведется по течению Марони, выше ли, ниже ли Сен-Лорана – но все равно по реке. Представлялось одно из двух: или преследователи уже прошли то место, где беглец собирался строить себе плот, или еще не дошли до него. В первом случае беглецу нечего было беспокоиться, а во втором он мог спрятаться в густой водяной траве. Что касается до соседства с пресноводными крокодилами, электрическими угрями и колючими скатами, то об этом он даже и не думал. Это для него были сущие пустяки.
Сперва он долго решал, которое из двух предположений справедливо. Но так как, подойдя к берегу, не увидел и не услышал ничего подозрительного, то немедленно приступил к исполнению своего плана.
С одного взгляда он выбрал две гладкие и белые, как серебро, ветви дерева-пушки и обрубил их в два быстрых приема.
Затем он решительно вошел в воду и очутился по пояс в густой чаще водорослей, росших в изобилии на дне реки. То были арумы, или, по местному названию, «муку-муку», почти невесомые, легко срезающиеся и вместе с тем очень прочные.
Выбрав десятка три прекрасных прямых стволов длиною более двух метров, он бесшумно срезал их, старательно избегая соприкосновения с вытекающей из них едкой жидкостью, натянул их крест-накрест на две приготовленные жерди из дерева-пушки – получилось нечто вроде калитки, какие бывают у крестьянских изгородей.
У беглеца был теперь плот шириной метра по два с каждой стороны, отлично держащийся на воде, и пусть он был не способен выдержать человека, но зато превосходно подходил для той цели, которую, строя его, преследовал беглец.
Построив плот, Робен снял с себя блузу, набил ее листьями, придав ей вид сидящего человека, к рукам манекена приладил палку наподобие весла и оттолкнул плот подальше от берега.
Робен временами останавливался и прислушивался.
Течение подхватило плот и медленно понесло, слегка его вращая, по направлению к голландскому берегу.
– Превосходно! – сказал беглец. – Я уверен, что самое большее через четверть часа мои молодцы, оставив настоящую добычу, погонятся за тенью.
Полагая, что лучший способ скрыться от преследователей – идти по дороге, которой ходят все, и не прятаться без крайней надобности по закоулкам, беглец беззаботно пошел по узкой проторенной тропинке, которой наверняка должны были идти и его преследователи.

Робен временами останавливался и прислушивался
Забираться в лесную чащу он не хотел. Лес в обычное время мог дать ему верное убежище, но при существующих обстоятельствах нечего было и думать о том, чтобы проложить себе дорогу через лес.
Со всей возможной осторожностью подвигаясь вперед и прилагая невероятные усилия, дабы избежать малейшего шороха, который мог бы нарушить ночную тишину, Робен временами останавливался и прислушивался: нет ли где какого-нибудь постороннего звука, не относящегося к неумолчному ропоту, производимому океаном зелени девственного леса.
Но нет. Ничего не было слышно, кроме постукивания последних капель дождя о мокрые листья, таинственного ползания гадов в траве, тихого хода насекомых в древесных стволах и чуть слышного шороха крыльев мокрой птицы.
Робен все шел и шел под темными сводами, на которые луна лишь слабо отбрасывала голубоватый свет. Вокруг него летали светлячки, прорезая блестящими полосами темноту.
Вскоре он достиг места, где в Марони впадает река Балете. Он нетерпеливо желал поскорее достичь притока Марони, чтобы между ними и его преследователями пролегла хоть какая-нибудь преграда.
Робен был отличным пловцом, и переплыть реку для него не составляло ни малейшего труда.
Но прежде чем броситься в воду, он остановился, прислушался и зорким взглядом окинул берег.
И отлично сделал.
Глава II
Оттуда сквозь прозрачную тропическую ночь до него отчетливо донесся шепот. Робен остановился как вкопанный.
– Уверяю же тебя, вот плот.
– Ничего не вижу.
– Вот там, напротив… в ста метрах от берега, видишь черное пятно? На плоту человек. Я ясно вижу, его!
– Ты прав.
– Плот, на плоту человек. Да. Он плывет вверх.
– Теперь прилив. Его подхватит водоворот и прибьет к голландскому берегу.
– Ну, это дудки. Не для того мы так себя ломали, чтобы это допустить.
– Может, крикнуть ему, чтобы плыл к берегу?
– Глупо. Будь это обыкновенный варнак[1], тогда бы другое дело. Тот бы испугался, что получит пулю, и сейчас же подкатил бы. Но этот – политический.
– И к тому же Робен.
– Да, это человек крепкого закала.
– И все-таки мы должны его изловить.
– Жаль, что Бенуа с нами нет.
– Бенуа переправился через бухту и теперь далеко впереди.
– Тогда надо стрелять по плоту.
– Жалко. Ведь я не желаю зла Робену, он хороший человек.
– И мне жаль, а ничего не поделаешь. Придется пробить ему череп, тело его съедят кайманы.
– Стало быть – пли!
Три быстрых молнии прорезали темноту. Глухо прозвучавшие в лесу три выстрела вспугнули попугаев.
– Какие мы дураки! Тратим заряды, когда нет ничего проще, чем зацепить плот.
– Каким же это образом?
– Очень просто. Лодка, в которой Бенуа переплыл через бухту, причалена на том берегу. Я схвачусь за лиану и доплыву туда, возьму лодку, приведу сюда, приму на нее вас, и мы погонимся за плотом.
– И поймаем его!
Так и было сделано. Три человека выплыли в лодке из бухты и быстро помчались по Марони.
Робен спокойно слушал. Обстоятельства складывались решительно в его пользу. Как только пирога скрылась вдали, он схватился за лиану и поплыл по воде. Растительный канат, за который он держался, описал четверть окружности, центром которой было место, куда лиана прикрепилась на том берегу. Все это произошло тихо, легко, без единого всплеска.
Через десять минут беглец был уже на другом берегу. Лиану он тотчас же перерезал, не повторив ошибки, сделанной тюремщиками. И растение погрузилось в воду.
– За мной гонится сам Бенуа, – размышлял он. – Бенуа уже впереди. Хорошо. До сих пор я шел позади охотников. Этот маневр удался. Продолжу в том же духе.
На ходу он достал из жестяного ящика сухарь, сгрыз его и затем глотнул водки; подкрепившись таким образом, он пошел дальше.
Часы проходили за часами. Луна закончила свой круг. Скоро выбросит свои пламенные лучи тропическое солнце. Весь лес пробуждался.
Жалобно ворковали токро, однообразно гнусавили агами, сипло хохотал пересмешник. Вдруг послышался лай гончей собаки, взявшей след.
«Это либо индеец-охотник, либо кто-нибудь из надзирателей, – подумал Робен. – Прескверная встреча. Индеец пожелает заработать денежную награду. А надзиратель… Ну, что ж. Ведь я это предвидел. Сделаю, что будет нужно».
В лесу быстро светлело. Деревья становились выше, но реже; появлялись породы, свойственные сырым местам. Чувствовалась близость высохших болот.
В момент, когда Робен вышел на полянку, показалось солнце. Беглец едва успел спрятаться за огромным кедром. Лай слышался все ближе и ближе. Беглец покрепче зажал в руке свой нож и стал ждать.
Мимо него промчалось, как молния, прелестное, грациозное животное коричневого цвета.
То была кариаку, гвианская косуля.
И вслед – что-то крупное, огромное обрушилось на косулю с толстого сука дерева боко, но промахнулось. Косуля скрылась.
То был громадный ягуар, который услыхал гончую, догадался, что она гонит дичь, и решил воспользоваться добычей.
Беглец не пошевелился. Зверь отступил, совершив опять громадный прыжок, и через голову Робена вспрыгнул на дерево, весь ощетинившись, сверкая глазами и глухо рыча.
Беглец готовился отразить нападение. Вдруг сзади послышался шорох раздвигаемых ветвей. Он обернулся и увидел направленное на себя дуло ружья.
– Сдавайся! – крикнули ему.
Он узнал главного надзирателя Бенуа и презрительно улыбнулся. Злобная угроза тюремщика в присутствии зверя, щелкавшего зубами, показалась ему каким-то шутовством. Ягуар рвал когтями твердую кору дерева.
Он перевел глаза на ягуара и стал глядеть на него упорным взглядом укротителя. Ягуар, сощурив глаза и сузив зрачки в виде буквы «I», поддался магнетическому влиянию. Тюремщик с ружьем в руке, стоявший в позе Вильгельма Телля, был просто смешон.
– Ты что же, каналья, молчишь?
Раздалось мяуканье тигра, обыкновенно быстро переходящее в рев.
– Да тут целых два! – проговорил с удивлением, но без страха тюремщик. – Хорошо. Сперва, значит, в того, который торопится больше.
Бенуа не был трусом. Он прицелился в ягуара и выстрелил. Заряд раздробил зверю плечо. Шкура моментально пропиталась кровью.
Рана была, может быть, и смертельна, но не уложила ягуара сразу. Он прыгнул на стрелка, повалив и запустив в него когти и зубы.
Бенуа считал себя погибшим и даже не кричал, ожидая смерти.
Но сердце Робена было чуждо ненависти. Быстрее пули подскочил он к ягуару и изо всех сил дернул его за хвост. Ягуар рассвирепел еще больше и приготовился к нападению на нового противника. Тот бросил свой нож, схватил тесак и моментально отрубил ягуару голову. Метра на два ввысь ударил фонтан крови, красной и пенящейся.
Тюремщик поднялся с земли с разодранной до самой кости ляжкой. Между ним и беглым каторжником судорожно вздрагивал убитый ягуар.
Каторжник спокойно вытирал о траву окровавленный тесак, как будто ничего особенного не случилось.
Последовала долгая пауза. Ее прерывал только отчаянный лай Фарго, державшегося, однако, на почтительном расстоянии.
– Ну, что же ты? Кончай, – сказал наконец надзиратель. – Доделывай чужую работу…
Робен стоял неподвижно, скрестив на груди руки, и словно не слышал.
– К чему столько церемоний? Тот уже сделал половину дела. Пятнистый тигр оказался союзником белого[2]. Он меня хорошо… отделал… я… кажется… того…
Кровь лилась из открытой раны. Тюремщик начинал терять сознание. Ему грозила смерть от потери крови.
Робен забыл все полученные оскорбления, все побои, забыл всю злобу Бенуа. Перед ним был просто раненый, умирающий человек.
Перевязать рану было нечем. Но Робен придумал.
Место, где произошла драма, находилось неподалеку от высохшей саванны. Робен добежал до нее, раздвинул траву и разрыл под ней слой растительного перегноя. Под этим слоем оказалась сероватая мягкая глина. Он сделал из нее ком величиной с голову и вернулся с ним к раненому. Оторвав у него от рубашки рукав, он нащипал из него довольно грубой корпии, намочил в водке и приложил к ране, стянув предварительно ее края. После этого он плотно облепил глиной всю раненую ногу, обложил свежими листьями и крепко обмотал лианой.
Кровь сейчас же унялась. Лицо раненого порозовело. Он зашевелился, глубоко вздохнул и попросил глухим голосом:
– Пить!
Робен сорвал длинный лист ваи, свернул его рожком и зачерпнул воды в той ямке, откуда он достал глину. Эта ямка успела быстро наполниться просочившейся водой.
Приподняв раненому голову, он стал его поить. Тот напился с жадностью и открыл глаза.
Невозможно описать его изумление, когда он увидел перед собой каторжника. В нем тотчас же проснулся зверь. Он попробовал вскочить на ноги, чтобы сперва защититься, а потом и напасть.
Но страшная боль свалила его опять на землю. Вид убитого ягуара вернул его к действительности. Как! Робен, которого он преследовал своей беспричинной ненавистью, этот самый Робен самоотверженно перевязал ему рану и утолил его жажду!
Всякий другой склонился бы перед таким благородством. Протянул бы руку. Поблагодарил бы. Сослался бы на суровый долг.
Бенуа же стал браниться:
– Чудак ты, больше ничего. На твоем месте я не стал бы так делать. Тррах – и все. Прощай. Нет, Бенуа за все бы расквитался.
– Человеческая жизнь для меня священна, – холодно отвечал каторжник. – На земле есть нечто гораздо приятнее мести.
– Да? И что же именно?
– Прощение.
– Не знаю. Скажу тебе одно: в награду я тебя постараюсь изловить при первом же случае.
– Как хотите. Это ваше дело. Но только предупреждаю, что и я буду защищаться. Об одном бы я вас попросил: вспоминайте почаще, что и каторжники – люди и что между ними бывают невиновные. Не обращайтесь с ними чересчур жестоко, не мучайте их, не злоупотребляйте силой. Острог существует для того, чтобы делать людей безвредными, а не для того, чтобы их истязать. Прощайте. Я забываю зло, которое вы мне причинили.
– До свиданья. Только ты напрасно, Робен, оставил меня в живых.
Беглец даже не обернулся. Он скрылся в густом лесу.
Шел он долго. Хотелось уйти подальше от своих палачей. Невероятно, но он все еще держался той линии, которую себе начертил. Сумел и сориентироваться, и не умер до сих пор с голода.
Со времени его побега прошло три дня. Он преодолел большое расстояние. Прикинуть на глаз – километров пятьдесят. По девственному лесу это много. Здесь беглецу были уже не так страшны цивилизованные люди. Все-таки ему со всех сторон грозила опасность. И прежде всего – голод. В девственном лесу питаться нечем. Громадные деревья не дают ни плодов, ни ягод. Охотиться, ловить рыбу безоружный не может.
Пишущий эти строки бывал в лесах Нового Света. Он и голодал, он и жажды натерпелся. В одном месте он наткнулся знаете на что – на одиннадцать скелетов! Подумайте только: одиннадцать скелетов!.. На берегу бухты с чистой прозрачной водой!..
Одни лежали на солнце, выпрямившись, руки крестом. Другие в изогнутом положении; у иных голова вдавилась в землю – должно быть, они грызли землю зубами перед смертью. Два или три скелета – арабы, должно быть, – были в сидячем положении, с поднятыми ногами.
За полгода до того из Сен-Лоранского острога сбежали одиннадцать каторжников.
Сбежали – и как в воду канули.
Они все умерли с голода. Потом явились муравьи и обглодали их трупы, оставив одни кости.

Потом явились муравьи и обглодали их трупы, оставив одни кости
Капитан Фредерик Буйе, один из лучших офицеров нашего французского флота, рассказывает в своей превосходной книге «Французская Гвиана» об еще более ужасном случае.
Беглые каторжники, изнемогая от голода, перебили своих товарищей и ели их…
Капитан Буйе описывает и сами сцены людоедства, но мы их отказываемся воспроизводить.
Так вот что ожидало Робена. Жажда свободы была в нем настолько сильна, что он решился бежать из острога, имея в кармане только дюжину сухарей, сэкономленных из скудной острожной порции, несколько зерен кофе и какао и небольшое количество початков кукурузы. Вот все, что он мог захватить с собой!
С этим запасом он задумал пройти через огромное пространство, лежавшее между ним и свободой.
Беглеца донимал голод. Он съел два-три кофейных зерна, запил водой и сел на поваленное дерево, чтобы собраться с силами.
Долго сидел он так, смотря перед собой на воду ручейка и ничего не видя. У него кружилась голова. Он встал и хотел пойти, но не смог: распухшие, истерзанные колючками ноги отказывались служить.
Тогда он снял башмаки – казна выдает арестантам обувь, хотя они чаще ходят босиком, – и увидел, что вся кожа на его обуви, и даже подошвы, проколоты колючками насквозь.
– Последние события, по-видимому, сильно на меня повлияли, – сказал он с горечью. – Этого я не предвидел. Неужели я ослабею, утрачу энергию? Неужели перестану быть самим собой? Неужели упаду духом из-за материальных лишений? Нет. Не буду унывать. Человек может прожить двое суток без пищи. За это время мое положение изменится. Я этого хочу – и это будет.
С такими больными ногами немыслимо было идти дальше. Он уселся поудобнее на корень дерева и по щиколотку свесил ноги в воду.
Глава III
Робен был высоким стройным мужчиной лет тридцати пяти, худощавым, но мускулистым и сильным. Лицо его, с правильными чертами и орлиным носом, обрамляла темная длинная борода, черные, проницательные глаза смотрели грустно и даже несколько строго. Губы его давно отвыкли от улыбки.
И, однако, в этом человеке была такая жизненная сила, что на его высоком лбу мыслителя не было ни одной морщинки. Бледное, бескровное лицо и ввалившиеся щеки свидетельствовали, что жизнь на каторге была несладкой даже для него.
Робен был уроженцем Бургундии и во время декабрьского переворота, совершенного Наполеоном III, управлял большой мануфактурой в Париже. Он был во главе первых, кто воспротивился злодеянию, и с ружьем в руках пошел на баррикаду улицы Тампль, где его тяжело ранили. Поднятый и вылеченный своими друзьями, он долго скрывался и наконец затеял побег за границу, но был схвачен в самую решающую минуту, предан суду и сослан на каторгу в Гвиану.
Ему даже не дали проститься с женой, у которой за два месяца до этого родился четвертый ребенок. Семья Робена осталась без всяких средств…
Три года провел он в остроге, испытывая страшные страдания, – и физические, и моральные, – три года в обществе закоренелых злодеев, потерявших облик и подобие человеческое. Без всяких усилий он приобрел над ними большое влияние; его суровый вид и громадная физическая сила невольно импонировали им. К тому же он не был обыкновенным преступником, и даже осторожное начальство делало для него разные послабления; так, например, ему никогда не говорили в остроге «ты».
По натуре, как все сильные люди, Робен был очень добр и, чем только мог, помогал товарищам, которые его и любили, и уважали, и побаивались. Они чувствовали, что он не их поля ягода, что он выше их во всем.
Он держался одиноко, был угрюм и никогда не жаловался.
Никто не удивился его побегу, и все от души пожелали ему успеха. Кроме того, каторжники радовались, что ненавистный им надзиратель Бенуа попал в беду.
Ножная ванна несколько освежила беглеца. Он вынул колючки, терзавшие его кожу, протер себе ноги остатками спирта, выпил глоток воды и стал придумывать, где бы ему раздобыть себе обед.
Вдруг он увидел дерево quassia simaruba[3] и вскрикнул от радости.
А между тем на этом дереве не было никаких плодов, которые могли бы послужить в пищу человеку. Чему же так обрадовался беглец?
Он вспомнил разговор двух каторжников между собой. Один говорил другому, собиравшемуся бежать: «Если ты встретишь в лесу симарубу, теряющую листву, рой землю у корня дерева. Там непременно окажутся земляные черепахи. Они очень любят лакомиться плодами симарубы, когда те только развиваются».
Робен подбежал к дереву и начал торопливо рыться в ворохе листьев, валявшихся у корня.
Скоро тесак наткнулся на что-то твердое. То был панцирь крупной мясистой черепахи. Робен положил находку возле себя на спину, чтобы она не могла уйти, и продолжал копаться в листьях. Через минуту он извлек еще двух черепах и сделал с ними то же самое, что и с первой.

Скоро тесак наткнулся на что-то твердое
Теперь оставалось только приготовить обед. Это было нетрудно: поблизости много сухого дерева. Робен сложил небольшой костер, зажег его и поместил черепаху на огонь, прямо в панцире, как обыкновенно поступают туземцы.
Покуда черепаха жарилась, Робен не сидел без дела. В нескольких шагах от него росла большая капустная пальма. Собственно говоря, то, что похоже на капусту, находится у этой пальмы не на дереве, а в дереве, в середине пучка вершинных листьев. Робен срезал вершину пальмы, очистил листья и обнажил цилиндрический стержень, гладкий, как слоновая кость. Отрезав от него кусок, беглец принялся жадно есть. Это вещество не было питательным, но все-таки им можно было обмануть голод.
Черепаха между тем была готова. Робен снял ее с огня, освободил от панциря и стал есть, закусывая вместо хлеба пальмовой капустой.
Оригинальный завтрак беглеца подходил к концу, когда что-то резко просвистело над его головой и к ногам упала красноперая стрела, вонзившись в землю и раскачиваясь свободным концом.
Робен вскочил и встал в оборонительную позу, держа в руках кол. Первое время он ничего не видел, но вот раздвинулись кусты, и за ними появился краснокожий индеец с луком в руках, готовый выпустить и вторую стрелу.
Робен был перед ним совершенно беззащитен. Против лука и стрел у него не было ничего.
Индеец был совершенно голый, если не считать обмотанного вокруг пояса лоскутка синей материи. Тело его было густо намазано красной краской, точно он вышел из кровавой ванны. Длинные черные волосы откинуты назад и лежали по плечам. На шее надето ожерелье из зубов ягуара, на руках и ногах – браслеты из звериных когтей.
Робен не знал, чем объяснить нападение индейца. Береговые жители нижнего Марони считались вообще-то миролюбивыми и охотно вступали в мирные отношения с белыми. Или, может быть, индеец хотел лишь испугать беглеца, нарочно пустив стрелу мимо? Да, наверное, оно так и было, иначе как объяснить промах стрелка на таком близком расстоянии?
Робен решил взять смелостью. Забросив подальше от себя кол, он скрестил на груди руки и, глядя прямо в лицо неприятелю, сделал к нему навстречу несколько шагов.
Индеец стоял и ждал. Когда белый приблизился к нему, он опустил лук и сказал:
– Белый тигр не боится.
– Да, не боюсь. Но я вовсе не белый тигр.
– Если ты не белый тигр, что же ты делаешь здесь?
– Я человек свободный и куда хочу, туда и хожу.
– О!.. А если ты не белый тигр, отчего же у тебя нет ружья?
– Клянусь тебе матерью, что я не преступник, никого не убивал и никому не делал зла.
– Ты клянешься матерью? О, я верю тебе… Но почему же ты здесь один, без жены и детей? Зачем ты пришел отнимать землю у бедных индейцев, рубить их деревья, стрелять их дичь?
При напоминании о жене и детях Робен почувствовал, как слезы подступают к горлу и душат его. Он сделал над собой усилие, оправился и возразил:
– Моя жена и мои дети очень бедны. Для того чтобы прокормить их, я и пришел сюда, на землю индейцев.
– Атука этого не хочет! – с сердцем вскричал индеец. – Атука не ходит на землю белых, так пусть и белые оставят в покое землю калинов[4].
– Но послушай, Атука, все люди между собой – братья… земля принадлежит всем… и если бы ты пришел на мою землю, я не стал бы тебя гнать.
– Ты лжешь! – отвечал индеец. – Разрой здесь землю своим тесаком и ты отроешь кости моих отцов, которые все были калины. Найди здесь кости хоть одного белого, и я отдам тебе всю эту землю и буду твоей собакой.
– Да мне совсем этого не нужно, Атука! Я вовсе не хочу поселиться здесь, я здесь лишь мимоходом и направляюсь в землю негров-бони.
При этом известии индеец при всей своей хитрости и сдержанности не мог удержаться, чтобы не вскрикнуть от досады.
Вся его торжественно-патриотическая тирада, а также пущенная им стрела имели одну-единственную цель, о которой будет сказано ниже. И вдруг оказывается, что эта цель от него ускользает.
Впрочем, лицо индейца быстро прояснилось, хотя мимолетная перемена эта и не ускользнула от Робена.
– Если ты не белый тигр, – продолжал индеец, – то пойдем со мной в страну Бонапарта. Ты там найдешь много белых людей, много мяса, хлеба и водки.
Робен даже плечами пожал от удивления, когда услыхал имя Бонапарта из уст дикого гвианского индейца. Но вслед за тем он вспомнил, что Сен-Лоранский округ стал называться так лишь несколько лет тому назад, а до тех пор страна носила имя Бонапарта.
– Видно будет, – уклончиво ответил Робен.
Вся сухость и враждебность индейца разом испарились. Он быстро опустил лук и не то с напускным, не то с искренним радушием протянул Робену руку, говоря:
– Атука – кум белого тигра.
– Ты все-таки продолжаешь называть меня так? Ну, хорошо, пусть будет по-твоему. Белый тигр – кум Атуки. Садись со мной доесть остатки черепахи.
Индеец не заставил просить себя дважды. Он сел на землю и принялся так усердно работать руками и челюстями, не думая о своем новом куме, что скоро от черепахи осталась только одна чешуя, совершенно очищенная от мяса.
Жадный индеец только под конец обеда заметил, что мясо черепахи сильно пропахло дымом.
– Ах, кум, кум! – сказал он вместо благодарности. – Ты совсем не умеешь готовить кушанье.
– А ты только теперь это заметил?.. Но постой: у меня есть еще две черепахи. Сегодня вечером ты сможешь показать на них собственное умение.
– Вот как, кум! У тебя есть еще две черепахи? Неужели?
– Да, и вот они здесь.
– Хорошо.
Робен подошел к ручейку, напился воды и приготовился после обеда лечь спать. Индеец следил за ним жадными глазами, как бы ожидая чего-то еще, наконец не вытерпел и сказал:
– Что же ты, кум, не дал Атуке водки?
– У меня ее нет.
– Нет водки?.. А покажи мне, что у тебя в ящике.
Содержимое ящика было бедно: оно состояло из рубашки грубого полотна, пустой бутылки из-под водки, которую индеец обнюхал с жадностью обезьяны, из нескольких колосьев маиса, нескольких лоскутков белой бумаги и куска трута. Атука едва сумел скрыть свое неудовольствие.
Разбитый усталостью, Робен начал засыпать. Индеец присел около него и запел длинную, заунывную песню. Он пел о своих подвигах, о том, что на его земле много всяких плодов и злаков, что у него жена – первая красавица во всем племени, что нет быстрее его пироги… Никто лучше его не умеет натягивать лук, никто лучше его не умеет стрелять… Одним словом, в песне до небес превозносились таланты и доблести Атуки.
Беглец крепко заснул. Ему снились дорогие лица: жена, дети, друзья, отдаленные от него неизмеримой далью безжалостного океана.
Когда он проснулся, солнце успело уже совершить три четверти своего пути.
Робен разом вернулся к суровой действительности, стряхнул с себя сладкие и вместе с тем мучительные грезы.
Впрочем, сон все-таки освежил его, обновил силы. И потом – разве он не свободен? Он лежал на зеленой траве в лесу, а не на жесткой койке в остроге. При его пробуждении острожный барабан не выбивал свою несносную дробь.
В первый раз он почувствовал, осознал всем своим существом прелесть леса. Вокруг него высились гиганты деревья, опутанные лианами, точно мачты снастями. Сквозь густую зеленую листву пропускало свои золотистые лучи заходящее солнце, лучи преломлялись в ней, словно в стеклах готических окон, и проливали вниз обильный и яркий свет.
Наконец Робен вспомнил…
– А индеец? Где же он?
Робен вскочил, осмотрелся. Никого не было. Он окликнул. Никто не отозвался. Атука ушел, украв у Робена башмаки и ящик-ранец, в котором заключалось все жалкое достояние беглеца.
Теперь у несчастного остался только тесак, на котором он лежал, потому индеец и не смог его похитить.
В этом поступке выказался в полной мере индейский характер, легкомысленный и наивно-безжалостный. Думая, что у беглеца есть водка, индеец хотел его запугать и поживиться за его счет. Обманутый в своей надежде, он воспользовался, на худой конец, его предложением отведать жареной черепахи. Не найдя в ящике Робена ничего стоящего, он польстился даже и на то немногое, что там было, воспользовавшись сном беглеца, он украл все, не исключая двух черепах, и побежал прямой дорогой в острог доносить о беглеце.
Индеец знал, что за каждый донос острожное начальство платит десять франков. На эти деньги можно купить много водки и напиться до бесчувствия.
Будь у Робена водка, результат был бы тот же самый. Разница только в том, что индеец дольше пробыл бы со своим «кумом», пока не выпил всю водку, а потом все равно побежал бы доносить на него в острог.
Положение Робена становилось опасным. Индеец ходит быстро и, наверное, скоро приведет за собой целую толпу надзирателей.
Нужно было бежать дальше, бежать как можно быстрее, не жалея здоровья и сил.
И Робен пустился вперед, не обращая внимания на свои разутые, израненные ноги.
Он шел, продираясь сквозь чащу, перепрыгивая через поваленные деревья. Ветви хлестали его по лицу, колючки царапали ему тело, но он как будто этого не замечал.
Он думал только о том, чтобы уйти как можно дальше.
Что для него все эти неприятности, по сравнению с погоней, которая грозила ему новым лишением свободы?
Что ему дикие звери? Люди, которые будут за ним охотиться, для него страшнее всяких зверей.
Что ему болотные миазмы? Воздух острога гораздо тяжелее и удушливее.
Он бежал до того, что им начал овладевать горячечный бред. Лихорадка придавала ему силы. Он бежал, как бешеный конь, смутно сознавая, что рано или поздно бег кончится, что он упадет и, быть может, уже не встанет.
Настала ночь, взошла луна, озарив мягким светом своим лес, который наполнился самым разнообразным шумом.
Робен не слышал, не замечал ничего. Он несся куда глаза глядят, ничего не чувствуя, не соображая.
Куда он шел? Он и сам этого не знал.
Он убегал – и больше ничего.
Всю ночь продолжалось это неутомимое бегство. Всходило солнце, и его первые лучи уже начинали разгонять ночной мрак, а Робен все бежал, обливаясь потом и тяжело дыша.
Но наконец и его геркулесова натура не выдержала. Он почувствовал невыносимую тяжесть в голове. Ему сделалось дурно, он споткнулся, упал и пластом растянулся на земле.
Бенуа провел остаток дня очень дурно. Раненая нога распухла, его мучила жажда и начинала колотить лихорадка. Ночью он не мог спать, думая о своем беспомощном положении, которое действительно было ужасным: раненый, один, в лесу, среди всевозможных опасностей.
Когда взошла луна, он увидел над собой, на ветвях деревьев, целую компанию рыжих обезьян, так называемых ревунов, которые затянули над ухом у раненого свой отвратительный концерт. Чтобы прекратить эту музыку, Бенуа с усилием приподнялся, отыскал в кармане револьвер и выстрелил. Обезьяны моментально рассеялись, но, когда замолкло эхо выстрела Бенуа, вдали послышался как бы ответный выстрел.
– Это мои молодцы меня ищут, – сказал раненый. – Выстрелю и я еще раз, и не пройдет четверти часа, как они сюда явятся.
Бенуа выстрелил еще раз, он угадал верно: через двадцать минут явились его помощники, оставившие погоню за тенью и принявшиеся отыскивать потерянного начальника. Сделали наскоро носилки и отнесли раненого в острог.
А через тридцать шесть часов после возвращения надзирателей в острог явился индеец Атука и предложил за хорошее вознаграждение содействовать поимке «белого тигра».
Снова отправились надзиратели, но теперь уже в сопровождении индейца, в погоню за Робеном. Четыре дня бродили они по лесам безо всякого толку и лишь на пятый увидели на траве место, где сохранился отпечаток от падения на землю человеческого тела и следы крови.
Предположили, что Робена съел какой-нибудь дикий зверь, но индеец покачал головой, ушел куда-то один и через полчаса вернулся назад с таинственным видом.
– Идите за мной, – сказал он надзирателям.
Они пошли и, пройдя с полверсты, очутились на поляне, посреди которой стоял маленький шалаш из ветвей, над крышей шалаша вилась тонкая струйка дыма.
– Белый тигр здесь, – произнес тихо предатель.
Глава IV
Мы оставили Робена в ту минуту, как он, обессилев от быстрого и продолжительного бега, упал, как подкошенный, в густую траву, которая обвила его тело, словно зеленым саваном.
Несчастный был при смерти. Он мог бы так и умереть тут, не придя в сознание, и новый скелет забелел бы в пустыне.
Однако этого не случилось. Густая трава смягчила удар от падения, ни один ягуар не прошел поблизости, и страшные гвианские муравьи каким-то чудом не унюхали добычу.
Беглец проспал долго – он и сам не знал, сколько именно, – и стал медленно приходить в себя. К нему вернулось сознание, но физически он ослаб настолько, что не мог пошевелить ни рукой, ни ногой.
Странно! Он не чувствовал в голове ни боли, ни тяжести, шума в ушах не было, пульс бился правильно, дыхание совершалось ровно и нормально. Лихорадочного состояния как не бывало.
Зато во всем теле чувствовалась такая слабость, что, несмотря на все усилия, Робен никак не мог приподняться. Более того, он чувствовал, что весь смочен какой-то теплой жидкостью, от которой шел странный и вместе с тем знакомый запах.
Робен взглянул на свою рубашку. Она была вся красная.
– Да я весь в крови! – пробормотал он. – Где я? И что случилось?
Он ощупал всего себя и привстал на колени.
– А между тем я не ранен… Откуда же эта кровь? И как я ослаб!
Робен находился в глубокой долине, окруженной невысокими холмами; долину орошала небольшая речка с чистой и свежей водой.
Беглец подполз к речке, жадно напился, потом снял с себя рубашку и панталоны и выкупался.

Беглец подполз к речке
Выйдя из воды, он опять почувствовал, что по его телу течет кровь. Он поднес руку ко лбу и посмотрел на нее. Рука была вся красная.
Тогда он принялся ощупывать лицо. Нигде не было никакой раны.
– Как цивилизованный человек недогадлив! – воскликнул он. – Дикарь на моем месте уже давно бы посмотрелся в зеркало.
Робен отыскал глазами широкий лист гвианской кувшинки, сорвал его и опустил в воду, поддерживая на некотором расстоянии от поверхности.
Лицо отразилось в этом самодельном зеркале так же ясно, как в самом лучшем трюмо.
– Вот как! – сказал он после минутного разглядывания, отыскав у себя под левой бровью, около виска, крошечную ранку. – Оказывается, меня во время сна посетил вампир.
Ему разом припомнилось все, что с ним произошло, и он продолжал:
– Странная судьба: люди меня преследуют, а отвратительное животное спасает меня своим кровопийством.
Это была правда. Робен, вероятно, умер бы, если б вампир не высосал из него часть крови, что послужило больному отличным лечением.
Известно, что вампир (особый вид летучей мыши) питается почти исключительно кровью млекопитающих, которую он жадно высасывает посредством особого сосальца, которым снабжен его рот. Прокусив без боли кожу млекопитающего, вампир присасывается к ранке и сосет кровь, пока не напьется.
Вампир обыкновенно нападает на спящих, причем тихо спускается на них, чуть слышно рея своими перепончатыми крыльями, которые навевают прохладу на спящего и усыпляют его еще крепче.
Если бы зло, причиняемое вампиром, ограничивалось только тем количеством крови, которое он высосет, то это было бы еще ничего, потому что количество это вообще незначительно; но дело в том, что кровь продолжает течь из раны и после того, как вампир улетит, и, следовательно, укушенный может умереть от потери крови. И, действительно, таким образом погибает в Гвиане очень много неопытных путешественников, оставшихся ночевать в лесу и не принявших мер предосторожности против вампиров.
Сильное кровопускание принесло беглецу пользу и, по всей вероятности, спасло его от смерти.
Робен оделся и с усилием встал на ноги. Он все еще был очень слаб и едва мог ходить, но все-таки решился идти дальше, несмотря ни на что.
Он огляделся кругом и вскрикнул:
– Что я вижу?.. Неужели это не сон?.. Бананы… кокосы… ананасы… Да никак здесь жилое место?.. Я хочу есть, я умираю с голоду… Надеюсь, те, кому все это принадлежит, не будут в претензии, если я воспользуюсь чем-нибудь… Будь что будет…
Инстинктивным движением он выхватил из ножен тесак, отрезал себе ананас и, очистив душистый плод, принялся жадно есть.
Освежившись и немного заморив червячка, Робен направился к маленькому шалашу, который виднелся метрах в ста от него.
Уединенная хижина была построена из ветвей и прикрыта листьями ваи – особого рода пальмы. Эти листья так прочны и крепки, что сделанная из них крыша может служить лет пятнадцать. Дверь хижины была крепко заперта.
– Тут живет негр, – сказал Робен, знакомый с характером негритянских построек. – Хозяин хижины, должно быть, где-нибудь неподалеку; быть может, он такой же беглец, как и я. А хозяйство свое он держит в большом порядке, надо отдать ему должное.
Робен постучался. Ответа не было.
Он постучался еще и на этот раз посильнее.
– Что нужно? – отозвался из шалаша разбитый голос на ломаном французском языке.
– Я ранен и умираю с голоду.
– Бедный вы человек!.. Но вам нельзя входить ко мне в хижину.
– Отчего же? Я ради Христа прошу, чтобы вы меня впустили… Я умираю… – пролепетал беглец, чувствуя, что им овладевает внезапная слабость.
– Я не могу… не могу… – отвечал разбитый голос, как бы прерываемый рыданиями. – Возьмите все, что хотите, и кушайте, но в хижину не входите и не дотрагивайтесь там ни до чего, иначе вы умрете.
– Помогите!.. Умираю!.. – прохрипел несчастный Робен, у которого подкосились ноги, и он упал на землю у порога хижины.
Разбитый голос, по-видимому, принадлежавший какому-то старику, продолжал:
– О, бедный господин… О, Боже мой!.. Я не могу оставить его так умирать.
Дверь шалаша отворилась, и Робен, лежавший без движения, увидел перед собой, как в тумане, чью-то ужасную фигуру; он смотрел на нее и не верил глазам, думая, что бредит. То был негр, весь изуродованный проказой.
Над страшным, покрытым язвами лицом белела копна курчавых седых волос; все тело было покрыто отвратительными струпьями.
При виде несчастного прокаженного у него сжалось сердце.
Старик негр, тяжело переступая искалеченными ногами, топтался около умирающего и, не решаясь до него дотронуться, чуть не плакал от бессильного отчаяния.
– Боже мой! Боже мой! – вскрикивал он. – Несчастный белый умирает, а я ничем не могу ему помочь… не могу поднять его… Господин! Господин! Встаньте сами и отойдите под тень вот этого дерева.
Робен понемногу приходил в себя. При виде несчастного прокаженного у него сжалось от жалости сердце, но отвращения он не почувствовал.
– Спасибо, друг мой, сердечное спасибо за ваши хлопоты, – сказал он негру. – Теперь мне лучше, и я могу идти.
– О, господин, подождите уходить! Я вам дам на дорогу воды, кассавы, рыбы. Все это есть в шалаше у старого Казимира.
– Спасибо, друг, спасибо! – прошептал Робен. – Бедный старик! Сам такой несчастный, а как много сострадания к ближнему сохранил в своем сердце! – добавил он как бы про себя.
Старый негр весь просиял от этой благодарности, он как бы вырос в собственных глазах от одного сознания, что еще может быть полезен ближнему.

Он увидел перед собой, как в тумане, чью-то ужасную фигуру
Вернувшись в хижину, он скоро вышел оттуда, неся на палке пустую тыкву, которую наполнил водою из реки, и подал раненому.
Между тем из хижины доносился вкусный запах жареной рыбы. Когда она была готова, негр угостил ею Робена, который съел ее, не опасаясь заразы, так как считал, что «огонь очищает все». Негр, радуясь, что нашелся человек, которому он может оказать гостеприимство, был на седьмом небе. Болтливый, как все его соплеменники, темнокожий пустился в рассказы о себе, о своей прошлой жизни, вознаграждая себя за долгое одиночество в пустыне.
Добродушный старик не обратил внимания, что постучавшийся к нему в дверь человек был каторжником. Да это его и не интересовало. Несчастный человек стал дорог старику уже по одному тому, что попросил у него гостеприимства и с благодарностью принял его услугу, не побрезговал прокаженным.
Кроме того, старик вообще любил белых. Они всегда были добры к нему. Он был очень стар, так стар, что и не помнил уж, сколько ему лет. Родился он невольником, на плантации некоего Фавара, находившейся на берегу реку Рура.
– Да, господин, – говорил старик не без гордости, – я был дворовым негром, а не рабочим. Я умею и кушанье готовить, и садовничать.
Господин Фавар был добрым владельцем. На его плантации негров никогда не били, обращались с ними хорошо и смотрели на них, как на людей, а не как на рабочий скот.
Казимир прожил на плантации долго, до глубокой старости. Незадолго до 1840 года он заболел проказой, которая вообще сильно распространена в Гвиане.
Больного поселили отдельно, выстроили ему недалеко от плантации хижину и снабдили всем необходимым.
Но вот пробил час освобождения невольников. Владение рабами было отменено. Произошел экономический переворот, вследствие которого многие плантаторы разорились и покинули свои имения. Фавар уехал в Европу, негры его разбрелись в разные стороны. В довершение беды хижину Казимира разрушило наводнение и затопило место, где она стояла. Несчастный прокаженный был вынужден покинуть насиженное местечко и идти куда глаза глядят. Долго бродил он по пустыне, пока не набрел на то место, где впоследствии нашел его Робен. Здесь старик выстроил себе хижину и стал обрабатывать землю. Трудами рук своих он кормил себя круглый год и жил безбедно.
Робен внимательно слушал рассказ старика, за все время не проронив ни слова. В первый раз со времени отъезда из Франции несчастный беглец чувствовал себя сколько-нибудь сносно. Хижина прокаженного после острога казалась ему раем.
Рай обездоленных!
Как хотелось Робену пожать руку бедному старику, который был несчастнее его самого!
– Как хорошо жить здесь! – бормотал он. – Да уж не остаться ли мне тут в самом деле?.. Попробую скажу ему и посмотрю, как он к этому отнесется.
Подумав еще немного, Робен сказал вслух:
– Послушай, Казимир, ты несчастен, я тоже. Меня преследуют люди, я не имею угла, а тебя люди отвергли. Будем жить вместе. Я останусь здесь, и мы будем вместе работать. Согласен?
Негр был поражен. Он никак не ожидал подобного предложения, наполнившего радостью его сердце.
– Ах, господин, господин! – воскликнул он с восторгом. – О, белый, сын мой!
Но вдруг он вспомнил про свою ужасную болезнь, свое безобразие и, закрыв руками лицо, упал на колени, горько рыдая…
Робен заснул под бананом. Сон его был беспокойный, с бредом. Наутро беглец проснулся в сильной лихорадке.
Казимир не потерял голову от горя, а придумал, как устроить убежище для своего нового друга. Хижина, по его мнению, была вся пропитана заразой, поэтому он задумал очистить ее и использовать по новому назначению. И вот старик взял заступ, соскоблил с земляного пола хижины толстый слой, а землю выкинул подальше, набросал на пол горячих углей и, когда они потухли, устлал его весь ветвями макуйи, которые срезал тесаком, не прикасаясь к ним руками.
Очистив таким образом для больного место и приготовив ему постель, негр подошел к Робену и ласково сказал:
– Вставайте, кум, и ложитесь сюда.
Робен послушно, как ребенок, вошел в хижину, лег на приготовленную постель и крепко заснул.
Лихорадка его всё усиливалась. Негр видел это и понимал, что нужно действовать быстро, решительно, иначе гость умрет.
На тщательно обработанной засеке прокаженного росли не только пищевые растения, но и лекарственные. Среди прочих там было очень много кустиков батато – очень горького растения, действующего совершенно так же, как хинин или салицил. Но Казимир видел, что болезнь Робена приняла воспалительный характер, и понимал, что для лечения ее требуются средства более сильные, например, шпанские мушки, нарывной пластырь или, по крайней мере, пиявки.
Где же ему было все это взять?
Старик слегка задумался, но тут же просиял, насколько могло просиять его изуродованное лицо.
– Хорошо, – сказал он. – Это мы сейчас сделаем.
Он взял свой тесак и тыквенный сосуд и, ковыляя на искалеченных проказой ногах, отправился к берегу ручейка.
Разыскивая что-то на земле, он несколько раз наклонялся, брал что-то в руку и затем опускал в сосуд, приговаривая:
– Так, так… Хорошо… Это самое мне и нужно.
Не пробыв в отсутствии и десяти минут, он вернулся к своему больному гостю, наклонился над ним и, вынув из тыквы за голову какое-то блестящее черное насекомое в полтора сантиметра длиной, с толстым брюшком и ясной перемычкой посередине тельца, приложил его задним концом тела за ухо больному.
Насекомое выпустило крепкое, короткое жало и вонзило его в кожу Робена.
– Так, так, – прогнусавил старик. – Это хорошо.
Бросив это насекомое, Казимир достал из сосуда второе и приложил его к другому уху больного, потом достал третье и приложил опять к первому уху, немного пониже первой ранки, и повторил всё до шести раз.

– Так, так, – прогнусавил старик. – Это хорошо
Операция была мучительной. Больной громко стонал сквозь сон и беспомощно метался.
Прошло четверть часа, и вот за каждым ухом больного появилось по большому нарыву, наполненному серозной жидкостью. Больному стало заметно лучше; дыхание сделалось ровнее, воспаленные щеки побледнели. Медицина самоучки-доктора творила просто чудеса.
– Да, да, – бормотал Казимир. – Эти гвианские муравьи очень помогают, очень. Лучше средства нет.
Робен пришел в себя, и тяжелый, болезненный сон сменился легкой и приятной дремотой. Пробормотав «спасибо», он тихо вздохнул и погрузился в сон.
Средство, примененное Казимиром, сотворило чудо, а между тем оно было очень простым, хорошо известным всякой южноамериканской или среднеафриканской знахарке, но совершенно не знакомым нашим докторам.
Пожилой негр просто приставил к коже Робена гвианских муравьев, которые, как и африканские, действуют сильнее и быстрее шпанских мушек. Не только их жало, но и выделяемая ими жидкость действует как отличное вытягивающее средство, вызывая быстрое и обильное нагноение, которым очищается зараженная кровь больного.
Когда Робен проснулся, Казимир напоил его настоем листьев батато, и через сутки больной оказался уже вне всякой опасности, хотя был еще очень слаб.
С болотной лихорадкой справились, но злоба людей не дремала.
Прошло дня четыре. Вдруг в одно прекрасное утро Казимир, уходивший куда-то в лес, возвратился в хижину, запыхавшийся, испуганный, и сказал:
– Друг мой!.. К нам идут какие-то белые люди… только не добрые, а злые… и с ними индеец.
Глава V
Принесенное Казимиром известие не особенно поразило Робена. Он был готов ко всему.
В глазах его сверкнули молнии.
– Хорошо, – сказал он. – Я очень слаб, но все же буду защищаться. Живым им не дамся ни в коем случае. Слышишь, Казимир?
– Слышу. Но я не хочу, чтобы они вас убивали. Спрячьтесь под листьями макуйи и не шевелитесь. Казимир проведет злых белых за нос. Вот увидите.
Беглец взял свой тесак, показавшийся очень тяжелым для его ослабевшей руки, и молча зарылся в листья.
Вскоре послышались быстрые шаги. Звякнуло ружье, и чей-то грубый голос крикнул:
– Именем закона, отворите!
Негр послушно отворил дверь, не дожидаясь повторения требования, и выставил свое обезображенное лицо.
Посетители окаменели, словно увидели голову медузы. Индеец, не ожидавший подобной встречи, совершенно опешил.
Последовала пауза.
– Войдите, – сказал Казимир с приветливым жестом и ласковой улыбкой, которая, впрочем, вышла у него отвратительной гримасой.
– Это прокаженный, – сказал один из белых, одетый в мундир острожного надзирателя. – Ни за что не войду к нему в хижину.
– Что же вы не входите, господа? – спросил негр.
– Да как входить-то? Тут, наверное, все прогнило, все пропитано проказой. Не может быть, чтобы здесь спрятался беглец.
– Как знать, – возразил другой надзиратель. – Не остаться бы нам в дураках… Можно принять некоторые меры предосторожности.
– Ну, ты и принимай, и входи, а я не желаю. Тут один воздух чего стоит…
– Я войду, – сказал индеец, думая о награде и о многочисленных стаканах водки, которые можно будет купить на полученные деньги.
– Я тоже! – объявил второй надзиратель. – Ведь, черт возьми, не умру же я от этого.
– Милости просим, – сказал Казимир, состроив довольную мину.
Надзиратель, обнажив тесак, первым вошел в хижину, скудно освещенную солнечными лучами, проникавшими через дверь. Индеец последовал за ним, осторожно ступая на цыпочках.
Всю меблировку хижины составляла жалкая койка прокаженного. На полу стояла убогая утварь. В углу лежал ворох листьев макуйи. Больше не было ничего.
– А здесь что такое? – спросил надзиратель, указывая тесаком на ворох.
– Не знаю, – отвечал с глупой усмешкой негр.
– Не знаешь? Так я узнаю сам.
И он замахнулся тесаком, собираясь запустить его в листья.
В этот момент послышался резкий, пронзительный, хотя и негромкий, свист, и надзиратель как стоял с поднятой рукой, вооруженной тесаком, так и застыл в этой позе.
Он, казалось, окаменел от ужаса. Индеец тем временем успел выбежать вон. Он тоже испугался до смерти и даже забыл думать про водку.
– Ай-ай, – кричал он. – Ай-ай!
В голосе его слышался невыразимый ужас.
С полминуты надзиратель не мог опомниться. Прокаженный стоял неподвижно и незаметно щерился коварной улыбкой.
– Что же вы не ищете? – спросил он.
Голос негра привел надзирателя в себя. Он встрепенулся и пробормотал, задыхаясь:
– Ай-ай!.. Это ай-ай!.. Малейшее резкое движение – и я погиб. Надо убираться подобру-поздорову.
Тихо, осторожно отставил он назад одну ногу, потом другую и торопливо попятился к выходу.
Он было уже вздохнул с облегчением, как вдруг над его головой снова раздался тот же свист. У надзирателя волосы встали дыбом.
С потолка, шурша чешуей, медленно спускалась длинная, тонкая змея, толщиной с горлышко графина. Цепляясь хвостом за балку, змея опустила голову вниз и готовилась вонзить в надзирателя свои ядовитые зубы.

Цепляясь хвостом за балку, змея опустила голову вниз
Не помня себя от ужаса, он отскочил назад и со всего размаху запустил в змею свой тесак. К счастью для него, тесак разом отсек гадине голову, и она упала на пол.
– Змея! – кричал он. – Гремучка!..
Он, как сумасшедший, выбежал вон, наткнувшись дорогой еще на третью змею, которая, извиваясь, проползла по полу хижины.
Вся сцена длилась не дольше минуты. Выскочившего вон надзирателя ожидал его товарищ, который молча смотрел на его испуганное лицо и ждал пояснения.
– Ну, что там такое? Говори!
– Там… все… змеи, – пролепетал несчастный.
Негр вышел из хижины вслед за надзирателем.
– Ах, сударь, – сказал он. – Сколько змей!.. Полная хижина.
Старик, казалось, был тоже очень испуган.
– Так ты, значит, не живешь в ней, в хижине-то?
– Как «не живу»? Живу понемножку, сударь.
– Так откуда же в ней змеи? Ведь они забираются только в покинутые жилища.
– Я не знаю.
– Ты не знаешь!.. Я подозреваю, что ты знаешь очень много, но притворяешься, будто не знаешь.
– Я в хижину змей не пускал.
– О, этому-то я верю. Поэтому, чтобы с тобой не случилось ночью беды, мы твою хижину сожжем.
Старик задрожал. Если хижина загорится, гость его погиб. Поэтому он начал жалобно молить надзирателей, чтобы они смилостивились над ним и не трогали хижину. Он стар, слаб и не в силах будет выстроить себе новую. Неужели им не жалко будет оставить его без приюта?
– В сущности, какое нам дело? – сказал тот надзиратель, который входил в хижину. – Пусть сидит со своими змеями, если желает. Можно поручиться, что белого тигра в хижине нет.
– Это верно, – согласился его товарищ, и мы, по совести говоря, сделали все, что было возможно.
– По-моему, нам теперь можно и уйти.
– Я тоже так думаю. Кстати, где же индеец?
– Убежал. Завел нас сюда и убежал.
– Уж попадись он мне когда-нибудь на узенькой дорожке, я его проучу.
И надзиратели удалились, как истинные философы, смирившись со своей неудачей.
Казимир смотрел им вслед, ехидно посмеиваясь.
– Ну, куманек, – весело сказал негр, возвращаясь в хижину, – как поживаете?
Робен высунул из вороха листьев свою бледную голову и огляделся.
– Так они ушли? – спросил он.
– Ушли… испугались… – засмеялся негр.
– Но как же тебе удалось их спровадить?.. И потом – отчего это так пахнет мускусом?
Тогда прокаженный признался, что он умеет заговаривать змей и что ему не страшен даже ай-ай – самый опасный вид гремучей змеи. Так зовут ее за то, что укус ее смертелен и укушенный ею человек моментально умирает, успевая только раз вскрикнуть от боли.
– Я позвал змей, белые испугались и убежали.
– А если бы они ужалили меня?
– О нет. Я положил около вас такой травы, что они не поползли бы в вашу сторону. Но вы все-таки не выходите из хижины; индеец убежал в большой лес; он, наверное, за вами следит.
Предположение негра оказалось справедливым. Через несколько часов после ухода надзирателей Атука бесстыдно появился около хижины.
– Ты дурной человек, – сказал он негру. – Ты помешал нам изловить белого тигра.
– Уходи, злой индеец, – отвечал Казимир и презрительно плюнул. – Убирайся, дрянь. А если ты еще придешь к моей хижине, старый прокаженный наведет на тебя пиаи[5].
При слове «пиаи» суеверный индеец пустился бежать прочь без оглядки, точно кариаку, преследуемый тигром.
Несмотря на все выпавшие на долю Робена приключения, он не особенно отклонился от определенного для себя пути.
Он не хотел отдаляться от течения Марони, которая служит границей между обеими Гвианами, и почти достиг своей цели.
Не имея при себе компаса, он не мог как следует ориентироваться. Казимир в этом отношении – ему не помощник. Но в настоящий момент беглец и не очень интересовался этим; ему гораздо важнее было позаботиться о своем насущном пропитании. Он знал приблизительно, что Марони находится где-то к востоку, днях в четырех пути, и только. Больше он не знал ничего, не знал даже имени реки, на берегу которой стояла хижина.
Впрочем, Робен предполагал, что это река Спарвин. Если предположение было верно, то Робену грозила опасность быть пойманным, потому что начальство Сен-Лоранского острога установило усиленный надзор за устьем этой реки.
Робен выздоровел, к нему вернулись силы, а с ними энергия и непобедимое желание во что бы то ни стало сохранить так дорого купленную свободу.
Прошел месяц после того памятного дня, когда Казимир при помощи змей обратил в бегство врагов Робена. Беглец свыкся со своей спокойной жизнью и отдохнул от тревог и телом, и душой.
Но все-таки его не покидала мысль о семье, о милых сердцу жене и детях. Каждый день, каждый час тосковал он о них. Не проходило ночи, чтобы он не видел их во сне.
Как подать им весть о себе? Как уведомить их, что его час освобождения пробил?
Проекты, один другого несбыточнее, роились в голове Робена. Одно время он подумывал пройти через голландскую территорию и добраться до Демерары, главного города английской Гвианы. Там он рассчитывал найти себе какую-нибудь работу, скопить немного денег и поступить матросом на какой-нибудь корабль, отходящий в Европу.
Но Казимир путем неотразимых доводов совершенно разбил этот химерический проект. Он напомнил Робену, что голландцы постоянно выдают французскому правительству беглых каторжников, вступающих на их территорию, и, что, следовательно, они выдадут и Робена. Но даже если ничего подобного и не случится, все-таки Робену этим путем никогда не добраться до английских владений.
– Ну а если я поднимусь вверх по реке Марони, которая в верховьях своих сообщается с Амазонкой, разве я не могу тогда спуститься в Бразилию по реке Ярро или по какому-нибудь другому притоку? – продолжал вслух раздумывать беглец.
– Не знаю, кум, может быть, это и можно. Вы только не торопитесь, подождите немного.
– Хорошо, Казимир, я буду ждать сколько можно. Мы заготовим с тобой съестных припасов, построим лодку и пойдем оба. Хочешь?
– Это очень хорошо.
Перед тем у Робена были с Казимиром частые и долгие споры о том, ехать ли им обоим или одному Робену. Негр просил, чтобы Робен взял его с собой, а Робен не соглашался, не желая подвергать старика случайностям долгого и трудного пути. Он не боялся заразы, вовсе нет, но Казимир очень уж был стар и дряхл. Хорошо ли снимать несчастного, больного старика с теплого, насиженного местечка, где он ни в чем не нуждался, и увлекать за собой в опасное предприятие?
Робен не был таким эгоистом. Он отказывался брать с собой Казимира. Но тот настаивал и, когда Робен наконец согласился, так обрадовался, что на коленях благодарил своего кума.
Невольным движением Робен протянул прокаженному обе руки и поднял его.
– Что вы делаете?! – воскликнул старик с печальным испугом. – Зачем вы меня трогаете? Заразитесь!
– Ничего, Казимир, не бойся. Я очень рад пожать тебе руку: ты такой добрый, хороший… Верь мне, друг, твоя болезнь вовсе не столь заразна, как это принято думать. Я много учился во Франции и знаю, что, по мнению лучших докторов, проказа почти неприлипчива. Некоторые из них даже уверяют, что лучшее средство остановить проказу – это покинуть места, где она свирепствует. По правде сказать, я немного надеюсь, что в другой стране тебе будет лучше, и вот, между прочим, почему я беру тебя с собой.
Из слов Робена Казимир понял только одно, что его не бросят. Мало того: ему даже пожали руку. Уже пятнадцать лет старику никто не пожимал руки. Не мудрено, что он был в восторге.
С этой минуты план отъезда был выработан окончательно. Робен и Казимир вдвоем построят небольшую лодку и нагрузят ее провизией в достаточном количестве. Поплывут они ночью, и вообще всегда будут плыть только ночью, а днем прятать лодку где-нибудь на берегу и сами прятаться за деревьями.
Они будут плыть вверх по Марони до тех пор, пока не найдут какого-нибудь притока, сообщающегося с Эссеквибо, весьма значительной рекой в английских владениях.
Тогда они будут спасены, потому что город Джорджстаун, или Демерара, находится у устья этой реки.
Таков был в общих чертах грандиозный проект, задуманный сообща Робеном и Казимиром. Трудности впереди предстояли громадные, но о них как-то не думалось в то время, когда сочинялся проект.
Провизии под руками было много. Стоило только набрать растительных продуктов, наловить и насушить рыбы и приготовить достаточный запас.
Оставался только один вопрос: из чего построить лодку? Челнок из коры не годился; он был бы непрочен, протекал, припасы бы в нем портились, и наконец сам он мог разбиться, натолкнувшись на пороги, которых предстояло преодолеть немало. Следовало выбрать какой-нибудь другой материал, покрепче.
Решили построить лодку из цельного дерева бембы, как делают негры-бони. Из выдолбленного и обструганного ствола бембы получается превосходная лодка, которая одинаково хорошо продвигается вперед носом и кормой.
Прежде всего, нужно было найти подходящее дерево, то есть не слишком маленькое и не слишком большое, крепкое, совершенно здоровое, без сучков и трещин.
Два дня проходили Казимир и Робен по окрестным лесам, отыскивая идеальный экземпляр бембы, и только на третий день нашли наконец то, что хотели. Немедленно приступили к работе – принялись рубить дерево. Но увы! Работа шла очень медленно. У Казимира был только небольшой топорик, который почти не врубался в древесину, несмотря на усилия работавших.
Что было делать? К счастью, старый отшельник был знаком со всеми способами, какие в подобных случаях в ходу у лесных жителей. Так как железо не помогало, решили прибегнуть к помощи огня. Развели под деревом большой костер, который горел двое суток и подпалил-таки дерево: оно с треском рухнуло на землю.
Это было ночью. Казимир проснулся, завозился на своей постели и вскрикнул обрадованным голосом:
– Кум! Кум! Вы не слышите?.. Дерево упало… Бум… Тррр… и готово.
Робен проснулся тоже и от радости не мог больше спать.
– Это первый шаг к нашему освобождению, – сказал он. – У нас нет инструментов долбить ствол, но…
– О! – перебил старик. – У негров-бони нет инструментов. Они делают лодки огнем.
– Знаю: они выжигают лодки огнем и потом обтесывают их тесаком или даже просто острыми камнями, но я придумал средство получше.
– Какое же, кум?
– У тебя есть заступ, я приделаю к нему рукоятку, и вот у нас будет отличное долото. Я тебе ручаюсь, что лодка выйдет гладкая и снаружи, и внутри.
Сказано – сделано. Не теряя времени, два друга приспособили заступ для новой цели и отправились на свою верфь.
Весело разговаривая, они дошли до поваленного дерева, которое еще дымилось.
– Ну, скорее за работу! – сказал Робен. – Я…
Он не договорил и остановился как вкопанный.
Перед ним, точно из-под земли, вырос высокий худой человек в одежде каторжника, вооруженный тесаком.
– Как, Робен! Это вы! – воскликнул каторжник. – Вот не ожидал вас встретить.

Перед ним точно из-под земли вырос высокий худой человек в одежде каторжника
Робену эта встреча была крайне неприятна. Во-первых, она напомнила ему весь ужас острога, во-вторых, он боялся, что каторжник явился не один, что за ним идет целая банда беглецов, а за той, в свою очередь, гонится толпа надзирателей.
Он не отвечал ни слова. Каторжник продолжал:
– Вы молчите? Ну да, ведь вы всегда были такой… неразговорчивый. Это ничего не значит. Я все равно очень рад вас видеть в добром здравии.
– В самом деле, Гонде, я вас сначала и не узнал, – с усилием проговорил наконец Робен.
– Да, я Гонде. Ну, как поживаете, Робен?
– А вы как сюда попали? – уклонился Робен от ответа.
– Я-то? В качестве лесного разведчика. Вы знаете, администрация острога выбирает всегда из каждого отряда каторжников кого-нибудь одного, знающего толк в деревьях, и посылает его на поиски мест, удобных для устройства засек. Вот меня и послали как человека знающего и притом надежного.
– А где же ваши остальные товарищи?
– О, не беспокойтесь, они далеко… за три дня не дойти.
– Стало быть, вы не беглец?
– Зачем мне бегать? Через полгода у меня все равно кончится срок. А вы, кажется, уже боитесь, что я на вас донесу? Не бойтесь, между нами это не водится, да, по правде сказать, весь острог был очень рад, что вы бежали, и все желали вам искренне всякого успеха.
– А что, скажите, начальство все еще собирается меня ловить?
– И не думает… Один только Бенуа помышляет пуститься в погоню за вами, как только выздоровеет. Но только до этого еще далеко, и вы, надеюсь, успеете укрыться где-нибудь подальше… Э, да что я все болтаю пустяки, а про главное-то и молчу. Знаете, вскоре после вашего побега получили на ваше имя письмо… от вашей супруги.
– Письмо!.. Как жаль, что я поторопился!
– Острожное начальство вскрыло, конечно, его, и потом ходили слухи, что в письме сообщалось, будто вас согласны помиловать, если вы сами подадите ходатайство…
– Ни за что!
– Впрочем, ведь я не знаю наверняка, а только передаю, что сам слышал… И начальство сказало по этому поводу: «Слишком поздно». Потом говорили, что, если бы вас поймали и вернули, то совсем простить вас было бы нельзя, но можно превратить в ссыльного поселенца… это ведь тоже большое облегчение… и позволить вашему семейству приехать к вам…
– Моей семье! В этот ад! Возможно ли это?!
– Ну, да все это одни слухи. А хорошо бы вам познакомиться самому с содержанием письма. Послушайте, я ваш должник. Вы спасли мне жизнь, когда я однажды упал в Марони и стал тонуть. Позвольте мне оказать вам услугу.
– Какую?
– А вот какую. Я здесь почти совершенно свободен, мне доверяют, как уже почти отбывшему свой срок. Я вернусь в острог, притворюсь, что болен лихорадкой, и лягу в лазарет. Там я постараюсь узнать всё как можно подробнее, затем выпишусь и вернусь сюда, чтобы вам рассказать. О, ради бога, согласитесь принять от меня эту услугу… ради бога!.. Умоляю вас!..
Робена это тронуло.
– Ступайте. Я согласен и буду очень благодарен вам.
– Вот спасибо!.. Уж так-то вы меня обрадовали так обрадовали… Да, постойте, вот еще что: у меня есть книжка, в которой я записываю отмеченные деревья. В ней еще остались два или три чистых листка. Напишите на родину письмо, а я берусь его отправить. Близ острова стоит голландский корабль, нагруженный лесом; он скоро отходит в Европу. Наверное, на нем найдется добрая душа, которая согласится доставить письмо, особенно, если узнает, что оно не от обыкновенного каторжника. Вы согласитесь, не обидите меня отказом? Да?
– Да, – пролепетал Робен, – благодарю вас.
И он тут же написал тонким убористым почерком письмо на двух вырванных из поданной ему книжки листках, сложил их, надписал адрес и протянул Гонде.
– Итак, – сказал тот, – я заболеваю лихорадкой, узнаю все, что нужно, и возвращаюсь к вам… До свиданья, господин Робен!
И каторжник скрылся в густых лианах.
Надежда ободрила Робена. Веселее и энергичнее прежнего принялся он за работу, которая живо закипела в его руках. Старый Казимир помогал ему изо всех сил.
Глава VI
Спустя полтора месяца после побега Робена из острога в Париже, на улице Сен-Жак, происходило следующее.
Было 1 января. Дул северный ветер, и в Париже стояли сильные холода. По грязноватой лестнице громадного старого дома, набитого мелкими квартирантами, поднималась на шестой этаж бедно и по-вдовьи одетая дама, очевидно, принадлежавшая когда-то к лучшему обществу, как было заметно по ее манерам и всей наружности.
Дойдя до своей квартиры, дама вынула из кармана ключ, вложила его в замок и тихонько повернула. За дверью послышались веселые детские голоса:
– Это мама!.. Мама пришла!
Дверь отворилась, и четыре мальчика кинулись навстречу матери. Она перецеловала их всех с несколько нервной лаской.
– Ну что, детки, хорошо ли вы себя вели без меня?
– Хорошо, мама. Мы не шалили, и даже Шарль сидел тихо.
Шарль был самый младший и шаловливый. Ему было только три года.
Дама подняла голову и увидела в глубине комнаты высокого молодого человека в рабочей блузе, сконфуженно мявшего в руках свою шляпу.
– А, это вы, Андрэ! – сказала она. – Здравствуйте.
– Я пришел поздравить вас с Новым годом, сударыня… и малюток ваших… и хозяина… то есть господина Робена, я хотел сказать… заочно…
Дама вздрогнула. Ее красивое, осунувшееся лицо побледнело, и она грустно взглянула на большой портрет в золотой рамке, висевший на стене. Этот портрет составлял резкий контраст с голыми стенами и жалкой обстановкой мансарды, где, однако, видны были кое-какие вещи, сохранившиеся от прежнего богатства.

Она грустно взглянула на большой портрет в золотой рамке
На небольшом комодике под портретом стоял маленький букет из цветов мать-и-мачехи, которые были редкостью в это время года. Увидев этот скромный подарок парижского рабочего, дама была, видимо, глубоко тронута. Глаза ее наполнились слезами, и к горлу подступили рыдания.
Дети тоже заплакали, глядя на мать. А между тем был первый день нового года. Другие парижские дети веселились, получали игрушки, а дети ссыльного плакали…
Мать их пересилила себя, отерла слезы и с благодарностью протянула руку молодому рабочему, говоря:
– Благодарю вас, Андрэ, – и за него, и за себя.
– Нет ли чего-нибудь нового, сударыня?
– Ничего еще не знаю. Средства мои истощаются, работы мало. Молодая англичанка, которой я давала уроки, заболела и уезжает на юг; у меня остается только вышиванье, а глаза мои слабы. Не знаю просто, что и делать.
– Вы забываете, сударыня, мою работу. Я могу увеличить число своих рабочих часов в день… Ведь зима не век будет продолжаться.
– Нет, Андрэ, я не забываю вашей доброты, вашей внимательности и очень вам благодарна за них, но я ничего не могу от вас принять.
– Напрасно, сударыня, это мой долг. Ваш супруг дал мне воспитание, когда моего отца убило при взрыве парового котла. Месье Робен поставил меня на ноги, дал мне возможность зарабатывать себе на хлеб, и если моя старушка мать умерла спокойно и не в нужде, то этим я обязан ему. Таким образом, сударыня, я вам не чужой.
– Но это не причина, чтобы вы из-за нас надрывали себя работой.
– Где же я надрываюсь? Я молод, здоров, силен, это для меня ничего не значит.
– Я не желаю, чтобы вы ради нас отказывали себе в самом необходимом; вы зарабатываете вовсе не так уж много…
– Но, сударыня, я все равно что свой…
– И все-таки я не могу согласиться. После, может быть… я посмотрю… если очень плохо придется… если дети, например, заболеют… или голод… Но поверьте, я очень тронута вашим предложением.
– Но однако… неужели его не возвратят из ссылки? Многих уже возвратили…
– Для этого нужно подавать просьбу о помиловании, а мой муж ни за что не будет просить помилования у того, кого он считает узурпатором…
Молодой ремесленник понурил голову и молчал.
– Впрочем, – продолжала молодая женщина, – я сегодня собираюсь ему писать… или, вернее, мы все ему напишем. Не так ли, дети?
– Да, да, мама, – отвечали старшие мальчики, а младший, Шарль, чинно усевшись в уголке, немедленно принялся царапать что-то на четвертушке бумаги.
Кончив царапанье, он с довольным видом подошел к матери и сказал:
– Вот, мама… это мое письмо к папе.
Молодая женщина села к столу и написала мужу письмо, в котором, тщательно избегая всего, что могло бы понапрасну расстроить Робена, извещала его о хлопотах друзей по поводу его помилованья.
«Но так как, – писала она, – там ставят непременным условием, чтобы ты написал сам просьбу о помиловании, ты же, вероятно, на это не согласишься, то надежды на благополучный исход почти нет никакой. Во всяком случае, говорят, тебе согласятся дать землю в Гвиане и сделать тебя ссыльнопоселенцем».
Под письмом подписалась мать и старшие дети, уже выученные ею писать, а также и Шарль, попросивший, чтобы мать дала ему в руки перо и водила его рукой по бумаге, причем малютка посадил на письмо огромную кляксу.
Три дня спустя почтовый корабль из Гавра уже нес письмо в Гвиану. Госпожа Робен терпеливо стала ждать ответа, но прошел январь, миновал февраль, начался март, а ответ не приходил. Бедная женщина начала тревожиться. Вдруг однажды утром ей приносят письмо с городской маркой. В письме какой-то делец, совершенно ей не знакомый, приглашал ее к себе в контору для переговоров об очень важном деле.
Госпожа Робен отправилась по адресу. Ее принял молодой человек, изысканно одетый, но несколько вульгарный по наружности и манерам, хотя довольно приличный. Госпожа Робен сказала свою фамилию. Молодой человек холодно поклонился и спросил:
– Мое пригласительное письмо с вами?
– Вот оно.
– Очень хорошо. Третьего дня я получил от своего представителя из Парамарибо известие о вашем муже…
– Из Парамарибо… о моем муже?.. Ничего не понимаю.
– Ну да, из Парамарибо, иначе говоря из Суринама, в голландской Гвиане. Ваш муж бежал из острога и скрывается в Гвиане, где для него гораздо безопаснее, чем в Европе. Впрочем, он вам и сам пишет. Вот его письмо.
Госпожа Робен взглянула и сразу узнала почерк мужа. Письмо было то самое, которое Робен написал в лесу на листках, вырванных из записной книжки Гонде.
– Значит, он свободен! – вскричала молодая женщина. – И я могу его видеть!..
– Вам даже присланы через меня деньги на поездку к нему. Лучше всего вам будет ехать через Амстердам: меньше формальностей и не нужен паспорт. Мне поручено также позаботиться о вашей безопасности, покуда вы не сядете на голландский корабль. Желаете вы ехать, сударыня?
– Желаю. И с детьми?
– Да, сударыня.
– Когда же?
– Чем скорее, тем лучше.
Таинственный делец устроил все так скоро, что госпожа Робен на другой же день выехала из Парижа со всеми детьми и с верным Андрэ, который ни за что не хотел покинуть жену своего благодетеля.
Они высадились в Суринаме после тринадцатидневного благополучного плаванья.
Робен и старый негр долго возились над стволом бембы, резали, пилили, обжигали, строгали, сглаживали, и наконец у них получилась очень прочная лодка.
Оснастить лодку было нетрудно: сделали к ней весла и приколотили две скамеечки, да еще приготовили парус из рогожи, который используется туземцами в единственном случае: если плыть приходится под ветром. В остальных случаях парус снимается. Этим и ограничиваются познания туземцев в мореходном искусстве.
Пирогу опробовали и остались довольны. Теперь нужно было только дождаться возвращения Гонде, и можно будет ехать. Но Гонде не приходил. Прошло пять недель, а о нем не было ни слуху ни духу. Робен потерял всякую надежду его увидеть и уже решил ехать, не дожидаясь его, как вдруг накануне того самого дня, на который был назначен отъезд, каторжник появился на засеке. Он был худ, бледен и едва держался на ногах.
– Наконец-то! – вскричал Робен. – Что с вами случилось, что вы так долго не шли?
– Я не виноват… Доктор догадался, что я притворяюсь, и не принял меня в лазарет, а Бенуа, узнав об этом, жестоко избил меня, так что я действительно слег и прохворал все это время… Но подлец Бенуа за это поплатится, будьте спокойны.
– А что же… письмо?
– Здесь удача полная, не беспокойтесь… Вот, смотрите.
Каторжник уселся на пень, тяжело перевел дух и вынул из кармана записную книжку, из которой достал листик бумаги и подал Робену.
То была самая точная копия письма госпожи Робен, с содержанием которого мы уже познакомили читателя.
С волнением и восторгом прочитал Робен копию с милых строк, потом обратился к каторжнику и сказал:
– Спасибо, Гонде, большое спасибо!
– Не за что, господин Робен, я все-таки ваш должник. Я никогда не забуду, что вы спасли мне жизнь.
– Но как вам удалось достать письмо?
– Очень просто. Ведь эти господа надзиратели бывают иногда ужасно глупы. Они взяли да и подшили письмо к вашему делу, а я попросил писца канцелярии показать мне его. Он мне принес письмо, а я снял копию и отдал оригинал назад. Вот и все… И кутерьма же теперь идет в остроге, я вам скажу! Все мечутся, как угорелые, из-за вашего побега. Говорят, Бенуа будет отдан под суд; он озлоблен страшно и хочет непременно вас отыскать. Поэтому прячьтесь хорошенько, будьте осторожны.
– Когда же мне прятаться? Я хочу ехать, бежать…
– Подождите, теперь нельзя. Устье реки кишит рабочими-каторжниками, и начальство острога усилило там надзор. Подождите, по крайней мере, покуда я не отыщу другое место в лесу для вырубки…
– Как, опять ждать? Да я умру от нетерпения.
– Одну неделю всего, умоляю вас.
– Хорошо, я подожду, но только…
– Вот и прекрасно, – сказал каторжник, вставая. – А теперь мне пора в острог…
– Вы бы покушали хоть чего-нибудь, – предложил негр.
– Благодарю. У меня совсем нет аппетита: эта лихорадка проклятая…
– Ну, выпейте настоя батато, – настаивал негр.
Каторжник опять отказался. Робен понял, что он просто брезгует прокаженным, и вызвался приготовить настой сам. Сделав это, он напоил каторжника, который с кислой гримасой проглотил поданный ему целительный напиток, поблагодарил и ушел, на прощание еще раз попросив Робена подождать неделю.
Раньше недели ехать все равно было нельзя: запас провизии не был еще полностью подготовлен. И прежде всего следовало приготовить на дорогу куак, или муку из кассавы. Робен знал питательные свойства этого растения, но не имел ни малейшего понятия о том, как из него делается мука.
Но с ним был Казимир, который все это знал.
– Ну, кум, давайте тереть маниок[6], – сказал негр.
Накануне они нарыли большой запас клубней кассавы, который хранился у них под большим навесом. Старик принес откуда-то крепкий брусок текового дерева, зазубренный в виде подпилка, и пояснил:
– Вот чем следует тереть.
– Этим? – изумился Робен. – Но ведь этак мы и в месяц не изотрем всего, что мы собрали.
– Это вы говорите оттого, что не знаете… Вот как надо делать.
И негр, уперев брусок одним концом в столб хижины, а другим в грудь Робена, подал своему ученику очищенный корень кассавы.
– Вот так вы и трите, а я буду чистить.
Робен усердно принялся за работу, растирая клубень за клубнем, которые подавал ему негр, и скоро у ног его образовалась большая груда тертой мякоти.
– Не дотрагивайтесь до терки, кум, а то, если вы оцарапаете себе руку и на нее попадет сок, вы умрете.
Робен и сам знал, что сок кассавы ядовит, хотя сама она и представляет весьма питательное вещество. Поэтому ее можно употреблять в пищу, лишь предварительно выжав из нее весь сок.

– Если вы оцарапаете себе руку и на нее попадет сок, вы умрете
«Интересно будет посмотреть, – подумал Робен, – как мы этот сок выжмем».
Когда перетерто было достаточное количество клубней, Казимир принес из хижины длинный и тонкий мешок в виде чулка, сплетенный из волокон арумы.
– Выжимать вот в это, – сказал негр.
Робен сразу догадался, как это делать. Нужно было ссыпать тертую мякоть кассавы в этот мешок и положить его под гнет.
Этим способом очень скоро выжали сок из всего запаса маниока. Затем всю массу разложили сушить на солнце, и через некоторое время получилась достаточно сухая мука, хотя и крупная, словно отруби.
Над приготовлением муки и печением из нее лепешек Казимир и Робен провозились долго, больше недели. Гонде все это время не приходил. Это начинало беспокоить Робена. Неужели каторжнику не удалось отыскать другого места для работ и убрать работающих от устья реки?
Беглец и не предполагал, что его ожидает новый тяжелый удар, и притом с совершенно неожиданной стороны.
Покончив с приготовлением маниока, Робен и Казимир отправились однажды на берег реки, отчасти просто так, для прогулки, отчасти для того, чтобы взглянуть на свое детище, то есть на пирогу, которая была у них спрятана в прибрежных камышах и привязана к берегу лианой.
Робен усердно принялся за работу
Войдя в густые камыши, Робен потянул за лиану и удивился: лиана слишком легко поддалась ему, без малейшего сопротивления. У несчастного выступил на лбу холодный пот.
Предчувствуя недоброе, он углубился в камыши, расчищая себе путь тесаком направо и налево. Лодки не было нигде.
Последнее время шли большие дожди. Очень может быть, что они залили лодку, и она затонула. Этому горю можно было легко помочь. Робен нырнул в воду и начал ощупывать и осматривать дно. Ничего не нашлось, ни малейшего следа пироги; только вспугнутые кайманы пустились от Робена в разные стороны. Тем временем негр деятельно продолжал поиски в камышах.
Удар был тяжелый, но беглец и тут не пришел в совершенное отчаяние.
– Ничего, мой друг, не унывай, – говорил он негру. – Мы сделаем другую лодку. И то слава богу, что провизия у нас готова и убрана в надежное место.
Печальные, пошли они домой. Шли они быстро, поддаваясь какому-то вдруг проснувшемуся в них инстинктивному побуждению – поскорее взглянуть на свое жилище. Вот уже до него недалеко.
Но что это значит? Над засекой стоит густой дым, в воздухе сильно пахнет гарью…
Робен бегом бросился вперед к хижине, которую еще не видно за бананами…
Хижины больше нет, только груда золы курится на том месте, где она стояла. Инструменты, посуда, тщательно заготовленная провизия – все исчезло. Огонь истребил все…
Глава VII
Когда пропала лодка, Робен успокаивал:
– Зато у нас много собрано провизии.
И вот роковая случайность самым безжалостным образом доказала ему, что он ошибся.
Теперь у него и у Казимира не было ничего, все плоды их трудов пропали. Нечего было и думать о бегстве, по крайней мере, еще долго-долго. Более того: беглецу и прокаженному грозил в недалеком будущем голод.
И подумать только, что для такого громадного бедствия достаточно было одной какой-нибудь искорки от непотушенного очага!
Бедный старик впал в совершенное отчаяние. Он тупо глядел на груду пепла, на обгорелые столбы, на испорченные орудия, на уничтоженную, перелопавшуюся посуду, глядел и даже не находил слез, чтобы плакать.
Не так держал себя белый. При виде страшного бедствия он вздрогнул, побледнел – и только.
Странное дело: его гораздо меньше волновал пожар в хижине, чем пропажа лодки. В пожаре он видел просто несчастный случай, тогда как пропажу лодки он приписывал не иначе как злому умыслу.
Но кто же злодей? И с какой целью совершено злодеяние?
Надзиратель Бенуа? Но если бы он знал, где найти Робена, то преспокойно явился бы со своей свитой и забрал его. Красть лодку ему не было никакой надобности.
Каторжник Гонде? Кстати, о нем что-то нет ни слуху ни духу, точно он в воду канул. Но нет, и ему незачем было красть лодку. Если бы он хотел, то мог бы давно донести на Робена и натравить на него целую ораву надзирателей. К тому же он дал столько доказательств своей искренности.
Робену стало совестно за свое предположение. Он упрекнул себя в излишней недоверчивости и поспешил отогнать от себя прочь вкравшееся в душу подозрение.
Но кто же в таком случае?
– Ах, конечно, вот кто – индеец.
Негодяй Атука ни за что не хотел расстаться с мыслью о доносе на белого тигра и о плате в десять франков, на которые он мог бы себе купить «много, много водки». Конечно, это он украл лодку, больше некому.
Но как бы там ни было, а терять время на бесплодные сожаления не стоило. Робен решил немедленно приступить к исправлению положения по мере возможности и быстро составил себе новый план.
– Казимир, – сказал он ласково старому негру, который по-прежнему сидел в безмолвном отчаянии перед грудой пепла. – Послушай, Казимир!
Старик вышел из своего оцепенения и жалобно зарыдал, как ребенок.
– О, добрый мой господин, я болен, я умру.
– Не отчаивайся, друг, не падай духом, – утешал его Робен.
– Я не могу, добрый господин, не могу… Казимир умрет тут… около своей хижины.
– Пойдем, Казимир. Я захвачу с собой инструменты. У них только рукоятки обгорели, я приделаю новые и выстрою тебе хижину, накормлю тебя. Пойдем же, бедный старик, пойдем.
– Не могу… не могу, – жалобно стонал прокаженный. – Я умираю, я уже почти умер…
– Да нельзя же здесь оставаться, говорят тебе. Пойдем.
– Вы идите, а я не могу.
– Если не можешь, я тебя понесу, но здесь не оставлю.
– Ах, нет, нет, я уж лучше сам пойду.

– Я не могу, добрый господин, не могу…
И старик сделал несколько шагов, шатаясь на своих слабых больных ногах.
«Несчастное создание!.. – подумал Робен. – С моей стороны, в самом деле, жестоко тащить его с собой».
– Послушай, Казимир, – прибавил он вслух, – не беспокойся, пожалуйста. Я устрою тебе хижину в лесу, где-нибудь тут поблизости, наберу бананов, маниока и накормлю тебя. Поверь, с голода мы не умрем.
– Спасибо, спасибо… вы очень добры.
– Ну вот, так-то лучше. Я буду работать за двоих, я силен и здоров, следовательно, еще не все потеряно.
– Да и ровно ничего не потеряно, – сказал вдруг сзади чей-то голос, – хотя надо признать, что на земле есть страшные мерзавцы.
Робен обернулся и узнал Гонде.
– Вижу, что с вами случилось несчастье, – продолжал каторжник. – Ваша лодка пропала, я заметил это, когда шел вдоль реки. Хижина ваша сгорела. Это тем более жаль, что путь теперь свободен.
– Вам-таки удалось!
– Удалось как нельзя лучше. Я нашел местечко с замечательными экземплярами розового дерева.
– Какая жалость!
– Успокойтесь, работы будет месяца на три, а за эти три месяца вы будете уже далеко.
– Ах, если б ваши слова осуществились!
– Я уверен в этом. И, знаете, я даже думаю, что ваши несчастья послужат вам на пользу.
– Это каким образом?
– Скоро кончатся дожди, и по реке поедут вниз к устью негры боши и бони. У них вы можете получить хоть десять лодок вместо вашей одной.
– А могу ли я положиться на этих негров после того, что со мной сделал Атука?
– Бони и боши – не индейцы, они не пьяницы и не предатели, а, напротив, очень честные, приветливые и гостеприимные люди.
– Да, да, это верно, – подтвердил Казимир.
– Значит, вы советуете подождать здесь несколько недель? – спросил Робен.
– Не именно здесь, но где-то поблизости. Постройте себе хижину где-нибудь в чаще, только главное – не оставляйте за собой ни малейшего следа. Ручаюсь вам, что в таком случае вас ни за что не найдут.
– А чем мы расплатимся за то, что нас перевезут в лодке?
– У вас здесь под ногами растет на земле много всякой провизии. Негры-бони после сезона дождей всегда нуждаются в провизии, и если вы соберете хороший запас и предложите им, то они с радостью перевезут вас куда угодно за эту плату.
– Хорошо, тем более что иного выхода нет.
– Если я могу вам хоть чем-нибудь быть полезен, то располагайте мной.
– Спасибо, Гонде! Я верю вам безгранично.
– И хорошо делаете, потому что я предан вам всей душой. Кстати, вот что я вам скажу. Около того места, где вы прятали вашу лодку, есть лесок – такой густой, что через него невозможно пройти иначе, как по руслу протекающего там ручейка, имеющего не более метра глубины и теряющегося в болоте. За болотом есть местечко, где вы бы отлично могли построить себе хижину и укрыться на время от преследования. Там бы вас уж никто не нашел.
– А как же пройти через болото?
– Посередине болота есть полоска твердой земли, прикрытая илом. Я случайно открыл эту полоску, идущую через все болото от одного конца до другого. Полоска узенькая, не шире ножа, но, опираясь на палку, можно будет, я думаю, пройти.
– Хорошо. Завтра мы пойдем туда, – сказал Робен.
– Да, да, пойдем, – согласился Казимир, уже успевший успокоиться.
– Позвольте мне проводить вас, а на эту ночь остаться с вами, – предложил Гонде.
– Оставайтесь. Я буду вам очень благодарен.
На другой день Робен, Гонде и Казимир двинулись в путь.
– Бог не допустил, чтобы я умер здесь, – вздохнул негр, расставаясь со своей засекой.
– Нелепая страна! Право, нелепая страна!.. Негров – сколько хочешь, деревья – без ветвей, с какими-то оловянными листьями, мухи и насекомые надоедают день-деньской, солнце жжет, фрукты… о, эти фрукты! Точно консервы на скипидаре!.. От жары у меня лупится нос, и, кажется, с него скоро сойдет вся кожа. Нелепая страна!
Бледная, измученная женщина в трауре слушала с печальной улыбкой эту воркотню двадцатилетнего юноши, говорившего по-французски с неподражаемым прононсом парижских предместий.
– И ко всему этому, – продолжал молодой человек, – целые тысячи обезьян и попугаев. Что касается туземного говора… Фу, Боже мой, что за гадость! Для слуха утомительно, для ума непонятно… А уж пища – лучше о ней и не говорить: рыба – точно подошва, суп – какая-то противная кашица… Однако что же это я все болтаю, пожалуй, детей разбужу.
– Да я не сплю, Андрэ, – возразил детский голос с кроватки, завешенной пологом.
– И я тоже не сплю, – отвечал другой детский голосок.
– Напрасно, Эдмонд. Днем непременно нужно лежать в постели, а то с тобой сделается солнечный удар.
– Мне скучно весь день лежать.
– Ну, детки, будьте же умниками, – сказала бледная дама. – Мы завтра едем.
– Ах, мамочка, как я рад!.. А как мы поедем? Опять по воде?
– По воде, сынок.
– Меня опять будет тошнить… Но это ничего, зато потом я увижу папу.
– Так, следовательно, вы окончательно решили, сударыня? Мы завтра уезжаем из Суринама, или, как его называют здешние жители, из Парамарибо?.. Это очень хорошо! Хотя мне и надоело путешествовать, хотя, быть может, та страна, куда мы приедем, окажется нисколько не лучше Суринама, но, по крайней мере, мы там все будем в сборе, так сказать… А ведь вы, сударыня, кажется, все еще ничего не изволите знать?
– Ничего, мой милый. Все это какая-то тайна, совершенно для меня не понятная. Когда мы сюда приехали, то оказалось, что нас здесь ожидали, как и в Амстердаме. Какие-то таинственные друзья позаботились о том, чтобы все для нас приготовить, и хорошо сделали, потому что иначе мы чувствовали бы себя, как в лесу. Посредник парижского дельца, приняв нас с голландского корабля, устроил все для нашего дальнейшего путешествия, и завтра мы едем. Более я ничего не знаю. Эти таинственные незнакомцы со мною холодно-вежливы, сдержанны и чрезвычайно пунктуальны. Можно подумать, что они повинуются каким-то приказаниям, исходящим свыше.
– А, знаю. Ваши слова особенно можно отнести к тому господину в очках и с бараньей головой… Как бишь его?.. Ван… Ван-дер… Дальше, хоть убейте, не помню… Это еврей, но очень любезный еврей и деловитый, как они все. Во всяком случае, сударыня, это верно: до сих пор мы ни на что не можем пожаловаться на наших незнакомых благодетелей. Покуда всё идет гладко, и мы путешествуем, как посланники. Не знаю, чем только все это кончится. Как-то выдержит дальнейшую езду мой нос?
– Ну, ну, Андрэ, не пугайтесь заранее, – сказала госпожа Робен, улыбаясь на эту воркотню. – Через три дня мы доедем до места, следовательно, осталось уж недолго путешествовать. А что жарко – это ничего.
– Да я и не пугаюсь, сударыня, это я только так говорю, к слову. Если вам неплохо и вашим деткам тоже, то мне и подавно.
На другой день госпожа Робен с детьми и Андрэ сели на бриг «Tropic Bird»[7], два раза в месяц совершающий рейсы вдоль берегов голландских земель.
Капитан лично встретил пассажиров, представитель проводил их на корабль, раскланялся с госпожой Робен и уехал обратно на берег. Якорь поднят, паруса надулись, и «Птица» понеслась к выходу в море.
Вот и оно, наконец. Госпожа Робен и дети переносили тошноту довольно терпеливо, перемогали себя, но несчастный Андрэ поминутно подвергался припадкам рвоты…
Госпожа Робен сидела, погруженная в думы. К ней подошел капитан и назвал ее по имени. Она подняла голову и увидела его перед собой в почтительной позе, со шляпой в руке.
– Вы принесли счастье нашему бригу, сударыня, – сказал капитан. – Давно я не помню такого благополучного плаванья.
– Да вы, должно быть, француз! – вскричала жена ссыльного, удивляясь совершенно чистому произношению капитана.
– Я капитан голландского судна, – возразил тот, – и обязан знать как можно больше иностранных языков. Что касается чистоты моего французского произношения, то в этом моей заслуги нет: мои родители были французами.
Андрэ поминутно подвергался припадкам рвоты.

Несчастный Андрэ поминутно подвергался припадкам рвоты…
– О, сударь, если вы мой соотечественник, то позвольте мне обратиться к вам с вопросом. Скажите, как мне найти того, кого я оплакиваю? Что мне нужно для этого сделать? И куда вы меня везете?
– Сударыня, я не знаю, от кого идут те приказания относительно вас, которые мне приходится исполнять. Впрочем, я отчасти догадываюсь, но так как эта тайна не моя, то я не могу вам ее открыть. Все, что я могу вам сказать, – это только то, что ваш муж жив и благополучно бежал из острога, но вынужден скрываться, так как голландское правительство не делает различия и всех преступников выдает одинаково, опасаясь дипломатических неприятностей. Благодаря этому обстоятельству вам предстоит, сударыня, трудный путь.
– Я не боюсь трудностей, я сильная. У моих детей нет отечества, поэтому они должны жить там, где будет их отец.
– Кроме того, сударыня, вам придется прибегнуть к некоторым уловкам, чтобы обмануть ваших соотечественников, если нам придется пристать к французскому берегу.
– Что же нужно сделать? Я готова на все.
– Они могут удивиться, увидев вас с детьми на моем корабле… Нужно будет объяснить, что я их отец и что вы моя жена… Вы говорите по-английски?
– Как на родном языке.
– Отлично. Поэтому вы не должны говорить ни слова по-французски. А ваш старший мальчик?
– Он тоже хорошо говорит по-английски.
– Превосходно. Остальных мы постараемся не показывать никому. Мой корабль остановится в Альбине, близ фактории одного голландского купца. Под предлогом того, что я хочу показать своему семейству водопад Сент-Эрмину, я вас спущу с корабля под охраной двух матросов-негров, на которых полагаюсь вполне. Они вас высадят на небольшом островке и будут заботиться о вас. Я не уйду назад до тех пор, пока не получу от вас записки, что все завершилось благополучно и что вы нашли своего супруга.
– Хорошо, сударь, я согласна на все. Дикая жизнь меня не пугает. За последнее время я так много выстрадала, что буду рада всякой перемене. Во всяком случае, верьте, сударь, что вы для меня олицетворяете всех моих неведомых благодетелей и благодарность к вам никогда не изгладится из моего сердца.
Слова капитана, что семейство ссыльного принесло счастье бригу, оправдались до конца. Плавание было исключительно благополучным и быстрым, так что через двенадцать часов вдали показался остров Клотильды, лежащий против устья Марони. Бриг бросил якорь рядом с Альбиной, не подходя к французскому острогу.
Капитан отыскал и нанял туземную лодку с одним негром, к которому присоединил еще двух обещанных госпоже Робен матросов. Отъезд с корабля для пущей безопасности совершен был ночью, и семейство ссыльного благополучно высадилось на островок близ водопада Сент-Эрмины.
Дети были в восторге оттого, что ступили на землю, да еще такую зеленую и цветущую. Андрэ тоже был рад, что отделался наконец от морской болезни. Негры устроили привал, наловили рыбы и приготовились варить обед. Вдруг вдали на французском берегу взвился белый дымок, и раздался выстрел, заглушенный расстоянием.
От берега отделилась лодка и быстро оказалась на середине реки. Хлопнул еще один выстрел, и за первой лодкой пустилась вторая. Между обеими лодками было не больше двухсот-трехсот метров. Что это было? Очевидно, что-то серьезное. Вероятно, бежали какие-нибудь очень важные преступники, потому что преследующие, не задумываясь, прибегли к оружию.
Первая лодка быстро приближалась и становилась все виднее. Она выигрывала расстояние, но медленно. Вот уже можно было разглядеть, что в ней сидят двое и отчаянно гребут. На задней лодке – четверо, из которых двое были с ружьями. Беглецы, очевидно, хотели объехать остров и сделать так, чтобы он оказался между ними и преследователями. Это было единственное средство спастись.
У госпожи Робен сжалось сердце. Что еще будет? Свидетельницей каких ужасов еще придется ей быть?
Дети притихли, испуганные, побледневшие. Андрэ довольно неумело вертел затвор двустволки, подаренной ему голландским капитаном.
Преследователи, угадывая намерение беглецов, попытались перерезать им путь: они стреляли без перерыва, и пули ложились на воду недалеко от преследуемой лодки.
Вот первая пирога подходит к острову все ближе и ближе, вот уж она от него не более как в ста метрах. Пуля, лучше других направленная, ударила в весло и перебила его. Гребец схватил другое и продолжал грести с прежней энергией.
Теперь можно было разглядеть совершенно ясно: один из ехавших в лодке был белый, он сидел впереди, а второй – негр – сидел сзади.
Госпоже Робен показалось, что у нее на глаза опускается туман. Ей чудилось, что свод небесный все больше наклоняется, готов упасть на нее и придавить своею тяжестью.
Она сделала несколько шагов к берегу, с тоской ломая руки. Страшный крик вырвался из ее груди:
– Это он!.. Это его убивают!
И она упала на песок, словно пораженная молнией.

– Это он!.. Это его убивают!
Глава VIII
Вернемся теперь к нашему беглецу Робену и прокаженному Казимиру.
Гонде проводил их в уединенную густую рощу, и они прожили в ней более месяца, задыхаясь среди болотных испарений и питаясь растительной пищей, которой, к счастью, было достаточно.
Долго ждали отшельники знака от Гонде, что можно ехать, но ожидания их все были напрасны. Наконец в одно прекрасное утро Робен, проходя по илистому руслу ручья, в надежде увидеть обещанный знак, вдруг подпрыгнул, точно увидел змею. На воде качалась привязанная к большому корню дерева легкая пирога, снабженная двумя парами весел, – та самая пирога, которую своими руками построили Робен и Казимир и которая так неожиданно пропала месяц тому назад.
Но как же она здесь очутилась? Она была нагружена бананами и сухарями и, очевидно, перед тем долго была в воде, потому что борта ее были мокры и покрыты водяной слизью.
Со всех ног побежал Робен к негру, чтобы сообщить ему поскорее радостную весть.
– Казимир! – кричал он на бегу. – Казимир! Мы едем сейчас же!
– Куда?
– Наша лодка отыскалась. Она тут и готова в путь. Это значит, что устье свободно и что мы можем ехать…
– Славно, кум, очень хорошо! Я пойду с вами! – говорил негр, подпрыгивая на своих больных ногах, точно малый ребенок.
Сборы их были недолги. Они протащили лодку волоком до бухты реки Спарвина, спустили ее на воду, сели, взмахнули веслами и понеслись по течению.
Вскоре они миновали верфь, которая была теперь совершенно пуста, и поплыли дальше к устью Спарвины, где эта река впадает в Марони. Пирога то и дело натыкалась на плывшие мимо нее бревна сплавляемого леса, но гребцы искусно лавировали между ними. Вот наконец и Марони.
Беглецы на минуту остановили лодку и внимательно оглядели берега. Подозрительного нигде ничего не было.
– Вперед, и как можно быстрее, – тихо сказал Робен.
Лодка птицей понеслась по волнам Марони, противоположный берег которой виднелся верстах в трех.
Беглецы уже было поверили в свое близкое спасение, как вдруг позади них послышались яростные крики, затем грянул выстрел, и в воду шлепнулась пуля.
– Вперед, Казимир! Вперед! – кричал Робен, налегая на весла.
Сзади им кричали:
– Стой! Стой! К оружию!.. Лови их, держи!
Грянул второй выстрел, потом третий.
Робен обернулся и увидел, что от берега в погоню за пирогой отваливает шестивесельная лодка.
– Не робей, друг, – ободрял он Казимира. – Мы плывем быстрее их, мы еще можем от них уйти… Ах, разбойники, ах, негодяи!.. Во всяком случае, живым я им не дамся.
– Эти злые люди нас не догонят, нет, – твердил Казимир. – Мы уплывем от них.
– Видишь впереди островок? Правь прямо на него. Мы обогнем его и, таким образом, на время прикроем себя от выстрелов.
Пирога быстро приближалась к островку, но и преследователи не отставали. Выстрелы сыпались все чаще и чаще. Одна из пуль сломала весло Робена. Он схватил запасное и продолжал грести. При этом он вскрикнул от досады и поднял голову. На его крик с островка отозвался отчаянный женский вопль. Это вскрикнула госпожа Робен, узнавшая своего мужа.
Беглец увидел, как чья-то черная фигура упала на песок, как около упавшей забегали дети. Подбежал какой-то человек в европейской одежде…
Это, конечно, не враги, но кто же это такие?
Откуда взялись здесь эта женщина… эти дети?
– Великий Боже! Неужели?!
Пирога неистово неслась к берегу… Беглец греб изо всех сил… Набежавшая высокая волна подхватила лодку и бросила ее на берег. Лодка с размаху вонзилась носом в песок…
Робен, как тигр, одним скачком выпрыгнул из лодки, побежал к своей жене и с ужасом и изумлением оглядел детей, которые себя не помнили от страха…
Враги между тем приближались. Робен одним взглядом зафиксировал Андрэ, негра-бони, опирающегося на ружье, и большую лодку, стоящую под тенью дерева.
– Месье Робен! – крикнул парижанин.
– Андрэ!.. Ко мне!.. В лодку!.. А вы оставайтесь здесь, – обратился беглец к голландским матросам.
С этими словами, подхватив левой рукой под мышки лежащую без чувств жену, а пальцами схватив за одежду своего младшего сына, он бросился к другой лодке и положил их туда, между тем как Андрэ принес трех других детей и подошел, ковыляя, Казимир.
– Садись! – скомандовал Робен.
Негр-бони повиновался без возражений.
– Весла!..
Их подал Робену голландский матрос. Казимир сел спереди, Робен – на второй скамье, негр-бони – на задней.
– Вперед!..
Лодка отчалила и быстро понеслась по воде, а изумленные суринамские негры-матросы остались на островке с севшей на мель пирогой.
Бони догадался, что нужно делать. Он быстро повернул лодку, и она скрылась за островом. Преследователи были удивлены: они увидели на островке только двух негров. Впрочем, они сейчас же догадались, в чем дело, и погоня возобновилась с прежней настойчивостью, но уже без надежды на успех. Новая лодка беглецов была нагружена тяжелее прежней пироги, но зато у них был новый гребец – негр-бони, который один стоит трех.
Беглецов уже было не догнать, но зато можно подстрелить, потому что они еще не ушли из-под выстрелов. И вот снова на них посыпались пули. Робен старался прикрыть собой жену и детей. Госпожа Робен медленно пришла в себя. Ее опрыскал водой усердный, но неловкий Андрэ.
– Спасен!.. Он спасен!.. – лепетала несчастная женщина.
– Папа, они опять стреляют! – говорил старший сын Робена, Андрэ.
Робен был взбешен. Было время, когда он не только пощадил свирепого Бенуа, но даже спас его от смерти. Робен все простил своему тюремщику, все полученные от него обиды и притеснения, но теперь этот тюремщик угрожает его детям! Любящий отец в такую минуту способен на все.
Бешено выхватил он у негра-бони ружье, прицелился в своих гонителей и закричал:
– Разбойники! Люди без сердца, без чести, без совести! Остановитесь, или я буду стрелять!
Тюремщики поняли, что Робен доведен до отчаяния, что он не остановится ни перед чем, и опустили свои ружья. Да им все равно пришлось бы прекратить погоню: уже был слышен шум водопада. Они оказались недалеко от Сент-Эрмины…
Только негры-бони умеют переправляться через эти пороги, с которых вода низвергается шумными каскадами. Так как на лодке наших беглецов такой негр был, то они благополучно проплыли опасное место, тогда как лодка преследователей, не осмелившихся идти дальше, повернула назад.
Казалось бы, опасность миновала для наших беглецов, но появилась новая – голод и зной. Дети, видимо, изнемогали, но молчали, и только младший, Шарль, жалобно пропищал:
– Папа, я есть хочу!..
Робен вздрогнул, а его жена безмолвно адресовала ему взгляд, полный тоски. Нужно было что-нибудь предпринять, иначе дело могло кончиться плохо.
– Казимир, – сказал вдруг Робен решительным тоном, – надо причалить к берегу. Дальше плыть нельзя: дети не вынесут. Скажи, что надо делать? Я готов ко всему, я сделаю даже невозможное.
– Поплывем к берегу, – отвечал Казимир, посоветовавшись с негром-бони, которого звали Ангоссо.
Через полчаса пирога вошла в маленькую бухточку, затерявшуюся в тени высоких развесистых деревьев. Доступ в бухточку открывался через узкий, едва приметный канал.
– О, мой кум, я очень доволен, – сказал Казимир. – Я дам детям молока и яичного желтка.
Робен и Андрэ разом взглянули на старика и подумали: «Уж не сошел ли он с ума? Где же здесь коровы и куры?»
Ангоссо проворно нарубил ветвей ваи и, вбив в землю несколько кольев, устроил лиственную хижину для госпожи Робен и детей. Затем он вынул из лодки две тыквенные бутылки, выбрал два высоких дерева с гладким красноватым стволом и сделал на их коре по глубокому надрезу.
К удивлению Андрэ, из надрезов потекла в подставленные бутыли белая густая жидкость.
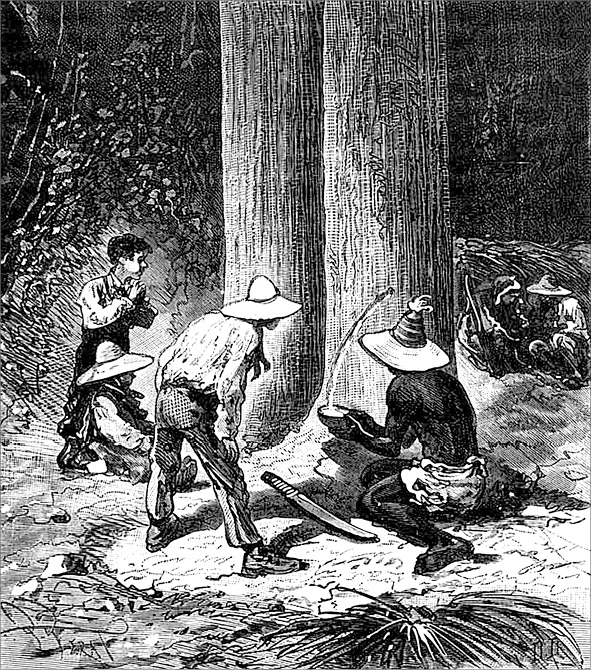
К удивлению Андрэ, из надрезов потекла белая густая жидкость
– Да ведь это и впрямь молоко! – вскричал Андрэ. – Настоящее молоко!
Он взял одну из посудин и подал ее Шарлю.
– Пей, малютка. Это самое свежее молоко.
Ребенок жадно прильнул губами к посудине и напился.
– Вкусно, малютка?
– Вкусно… Дай теперь маме и другим.
Все пили с удовольствием, всем было весело, и даже сам Робен смеялся – едва ли не в первый раз после того, как был сослан на каторгу.
– Как же называется это удивительное дерево? – спросил Андрэ.
– Балата, – отвечал Казимир.
– Ах, балата, молочное дерево! – воскликнул Робен. – Представь себе, Андрэ, мне оно известно по книгам, а между тем я никогда не видел его. Нет, опыт – великое дело!
– Еще бы! – с уверенностью произнес парижанин. – Без практики невозможно ничему выучиться как следует…
Может быть, Андрэ и дальше распространялся бы на эту тему, но в это время его внимание привлек какой-то круглый предмет, упавший с соседнего дерева. Он поднял голову и увидел Ангоссо, который сидел на толстом суку и улыбался до ушей.
– Яичный желток! – вскричал Андрэ, поднимая круглый предмет, видом и цветом похожий на апельсин.
– Кушайте, – сказал Казимир. – Это вкусно.
– О, с удовольствием.
Молодой человек надкусил плод, но сейчас же поморщился и вскрикнул:
– Ай! Чуть зуб себе не сломал.
– Что такое? Отчего?
– Я думал, что этот плод пустой, а там внутри косточка, и претвердая.
– Вкусен ли он, по крайней мере?
– Суховат немного, но ничего, есть можно. Да вы и сами можете попробовать – видите, сколько их сыплет с дерева наш почтенный Ангоссо.
«Яичный желток» пришелся всем по вкусу, и дети, утолив голод, улеглись спать. Но Робен все-таки не был абсолютно спокоен. Он знал, что этой пищи будет недостаточно, что ею одной долго питаться нельзя. Выручил Ангоссо.
– Я напою рыбу в бухте пьяной, – сказал он.
– Что? Как ты сказал?
– Я напою рыбу пьяной и наловлю ее. Набросаю в воду листьев и цветов нику. Рыбы очень его любят, они будут жадно пить, напьются допьяна, и тогда их можно будет наловить сколько угодно.
Негр отправился куда-то и через час вернулся, неся охапку лиан и пук каких-то листьев и желтых цветов.
– Это пьяное дерево, – сказал Ангоссо.
– Это нику, – весело пояснил Казимир.
– Вот, Анри, гляди и учись, – сказал Робен своему старшему сыну, который проснулся и выглянул из шатра. – Эти листья и цветы дерева из породы акаций, так называемый robinia nikou. По книгам это дерево я знал, но о его опьяняющем свойстве мне ничего не было известно. А между тем при помощи этих листьев и цветов негры наловят нам рыбы.
– Поедемте, господин, – сказал подошедший Ангоссо.
Он уже успел приготовить лодку.
– Куда?
– Здесь не очень удобно. Мы выберем для привала другое место, получше.
Вся компания уселась в лодку, которая быстро переплыла на другую сторону бухты и вышла в устье ручейка, впадавшего в бухту и протекавшего каким-то лесом.
Наскоро построили новый шалаш, и Ангоссо принялся за дело.
Взяв пучок зелени нику, он прежде всего истолок ее и превратил в ком; проделав то же самое с другими пучками, он разбросал их в воде около берега. Вода начала быстро впитывать в себя сок растения, и наши беглецы стали свидетелями чрезвычайно оригинального зрелища.
Со всех сторон к берегу устремились тучи всевозможных рыб, крупных и мелких. Они жадно пили отравленную воду и почти моментально лишались чувств.
Их выуживали прямо руками. Таким образом, получился огромный улов.
Теперь оставалось только приготовить его для употребления в пищу. Лучше всего рыба сохраняется в копченом виде. Негры-бони это знают и умеют отлично ее коптить.
Ангоссо сейчас же приступил к делу.
Он вбил в землю четыре кола с раздвоенными наподобие вил концами и положил на них четыре поперечины, на которых, кроме того, сделал решетчатую настилку из жердей. Устроив эту коптильню, он до половины заполнил ее сухими ветвями и листьями, а поверх настилки выложил наловленную рыбу.

Он вбил в землю четыре кола с раздвоенными наподобие вил концами
Затем он развёл огонь, и скоро коптильня была охвачена густым дымом. Когда все прогорело, рыба, лежавшая на решетчатой крыше коптильни, оказалась великолепно прокопченной.
Благодаря опытному и ловкому негру у наших гвианских робинзонов получился теперь весьма солидный запас сравнительно калорийной пищи, во всяком случае, более питательной, чем растительная.
Глава IX
Едва успели наши робинзоны поужинать, как солнце скрылось за горизонтом, и долина, где они разбили лагерь, погрузилась в темноту, освещаемую лишь красноватыми огоньками нескольких коптилен, сооруженных негром Ангоссо.
Дети спали. Шарля держала на руках госпожа Робен, сидевшая рядом с мужем и слушавшая рассказ изгнанника о его бегстве из острога.
Когда Робен закончил, она, в свою очередь, поведала мужу подробности своего путешествия в Гвиану, устроенного какими-то таинственными благодетелями. Изгнанник зашел в совершеннейший тупик, не зная, на кого и думать, но потом вспомнил, что некоторые из его политических единомышленников, спасшиеся от ссылки, поставили себе задачу всячески содействовать бегству и спасению своих менее счастливых товарищей. Так, одному ссыльному, очень богатому человеку, удалось бежать в Гаагу; очень может быть, что это именно он помог госпоже Робен уехать из Европы. Что касается капитана «Тропической птицы», то, судя по описанию его наружности, сделанному госпожой Робен, изгнанник догадывался, что это некто С***, офицер французского военного флота, спасшийся бегством после декабрьского переворота и поступивший на службу в голландский торговый флот. Его корабль курсировал у берегов Гвианы, и он не пропускал ни одного удобного случая оказать помощь и содействие гвианским ссыльным.
Супруги Робен остановились на этом предположении и, продолжая свою тихую душевную беседу, не замечали, как бегут часы. Ангоссо тем временем занимался своим делом, переходя от одной коптильни к другой и присматривая за тем, как коптится рыба.
Вдруг невдалеке послышалось глухое ворчанье, оно напоминало мяуканье кошки, только было во сто раз громче. Ангоссо поднял голову и посмотрел в ту сторону, откуда доносилось ворчанье. Там над травой виднелись две блестящие точки. То были глаза тигра, пристально глядевшего на коптильни.
Тигр был, очевидно, голоден и явился на запах рыбы. Судя по его мурлыканью, похожему на мурлыканье кота, когда он в хорошем расположении духа, тигр был, по-видимому, довольно добродушного нрава. Однако Робен все-таки забеспокоился и взял ружье негра, собираясь выстрелить в зверя.
– О, господин, не надо ружья, – остановил Робена Ангоссо. – Выстрел разбудит и напугает детей. Я прогоню тигра хитростью.

– О, господин, не надо ружья, – остановил Робена Ангоссо. – Выстрел разбудит и напугает детей
У негра был с собой большой запас кайенского перца, которым в Гвиане приправляются все кушанья за неимением соли. Посмеиваясь над своей выдумкой, Ангоссо взял большую рыбину, проделал в ней несколько дыр и вложил в них пять или шесть зерен перца, потом кинул эту рыбу в сторону тигра.
– На тебе, обжора, – сказал негр.
Тигр на лету подхватил начиненную перцем рыбу и убежал с ней прочь.
Спустя не более четверти часа возле бухты послышалось страшное рыканье. Ангоссо буквально покатился со смеху. Робен спросил его, почему он смеется?
– Тигр сердится, – отвечал негр. – Перец жжет ему желудок, и зверь идет пить воду.
– Значит, и он опьянеет, как рыба?
– Нет, от нику пьянеют только рыбы, а у людей и зверей лишь живот болит… Слышите, слышите, он опять сердится.
Тигр, напившись воды из отравленной бухты, жалобно мяукал, стонал и фыркал, точно больная кошка. Потом, не надеясь, должно быть, утолить этой слабительной водой мучившую его жажду, пустился в дикое бегство.
У наших беглецов на привале водворилась тишина.
Итак, гвианские робинзоны на несколько дней были обеспечены запасом рыбы – «постным столом», как говорил в шутку Андрэ. Хотя они не видели причины опасаться чего-либо, однако на другой день утром, не теряя времени, стали держать совет, что им делать дальше.
Плыть вверх по Марони было рискованно ввиду того, что прибытие европейцев в Верхнюю Гвиану неминуемо произвело бы сенсацию и слух об этом достиг бы и острога. Всего безопаснее было идти лесом, куда-нибудь на запад, остановиться недалеко от какого-нибудь ручья, выбрав место сухое, высокое, неболотистое, а далее поступать по возможности.
Но тут явилась новая беда. Ангоссо, считая, что он уже выполнил все свои обязательства и обещания, вознамерился возвратиться к себе домой, в свою родную деревню.
Беглецы ничего не могли предложить ему такого, чтобы он соблазнился и остался, а между тем вместе с Ангоссо они лишались и его пироги. Нужно было придумать что-нибудь, как удержать его при себе.
Учтиво, но твердо отклонял он все обращенные к нему настойчивые упрашиванья, как вдруг на выручку явился Андрэ.
Он не понимал слов, но по жестам разговаривающих догадался, о чем идет речь. Видя, что дело плохо и что Робену никак не удается уломать Ангоссо, он вдруг подошел к негру и сказал:
– Милый друг, у нас нет никаких раковин, никаких блестящих безделушек, которые вас так прельщают и ради которых вы согласились бы, конечно, остаться с нами. Но у меня есть кое-что другое. Не согласитесь ли вы получить свое жалованье деньгами?
Ангоссо стоял, как статуя, слушая и не понимая.
– Да разве у тебя есть деньги, Андрэ? – спросил Робен.
– Есть несколько завалявшихся в кармане монет, – отвечал парижанин. – Вот, господин дикарь, взгляните, нравятся ли вам эти кружочки? – продолжал он, доставая из кармана пять серебряных монет по франку каждая и показывая их негру.
– О! – вскричал, улыбаясь до ушей, Ангоссо. – Это хорошо!
– А если хорошо, так возьми их и оставайся с нами.
– Господин, дайте ему два франка, и он останется, – вмешался Казимир. – Двух франков довольно. Негры очень дорожат деньгами.
Негру предложили два франка, он поторговался немного для вида и согласился. Дело уладилось. Ангоссо взял две серебряные монетки и, как ребенок, начал подбрасывать их на ладони, смеясь и подпрыгивая.
Нанявшись в сотрудники к нашим беглецам, Ангоссо – надо отдать ему должное – немедленно принялся за работу. Он собрал всю насушенную рыбу, уложил ее в лодку, прикрыл листьями и, сев на скамеечку лодки, взялся за весла, время от времени ощупывая свои монеты, завернутые в узелок на его первобытной рубашке.
– Едем, что ли? – спросил он.
– Едем, едем, – отвечал Робен, усаживая в лодку жену и детей.
Лодка беззвучно поплыла по спокойной воде между зеленью, густой стеной обрамлявшей бухту. По обе стороны разворачивались дивные картины великолепной южной флоры, которыми залюбовались беглецы, несмотря на то что состояние их духа было далеко не спокойным.
Казимир и Ангоссо изо всех сил налегали на весла. Лодка неслась, точно от погони.
– Что вы так торопитесь? Разве есть какая-нибудь опасность? – спросил их Робен.
– Лихорадка, кум, – отвечал Казимир. – Надо уходить от лихорадки. Здесь такое место, что все умирают.
Робен вздрогнул и побледнел. Он сейчас же подумал о жене и детях. Что, если они заболеют?
Поскорее, поскорее вон из этого опасного места!
Лодка быстро неслась по густой воде, насыщенной всевозможными растительными отбросами. Над водой стоял густой болотный пар; в этой знойной сырости дышать было тяжело.
Но вот, к счастью, хлынул проливной дождь и несколько очистил эту ужасную атмосферу. Дышать стало легче. Робен до некоторой степени успокоился.
Лодка плыла все дальше и дальше на запад. Окрестный пейзаж менялся. Болотная растительность постепенно уступила место большим деревьям, а в промежутках между кронами их виднелись красные и серые скалы, на которых неподвижно сидели огромные ящерицы-игуаны, удивленно смотревшие на проплывающую мимо лодку.
Ангоссо выпустил из рук весло, натянул свой лук и выстрелил в одну из ящериц; стрела просвистела – и ящерица опрокинулась на спину, сраженная насмерть.
Ловкий выстрел охотника развеселил всех. Дети захлопали в ладоши. Андрэ закричал:
– Браво! Браво! Какой удачный выстрел и какое гадкое животное!
– Гадкое с виду, но очень вкусное.
– О, папа! – вскричал Анри. – Да разве крокодилов едят?
– Это, дружок, не крокодил, а игуана, совершенно безвредная ящерица с очень вкусным мясом, которым мы полакомимся сегодня за ужином. Ведь так, Ангоссо?
– Так, господин, мы будем это есть, – отвечал дикарь.
Робен вместе с Ангоссо сошел на берег, поднялся на одну из скал и огляделся по сторонам. Неподалеку от этого места река круто, почти под прямым углом, поворачивала на север. Впереди синел довольно высокий холм. Беглецу показалось, что он слышит шум водопада.
– Вот счастье-то! – вскричал он. – Гора, до вершины которой не могут подняться испарения, и поток, омывающий ее у подножия! Дети, мы спасены!
Беглецы поплыли дальше. Берега реки все раздвигались, и наконец показался широкий порог, преграждавший русло. Вода с шумом и гулом проскакивала через преграду и, пенясь, падала вниз, образуя сильный водопад.
По-видимому, дальше дороги не было.
– Если нам удастся переправиться через эту преграду, – сказал Робен, – мы будем совершенно вне опасности. Но только удастся ли нам? Вот вопрос.
– Мы переправимся очень хорошо, – с уверенностью отвечал негр-бони. – Ангоссо проведет лодку через какой угодно водопад, для него нет на реке неприступного места.
– Как же ты это сделаешь?
– Это уж мое дело. И вы пройдете, и госпожа пройдет, и этот белый молодой человек пройдет, – при этом негр указал на Андрэ, – и маленькие господа пройдут…
Приступая к переправе, Ангоссо торжественно потребовал, чтобы все молчали, не разговаривали ни с ним, ни между собою. Попытка была в самом деле опасной, и только негр-бони мог довести ее до конца.
Лодка подплыла к порогу вплотную. Робен, Казимир и Андрэ, стоя в лодке и держась за выступ утеса, удерживали ее внизу гигантской стены.
Ангоссо, обмотав себя вокруг пояса канатами, молча полез на утес, демонстрируя необыкновенную силу и ловкость. Ценой неимоверного труда и нечеловеческих усилий, цепляясь руками и ногами за каждую трещину, за каждый выступ, он через четверть часа достиг гребня скалы.

Ангоссо, обмотав себя вокруг пояса канатами, молча полез на утес
Не обращая внимания на кровь, сочившуюся из многочисленных ссадин на его теле, Ангоссо размотал канат и спустил его вниз.
– Поднимайтесь вы, – сказал он Андрэ.
Андрэ не стал дожидаться повторного приглашения и проворно взобрался по канату на скалу, удивив своим проворством и цепкостью негра, не ожидавшего прыти от белого человека.
– Вот как мы, парижане, влезаем по веревке, – сказал Андрэ не без хвастовства. – По бельевой веревке мы взберемся хоть на Нотр-Дамский собор. Полезайте теперь вы, хозяин.
– Нет, нет, пусть белый тигр подождет… Сначала он должен помочь мне втащить госпожу и ее детей.
К концу веревки привязали гамак, принадлежавший негру-бони, и посадили в него госпожу Робен; веревку быстро втянули наверх, и молодая женщина очутилась на скале. Таким же точно способом подняли и детей.
Робен не мог двигаться. Они вдвоем с Казимиром едва-едва удерживали на месте лодку, которую быстрый поток ежеминутно грозил умчать по течению.
Ангоссо спустился в лодку, занял прежнее свое место на передней скамейке и предложил Робену взобраться на скалу и втащить туда Казимира.
Наконец все беглецы собрались на тесной вершине скалы, окруженные со всех сторон клокочущей стихией. Они с тревогой ожидали, что будет делать дальше негр. Ангоссо, держась одной рукой за лодку, другой – за толстый корень дерева на берегу, изо всех сил боролся с потоком.
– Киньте мне веревку! – крикнул он.
Робен не столько услышал, сколько догадался, что ему нужно, и спустил негру конец веревки, а за другой ухватился сам и велел Андрэ сделать то же.
– Держи крепче, Андрэ, – сказал он. – Тут речь идет о нашей жизни.
– Не бойтесь, хозяин. Я скорее позволю выдернуть себе руку, чем сдвинусь с места или покачнусь.
Ангоссо проворно обвязал лодку канатом и стал осторожно направлять ее в узкий каналик между скалой и порогом. Робен и Андрэ крепко держали канат, который натянулся, как струна.
Что-то будет? Удастся ли Ангоссо миновать порог и не разобьется ли его лодка о волны или скалы и сам он погибнет ли в пучине?
Прошло две минуты… Вдруг снизу послышался радостный крик. Предприятие блистательно удалось, пирога благополучно миновала страшную преграду…
Близился вечер. Солнце склонялось к западу. Беглецы решили дальше не ехать и провести ночь на утесе.
Закусив копченой рыбой, они легли спать и скоро крепко заснули, утомленные передрягами предыдущею дня.
На другой день они поднялись с рассветом и, усевшись в лодку, поплыли к горе, видневшейся впереди.
К удивлению беглецов, растительность на берегу вдруг резко переменила характер. Стали попадаться манговые деревья, кокосовые, банановые. Трава очень напоминала злаки, и наконец показалась как бы искусственная просека, вырубленная в лесу и имевшая вид правильного треугольника, вершина которого находилась на вершине горы, а основание спускалось к берегу. Подъезжая ближе, беглецы различали на просеке бледную зелень сахарного тростника и темную листву кассавы.
– Боже мой! – вскричал Робен. – Неужели?.. Да ведь это обработанный уголок, здесь жили люди… Казимир, посмотри, пожалуйста, ведь это, кажется, покинутая засека?
– Да, кум, это так. Тут была прежде засека.
– Дорогая жена! Детки! Послушайте! Мы прибыли к такому месту, где жили прежде люди и обрабатывали почву. Нам остается только воспользоваться богатствами, которые остались на этой засеке.
Пирога причалила к берегу возле небольшой отмели, осененной прекрасными кокосовыми деревьями. Ангоссо с помощью Робена и Андрэ немедленно соорудил два шалаша: один – для размещения семейства, а другой – для склада провизии. В этот шалаш сейчас же убрали всю привезенную рыбу и стали совещаться, какие работы следует предпринять прежде всего.
Импровизированное совещание открыл вопрос Анри отцу:
– Папа, что такое засека?
– Это, мой милый, расчищенное место в лесу, засеянное полезными растениями и засаженное полезными деревьями.
– А мне кажется, – вмешался Андрэ, – что здесь, на такой благодатной почве, засеку устроить нетрудно: здесь, как видно, не нужно ни плугов, ни удобрения, ни даже заступа; а стоит только чуть-чуть разрыхлить землю острым колом и посеять что надо – дождь и солнце позаботятся об остальном.
– Ты забываешь, что сначала нужно вырубить деревья…
– Экий труд! С хорошим топором это можно сделать очень скоро.
– Ну, не говори… Впрочем, что касается данного случая, то нам предстоит не особенно много дела, потому что засека уже устроена раньше и лишь несколько позаросла ненужной травой и ненужными деревьями, от которых очистить ее будет не особенно трудно. И знаете, друзья мои, что я вам скажу, – продолжал изгнанник, снова окидывая засеку взглядом. – Засека наша устроена замечательно. Видно, что устраивали ее люди, хорошо знакомые с культурой местных растений.
– А есть ли тут хлебные деревья? – спросил Андрэ.
– Есть, есть, не беспокойся, – улыбаясь отвечал Робен. – И, кроме того, я вижу много кокосовых пальм, перцовых и мускатных деревьев, гвианских груш, апельсиновых и лимонных деревьев…
– Да, это просто рай! – вскричал с восторгом Андрэ. – Настоящий земной рай!
– Посмотри, здесь есть и хлопчатник, – сказала мужу госпожа Робен, гладя пальцами нежную шелковистую кисточку, сорванную с кустарника высотой футов в семь или восемь.
– Хлопчатая бумага! Голубушка, да твоя находка – просто клад! Ведь теперь мы обеспечены одеждой… И какой хлопчатник-то превосходный – самого лучшего сорта. Однако не будем терять время! Воспользуемся услугами Ангоссо, покуда он с нами. Мы с Казимиром отправимся сейчас на разведку. Ты, Андрэ, оставайся с моей женой и детьми. Хотя опасности и нет, но все-таки не отходи от них ни на минуту. Ружье пусть останется у тебя. Дети, не отходите далеко и, главное, берегитесь змей – здесь их много.
– Положитесь на меня, хозяин. Я буду смотреть в оба и не отойду от вашего семейства ни на шаг.
Ангоссо, Робен и Казимир взяли свои тесаки, а негр, кроме того, еще и топор, и быстро направились в лес, прочищая себе дорогу тесаками.
Глава X
К вечеру наши разведчики вернулись на привал с исцарапанными руками и лицами, но веселые и довольные. Нечего и говорить, что все отлично поужинали копченой рыбой, бананами и картофелем. Андрэ был очень рад отведать наконец хлебного дерева, но находил, что плоды имеют какой-то привкус, и заметил, что ожидал лучшего.
– А как вели себя наши маленькие робинзоны? – спросил после ужина Робен.
– Отлично, – отвечала жена. – Они занимались географией.
– Вот как!
– Да. Они придумали названия для всех тех мест на нашем пути, которые ознаменовались для нас чем-нибудь особенным. Первым выдумал это Анри. Анри, скажи, как называется бухта, в которую мы вошли, миновав водопад Эрмину?
– Бухта Нику, в честь пьяного дерева.
– Эдмонд, а как называется то место, где река сделалась вдруг широка, точно озеро?
– Озеро Балата, в честь молочного дерева.
– А те гадкие скалы, – вмешался Эмен, – я прозвал Игуан.
– Место же, где мы находимся в настоящее время, я предлагаю назвать Кокосовой бухтой, – сказала госпожа Робен. – Видишь, мой друг, – продолжала она, обращаясь к мужу, – мы недаром провели нынешний день.
– Ну, а ты, Шарль, ничего не придумал? – спросил Робен своего младшего сынишку.
– Папочка, я ничего не придумал, я еще маленький, – отвечал крошка. – Когда вырасту…
– А вы сами-то что нашли сегодня? – спросила госпожа Робен. – Чем кончилась ваша разведка?
– Работа была трудная, но все завершилось благополучно. Не спрашивай меня покуда. После узнаешь.
– Ты, стало быть, готовишь сюрприз?
– Да, и притом приятный.
Ждать пришлось недолго. Разведчики сделали еще две вылазки, и на третий день Робен, ко всеобщей радости, объявил:
– Завтра отправимся дальше.
Расстояние было небольшое, зато дорога очень дурна. Приходилось продираться сквозь лесную чащу, причем ноги постоянно цеплялись за жилистые, суковатые корни. Впереди шел Казимир и двумя длинными жердями обивал ветви, чтобы сделать посвободнее проход. За стариком Андрэ нес на руках маленького Шарля, далее шла госпожа Робен, опираясь на палку, а за ней – Робен, неся на своих могучих плечах Эжена и Эдмонда. Анри шел сам. Шествие замыкал Ангоссо, вооруженный длинным ружьем.

Впереди шел Казимир и двумя длинными жердями обивал ветви
После двухчасовой ходьбы с небольшой передышкой странники вышли на широкую поляну, находившуюся на взгорье. Госпожа Робен радостно вскрикнула, увидев среди поляны просторную хижину. Дети позабыли всякую усталость и со всех ног пустились бежать к домику.
– Я без тебя тоже занялся здесь географией, как ты это называешь, – сказал Робен жене, – и придумал именовать это жилище Домом Доброй Матери. Годится? Как ты думаешь?
– О, еще бы, мой друг!.. Какой ты милый!..
Казимир, Робен и Ангоссо совершили настоящий подвиг: они втроем за три дня построили очень прочный домик, не проницаемый для дождя и ветра. Домик имел пятнадцать метров в длину, пять в ширину и три с половиной – в высоту; в нем были прорублены четыре окна и одна дверь.
Построена хижина была следующим образом. В землю врыты четыре толстых древесных ствола, срубленные у самого корня, и соединены между собой четырьмя толстыми жердями, которые, в свою очередь, были связаны волокнами арумы и лианами. Стены сплетены из гибких ветвей, крыша сделана из листьев.
Внутри домик был разделен на три комнаты. Одна предназначалась для столовой, другая – для спальни госпожи Робен и детей, а третья, кладовая, была вместе с тем и спальней Робена и Андрэ. Место для хижины «архитекторы» выбрали тенистое.
Робен не без гордости показывал своей семье новое жилище, выстроенное собственными руками. Дети и мать весело улыбались. Андрэ был в восторге, к которому примешивалось изумление.
– Да знаете, хозяин, ведь мы будем жить, как настоящие миссионеры, – сказал он.
– Ну нет, мой милый, далеко не так. У мисионеров есть столы, стулья, диваны, кровати, посуда, а у нас ни ложки, ни плошки.
– Да, правда, – согласился парижанин, восторг которого разом поостыл. – Мы будем спать на голой земле, есть руками, пить из листьев, свернутых дудочкой… Конечно, с этим нужно будет мириться, но, по правде сказать, я бы хотел иметь хоть какую-нибудь посуду…
– Успокойся, Андрэ, успокойся, мой милый. Посуда у нас будет, мы сделаем ее. У нас тут есть деревья, из которых выйдет прекрасная кухонная утварь.
– Если бы я это услышал не от вас, хозяин, я бы сказал: «пустые разговоры». Но раз это утверждаете вы, я сдаюсь – ведь вы можете сделать и невозможное.
– Это совсем несложно, Андрэ, только предупреждаю тебя, что посуда будет неважной… Видишь вот это дерево с круглыми плодами, похожими на тыквы?
– Да, я заметил его и подумал: «Вот так фрукты!»
– Ну вот, из этих фруктов мы и сделаем себе тарелки и блюда.
– Теперь я вижу, что вы совершенно правы, хозяин. Тарелки из этого сделать нетрудно, так что, пожалуй, я сам возьмусь за это.
– Не хвались, Андрэ, на это нужно уменье.
– Вот увидите.
Парижанин подошел к дереву, приподнялся на цыпочках и, схватив большой круглый плод обеими руками, быстро сорвал его, потом достал ножик и принялся его резать. Напрасный труд! Ножик только скользил по гладкой и блестящей корке. Андрэ попытался с силой вонзить нож в плод, как режут тыкву… Крак!.. Плод раскололся на пять или шесть частей. Все засмеялись. Вторая попытка имела такой же результат, третья тоже, вероятно, кончилась бы ничем, если бы не вмешалась госпожа Робен.
– Слушайте, Андрэ, – сказала она, – я слышала, что дикари раскалывают этот плод пополам, перевязывая его посередине веревкой. Не попробовать ли вам сделать то же самое посредством лианы?
– Очень вам благодарен, сударыня, за совет. Он, конечно, очень хорош, но я боюсь делать дальнейшие попытки – я очень неловок.
– В таком случае этим займусь я, – сказал Робен, которому тоже был хорошо известен способ, указанный госпожой Робен.
Дело оказалось очень простым и легким: туго перевязанный лианой плод раскололся на две совершенно правильные половинки.
– Какой я дурак! – воскликнул парижанин. – Как это я не догадался! Остальное, конечно, просто: нужно только выдолбить всю мякоть и высушить половинки плода на солнце.
– И они лопнут, как стеклянные, если не наполнить их сначала сухим песком. Этим же способом мы приготовим себе и ложки, выбрав плоды помельче и приделав к ним черенки. Что же касается вилок, то с ними я пока еще не знаю, как быть. Придется подождать, но впоследствии мы что-нибудь придумаем.
– Знаете что, хозяин? – сказал Андрэ. – Когда несколько дней тому назад мы были в таком бедственном положении, трудно было даже предположить, что мы так скоро и благополучно выберемся из него. Но что меня особенно удивляет, так это то, что здесь все необходимые для житейского обихода предметы чуть ли не на земле валяются, так что стоит только нагнуться и поднять их.
– Твое сравнение не совсем верно, Андрэ, – возразил Робен. – Необходимые предметы здесь не на земле валяются, а растут на деревьях, так что за ними не нагибаться нужно, а тянуться вверх. Если бы эти деревья росли здесь семействами, сами по себе, не требуя особого ухода, то здешняя страна была бы настоящим раем.
– Да, – задумчиво проговорил Андрэ, – каких только здесь нет деревьев!.. И молочные, и хлебные…
– Ты еще не все знаешь. Как, например, тебе нравится масляное дерево?.. Или свечное?.. Или мыльное?..
– Боже мой! Час от часу не легче!.. Да вы меня просто поражаете, хозяин.
– Постой, постой, это еще не все: есть еще сырное дерево…
– Как «сырное»?.. И это дерево едят?
– Нет, не едят; оно так называется потому, что у него древесина похожа на сыр: такая же мягкая, такого же цвета и такая же пористая. Оно полезно тем, что его шипы могут употребляться вместо гвоздей.
– Постараюсь научиться всем этим пользоваться, – решил Андрэ.
– Постарайся, дружок; это для нас необходимо. Ангоссо скоро нас покинет, дети еще малы, а Казимир стар и слаб. Нам с тобой предстоит трудная задача заботиться обо всех.
– А жаль, право, что приходится все-таки расставаться с Ангоссо. Славный он дикарь, мне нравится… Кстати, я вспомнил, что у меня есть деньги, которые я могу ему подарить. Эй, Ангоссо! Ангоссо!
– Что угодно, господин? – отозвался негр.
– Что мне угодно?.. Видишь ли, голубчик, мне угодно дать тебе денег, целых две монетки. Хочешь?
– О!.. Я очень рад.
– Я тоже очень рад тому, что ты рад. Мы вполне довольны твоими услугами… Одним словом, вот тебе деньги, – закончил парижанин, вкладывая в руку негра две серебряные монетки по пять франков.
Негр взял деньги и пристально, в каком-то безмолвном восторге, уставился на серебряную цепочку, на которой Андрэ носил свои карманные часы.
– О! – пробормотал негр, указывая на цепочку пальцем. – Это очень красиво.
– Двадцать три франка заплачено. Недорого, – сказал парижанин.
– Очень красиво! – повторил негр.
– Так, безделушка, ничего особенного в ней нет. Ну уж если она тебе так нравится, то я, пожалуй, тебе ее подарю. Ты нам оказал так много услуг, что заслуживаешь подарка. На, возьми.

– О! – пробормотал негр, указывая на цепочку пальцем. – Это очень красиво
Ангоссо даже побледнел и чуть не задохнулся от радости, бережно принимая неожиданный подарок.
– Это мне? – спросил он нерешительно.
– Да, тебе.
Тот с минуту постоял неподвижно, как бы подавленный неожиданным счастьем, потом, ни слова не говоря, бросился к своему гамаку, схватил его и протянул Андрэ, говоря:
– Вы теперь – кум Ангоссо. Ангоссо дарит свой гамак для детей, а своему белому куму дарит тесак.
– Да нет, к чему же. Я вовсе не для этого подарил тебе цепочку, я не рассчитывал на ответный подарок.
– Возьми, Андрэ, не отказывайся, – вмешался Робен, – иначе ты глубоко огорчишь дикаря. Ну, Ангоссо, можешь теперь возвращаться домой. Если когда-нибудь с тобой, не приведи Бог, случится несчастье, если, например, начнется голод в твоей деревне, приходи сюда со всем твоим семейством, мы примем тебя с распростертыми объятиями.
– Хорошо, кум, – отвечал Ангоссо. – Я приду к тебе, если мне нечего будет есть, если у меня не окажется ни маниока, ни рыбы.
Затем он простился со всеми робинзонами.
– Прощай, белый тигр, прощай, госпожа, прощай, кум, прощайте, белые дети, прощай, Казимир! Я ухожу.
– Смотри же, никому не говори, что здесь поселились белые люди, – сказал Робен, в последний раз пожимая негру руку, – и помни, что ты всегда для нас – желанный гость.
– Да, господин, Ангоссо теперь кум всему вашему семейству, он будет нем, как рыба.
Глава XI
Наши беглецы в Гвиане зажили на первых порах, так сказать, утробной жизнью, потому что все свои умственные способности они употребляли исключительно на удовлетворение своих физических потребностей.
И не мудрено: ведь они лишены были почти всего необходимого и должны были ухитряться и изловчаться так, чтобы из ничего создать для себя хоть сколько-нибудь сносную обстановку.
Робен работал не покладая рук, имея в лице Андрэ усердного, ловкого и толкового помощника. Казимир, хотя по старости и был слаб, но зато его опытность представляла ценнейшую сокровищницу в общей копилке средств для борьбы за существование беглецов. После ухода Ангоссо эти трое, то есть Робен, Андрэ и Казимир, немедленно взялись за работу, которая так и закипела у них в руках.
Прежде всего, следовало очистить почву от сорных растений, которые разрослись так же густо, как и полезные, смешавшись и переплетясь с ними. Во всем этом нужно было разобраться, все расчистить, а меж тем время уходило главным образом на заботы о пище насущной. Долго существовать одной копченой рыбой и бананами было невозможно. Слишком частое употребление в пищу бананов вредно для здоровья: оно вызывает пучение живота и быстрый упадок сил. Единственная пища, вполне успешно заменяющая хлеб, – это маниок.
К счастью, Казимир обнаружил на склоне холма целую маниоковую плантацию. Плантация находилась в таком благодатном уголке, что сорные растения не глушили полезные, и только деревья-пушки, сверкая гладкими серебристыми стволами, в довольно значительном количестве протягивали во все стороны свои жадные ветви.
За несколько часов набрали большой запас корней кассавы и устроили описанный уже нами в одной из предыдущих глав аппарат для добывания из этих корней муки.
Итак, мука у беглецов будет. Но на чем приготовить из нее хлеб? Как удалить из нее ядовитый сок, часть которого все же остается в маниоковой муке даже после просушки?
Казимир был неизобретателен. Он ничего не мог придумать. На своей засеке он пек лепешки из маниока на железном листе, а здесь листа не было. Как же быть?
Робен задумался, мешая палкой угли очага, на котором готовился ужин. Вдруг палка наткнулась на какую-то темно-бурую, очень твердую вещь.
– Это еще что такое? – удивился он.
Подошли госпожа Робен и дети. Изгнанник палкой вытолкнул из огня привлекший его внимание предмет. Это была грубо вылепленная из глины фигурка, создатель которой, очевидно, не имел ни малейшего понятия о лепном искусстве. Но Робена заинтересовала не фигурка, а материал, из которого она была сделана.
– Да ведь это обожженная глина! – вскричал он.
– Да, папа, это я сделал из нее фигурку и обжег ее, чтобы играть с Шарлем, – сказал Эжен.
– Ай да мастер!.. Где же ты достал глину?
– В доме. Я раскопал палочкой землю и нашел много глины.
Робен осмотрел ямку, вырытую сынишкой, пошевелил в ней тесаком и действительно нашел там настоящую глину.
– Ну, дети, – весело сказал изгнанник, – завтра у нас будут превосходные лепешки из кассавы.
– Из кассавы! – воскликнули мальчуганы. – Папа, да откуда же ты возьмешь?
– Неужели их напечет мой глиняный пастушок? – спросил Шарль.
– Нет, мой милый, но твой пастушок надоумил меня, как их испечь. Вот ты сейчас увидишь.
Робен вырыл глубокую яму, накопал глины, замесил ее, тщательно растер и вылепил из нее большой круг, причем долго хлопал по нему руками, чтобы сделать глаже его поверхность.
– Теперь давайте сюда дрова, я буду обжигать свое блюдо, а если оно треснет, то завтра сделаем другое и высушим его на солнце.
– Понимаю! Понимаю! – вскричал Андрэ. – Вы хотите сделать из глины лист, или противень для выпечки хлеба. Так ведь?
– Совершенно верно. Я удивляюсь, как это краснокожие и негры не додумались до такой простой вещи, а употребляют железные листы, без которых можно обойтись.
Казимир в удивлении таращил глаза и бормотал:
– О, эти белые!.. Чего только они не придумают!
Блюдо обжигали сначала на самом легком огне, потом все жарче и жарче; через несколько часов оно было совершенно готово и вышло довольно гладким, хотя и с небольшой трещиной.

– О, эти белые!.. Чего только они не придумают!
Лепешки испеклись превосходные, румяные, вкусные. Дети были в восторге, а равно и Андрэ, дождавшийся наконец настоящего хлеба, по которому он давно уже тосковал.
Это была настоящая победа. Теперь беглецы имели возможность сделать себе из глины всю нужную посуду.
Госпожа Робен и Анри под руководством Казимира занялись приготовлением большого запаса маниоковой муки, а Робен и Андрэ продолжали расчистку засеки. Все место около дома было приведено в порядок. Поговаривали о том, что можно будет собрать немного какао и кофе, а еще устроить загородку для животных и птиц, которых можно будет приручить. Казимир предложил свои услуги, и от него ожидали многого.
Первый зверь появился в усадьбе, когда для будущей загородки еще не успели вбить ни одного кола. Никто не ожидал такого странного животного, и первое время никто не думал, что от него может быть какая-нибудь польза. Вскоре, однако, зверь оказался таким занимательным и так понравился детям, что они выпросили для него права гражданства на засеке.
Поймал зверя Андрэ, и совершенно случайно. Однажды утром парижанин пошел на маниоковое поле один, без Робена, который остался дома плести веревки из волокон арумы. Зоркие глаза Андрэ увидали на вершине одного из деревьев-пушек какую-то неподвижную серую тушу.
«Это не обезьяна, – подумал он. – Обезьяна уж давно бы убежала, завидев меня, а этот зверь не двигается. Странно».
Андрэ подошел к дереву. Животное, обхватив всеми четырьмя лапами ветку, по-видимому, крепко спало. Андрэ покачал дерево. Животное не шевельнулось. Он покачал еще сильнее. Зверь и не думал просыпаться.
«Вот так чудеса! – подумал парижанин. – Что за зверь такой необыкновенный? Точно чучело, набитое соломой и привязанное к ветке железной проволокой. Но постой. Уж я тебя разбужу».
Он взял тесак и принялся рубить дерево, которое скоро повалилось на землю, но зверь так и не проснулся и не выпустил ветки. Андрэ бросился к зверю, собираясь поймать или убить его, но тот еще крепче ухватился за ветку и жалобно простонал: «Ай-ай!»
Парижанин отсек от дерева ветвь, за которую держался зверь, и потащил ее волоком к хижине. Зверь временами жалобно стонал и еще крепче впивался в ветку. Подходя к дому, Андрэ еще издали закричал детям:
– Друзья мои! Бегите скорее сюда! Какого я вам зверя тащу!
Дети кинулись парижанину навстречу, и скоро послышался их звонкий, веселый смех. Робен оставил свою работу и подошел тоже, а за ним приплелся и Казимир.
– Что это ты такое нам притащил, любезный Андрэ?
– А я и сам не знаю. Определяйте сами, ведь вы ученый.
– Это ленивый баран, – сказал Казимир.
– Да, действительно, это знаменитый аи-тихоход, или ленивец, питающийся исключительно листьями дерева-пушки. Для того, чтобы влезть на дерево, тихоходу нужны, по крайней мере, целые сутки, и, раз взобравшись, он уже не слезет с него, пока не съест все до последнего листика и не обгложет кору.
– Так-так, – подтвердил негр.
– Этого господина зовут Тихоходом? Уж подлинно тихоход: с места не сдвинешь, – заметил Андрэ.
– Папа, я читал про тихохода, – сказал Анри.
– Читал? Ну и отлично. Значит, тебе известно, что это за зверь… Хочешь его погладить? Посмотри, какая у него мягкая, шелковистая шерсть.