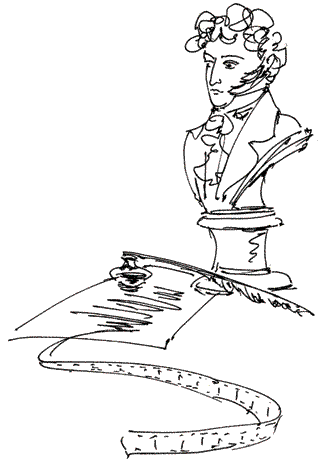От автора
Фильм о Пушкине?
Или как еще спрашивают:
– Почему вы решили снимать фильм о Пушкине?
Вопрос этот ставит в тупик и вызывает глухое раздражение. Хочется ответить: «Да потому что он мой дедушка. Вы не знали? Он завещал мне миллион – он ведь брал червонец за строчку – если я создам ему кинорекламу».
Или уже корректнее: Пушкин – наша национальная гордость, а до сих пор еще не создано фильма об этом великом поэте, и вот я, скромно, но с достоинством… и т. д.
Банальность рождает в ответ еще большую банальность, и все вдруг начинает казаться пошлым и ненужным.
На дворе XX век. Век электроники, кибернетики, XX век с его идеями тотальности, когда человек представляется песчинкой в житейском водовороте, век водородной бомбы. И… Пушкин. На Невском рычат машины, вспыхивают рекламы. Конечно, это не Бродвей или там Елисейские Поля, но и на пушкинском Невском есть рекламы. А он, всматриваясь в мигающее пламя свечи, в который раз решает для себя вопрос – что есть жизнь, и зло грызет свое гусиное перо. Стучат пишущие машинки, гудят телетайпы и радио оповещает нас о новых победах человечества: побежден космос, на повестке дня проблема долголетия! Раскрыта тайна наследственности! Исследуется химизм человеческого мышления! Мигает голубой огонек телевизоров, и к нам в дом заглядывают приятные респектабельные люди, уверенно и убежденно рассказывающие нам, как надо жить и в чем счастье. Звонит телефон: «С вами будут говорить Пушгоры».
Стремительный ритм жизни требует сокращений – некогда и не надо писать писем и неделями ждать ответа, не надо прислушиваться к завыванию метели, замирать от нетерпения и тоски. Ничего не надо. Всё просто и ясно.
Так почему же я ставлю фильм о Пушкине?
Может быть потому, что люблю этого человека, как если бы он был мой друг, был здесь рядом, стоит только протянуть руку.
Может быть потому, что благодарен ему за то, что он учит меня быть мудрым, быть гордым – быть человеком. Может потому, что мне бесконечно жалко его. Жалко той щемящей жалостью, когда ничего нельзя поделать, ничего нельзя поправить.
У каждого человека в жизни бывает, наверное, несколько встреч с Пушкиным.
Первые встречи – детство. Просто имя – Пушкин. Слово «Пушкин». Нам его читают вслух – сказки.
Потом школа. «Евгений Онегин» – лишний человек», «Борис Годунов» – трагедия народной жизни», «Я помню чудное мгновенье…» – заучите наизусть». Параллельно, рядом – любовь и привыкание к определениям, к категориям. Великий поэт, народный, гордость. Но каким-то образом мы все же уберегаемся от скуки казенных фраз, и Пушкин – выражаясь тем же стилем – ломает золоченую раму официального портрета. Чем взрослее мы становимся, тем глубже постигаем его, движемся к нему навстречу.
Но бывает момент, в который происходит своя особая встреча. Тогда Пушкин предстает иным, новым. И – необходимым уже на всю жизнь.
Со мной это произошло в Одессе. Я уже кончил институт, уже работал, уже снимал вторую картину. Случилось, что я заболел, довольно сильно, слёг. И вдруг неожиданно и необъяснимо почувствовал острую необходимость в Пушкине, потребность немедленную. Я читал его снова, всего – и то, что знал раньше, и то, что не знал, – всего. Впечатление было огромное, новое, несравнимое. Исцеляющее – в буквальном смысле. Это была решающая встреча, смысл которой я тогда до конца еще не понял. Решающая потому, что возникло смутное желание, которое потом перешло в четкое намерение.
Кончая предыдущую работу, я уже твердо определил свои планы.
И вот – впервые еду в Михайловское. Решаюсь ехать.
Для меня этот серый октябрьский день – как в первое посещение квартиры на Мойке, где мне разрешили после закрытия музея походить одному по пустым комнатам, – одно из самых сильных впечатлений, значительных событий в жизни.
Автобус ушел, и сделалось очень тихо. Я приехал под вечер в сумерки, был пасмурный моросящий день. Я вошел в одну из боковых аллей парка, пошел. Вот и он сам – дом. По-прежнему стояла тишина, только капли дождя негромко стучали по веткам и крыше. Был тот самый час, когда в доме положено зажигать огни. Я не мог двинуться с места, ждал. Казалось, вот сейчас за стеклами проплывет зажженная свеча. Но окна оставались темными. Может быть, хозяева просто рано легли спать. Осторожно я прошел под окнами, обогнул домик няни и вышел за калитку. И сразу подступили не сравнимые ни с чем на свете михайловские дали. Внизу неслышно текла Сороть. На том берегу мокли под дождем темные стога, мигали огоньки в деревне, столбами поднимались в небо дымы. И все та же тишина и стук капель. Время возвращалось назад…
Ночью я вышел в парк. Луна светила вовсю, и было все до боли знакомо и до боли близко.
А утром… «серебрит мороз увянувшее поле»… – утром я встретил, именно встретил и узнал, как живое существо, давно знакомую строку.
Я шел в Тригорское. Той же самой дорогой.
«Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел изгнанником два года незаметных…»
Я шел и узнавал знакомые строки в лицо.
«Вот холм лесистый, над которым часто я сиживал недвижим…»
Вот он, холм…
«…И глядел на озеро, воспоминая с грустью иные берега, иные волны».
Вот оно, озеро…
Вот она, дорога, вверху которой сейчас откроются три сосны…
Вот камень – граница владений дедовских…
Пушкинские стихи существовали здесь, как живые, как население этих мест.
Целый день я пробыл в тригорской усадьбе Осиповых. Вечером вернулся в Святогорский монастырь. До утра проворочался в своей комнате – келье в монастырской гостинице. Назад ходу уже не было…
Излагать сюжет сценария – это значит рассказывать биографию Пушкина. Факты общеизвестны и пересказывать их здесь еще раз нет, наверное, необходимости. Это есть в любом учебнике для средней школы, не говоря уж об обширных и многочисленных монографиях, посвященных Пушкину. Лучше – как представляется будущий рассказ о Пушкине. Какие мысли. Какие авторские намерения. Что я хочу положить в основу, над чем хочу думать, рассказывая о Пушкине, во что выльется, по какому руслу потечет фильм. Тем не менее сперва несколько слов о конструкции, объеме. Фильм должен охватить почти всю жизнь поэта от окончания лицея до смерти. Я бы условно так и назвал «Жизнь Александра ПУШКИНА».
Один большой фильм или два фильма. Первый – от окончания Лицея и завершая Михайловским. И второй – после Михайловского и до конца. Это, конечно, условное, грубое обозначение частей, а никак не классификация периодов жизни. Это деление как бы по эмоциональному восприятию.
Первая.
Время молодости, надежд, славы. Только что окончен Лицей. Кругом столько нового, интересного. Самые известные люди – друзья. «Победителю-ученику от побежденного учителя». Каждая написанная строчка тут же подхватывается, понимается, расходится в сотнях списков.
Пушкин любим, он известен, он, наконец, моден. Правда, его ссылают. Даже в то время, время сравнительно либеральное, когда считалось хорошим тоном проявлять недовольство существующими порядками, во время смутного брожения, дворянского фрондерства, когда еще ценилась человеческая индивидуальность, Пушкин позволил себе перейти границы дозволенного и оказался в ссылке. Друзья волнуются, хлопочут, они возмущены. Но гонение, ссылка возбуждают только еще больший интерес к Пушкину, придают его славе новый оттенок. Все написанное им печатается и перепечатывается.
«Имя твое сделалось народной собственностью», – писал Вяземский.
«Тебе первое место на русском Парнасе», – утверждал Жуковский.
«У тебя в руке резец Праксителя», – уверял его Бестужев.
«Чудотворец и чародей», – восхищался Рылеев.
Вокруг его произведений разгораются споры. Каждую его новую вещь ждут с нетерпением – это всегда событие. И Пушкин пишет, пишет, пишет…
И вторая.
Отгремело декабрьское восстание.
«Тон общества менялся наглазно, быстрое нравственное падение служило печальным доказательством, как мало развито было между русскими аристократами чувство личного достоинства. Никто (кроме женщин) не смел показать участия, произнести теплого слова о родных, о друзьях, которым еще вчера жали руку, но которые за ночь были взяты. Напротив, являлись дикие фанатики рабства, одни из подлости, а другие хуже – бескорыстно». (А. Герцен).
Все, кто жадно ловил каждое его слово, далеко в Сибири. И стихи уже некому, да и не надо переписывать: во-первых, опасно, а потом вон их сколько печатается в многочисленных журналах.
Появилось множество поэтов, похожих на Пушкина. Немножко лучше, немножко хуже. Усвоив легкость, гармоничность пушкинского стиха, так полюбившегося публике, они писали о вещах понятных, приятных и, главное, неволнующих – все так устали от всякого рода волнений. И их любили, и их ласкали. И даже такие знатоки поэзии, как Жуковский и Вяземский, иногда отдавали им предпочтение. Общая атмосфера так бывает заразительна.
Известный русский историк, С. М. Соловьев, писал о том времени и Николае I:
«Все люди были перед ним равны, и он один имел право раздавать им по его произволу способности, знания, опытность в делах. На это нужды нет, что он беспрестанно ошибался: он не отставал до конца от своего взгляда и направления, до конца не переставал ненавидеть и гнать людей, выдававшихся из общего уровня по милости божьей. До конца не переставал окружать себя посредственностями и совершенными бездарностями, произведенными в великие люди по воле начальства по милости императора. Не знаю, у какого другого деспота в такой степени выражалась ненависть к личным достоинствам, природным и трудом приобретенным, как у Николая; он желал, подобно известному безумному императору, чтобы народ имел одну голову, которую можно было бы отрубить одним ударом; он хотел бы другого – возможности одним ударом отрубить все головы, которые поднимались над общим уровнем».
И… Пушкин. Пушкин, который при всем старании не мог прикрыть своих ушей камер-юнкерским мундиром, они у него торчали так же, как из-под колпака юродивого в «Борисе Годунове». От оставался самим собой, хотел он этого или не хотел, он выделялся.
Он стал несовместим со временем – вот основная драматическая коллизия этого периода. Пришелся не ко двору и не ко времени. Как поэт уже перешагнул в будущее. Как человек бился и карабкался и еще больше увязал под грузом собственного гения среди окружавшего его безвоздушного пространства, житейской пошлости, постоянного безденежья, журнальной травли, среди отчуждения и непонимания даже ближайших друзей…
Продолжаю обрастать материалом. Чем больше проникаю в него, тем больше встает вопросов. Как уложить количество событий, фактов, лет, людей, стихов в один фильм, пусть даже длинный? Какой способ сложения избрать? Широкое, симфонически сплетенное построение. Даль свободного романа. Что показать не бегло, но дать стремительным потоком, на чем остановиться подробно? Какие периоды в каких пропорциях, протяженностях, ритмах? Складываются необходимые ощущения. Петербург, юг – калейдоскоп встреч, впечатлений, кипение молодости, шквал страстей – и вдруг обрыв: мы вступаем в раздумчивую тишину Михайловского. Дуэль короткая, мгновенная, но долгая дорога к Черной речке, молчание последних мыслей, о которых мы ничего не узнаем. Страшно, чтобы картина не получилась набором более или менее известных фактов, эпизодов, строчек. Обилие фактов требует отбора, организации их внутренней темой или темами, которые, сплетаясь, сложат основную суть. Темы прослеживаю в творчестве. Темы подсказывают стихи (не экранизация стихов), и вместе с жизнью поэта – коротко прожитой жизнью – возникает, рождается размышление над жизнью художника, над соизмерением ее ценности.
Картина не должна строиться по признакам так называемого биографического жанра. Это не биография – это жизнь. Философия жизни и философия творчества. Наверное, несложно показать, как ходит по экрану некто похожий и слагает стихи. Я хочу рассказать, как и зачем прожил свой век гений. Гений, но в то же время самое полное выражение личности человека. Его высокая норма.
Философский фильм о жизни художника. Фильм – процесс. Фильм – анализ.
В то же время – по жанру – то, что в литературе определяется как хроника. Хроника жизни. Но, отнюдь, повторяю, не регистрация фактов, а желание избежать искусственной конструкции, придать повествованию широту охвата.
Как войдут стихи? Как они вплетутся в ткань? Какие выбрать? И сколько? Вопросы огромной сложности. Всякого рода операции со стихом, усекновение его, соединения сложны, опасны. Не будем сейчас говорить о «процессе творчества», ясно одно: стихи в чем-то должны складывать драматургию фильма.
А рядом – Россия, ее природа, ее историческая судьба. Не монофильм. Полифония, симфоничность и в событиях, и в человеческих линиях. Герой то уходит из поля зрения рассказа, а на первый план выходят события, прямо участием не связанные с ним, но имеющие важное значение для понимания общего, главного. Таким образом, рассказ о Пушкине одновременно превращается в рассказ о времени, без которого нет и рассказа о Пушкине.
Понять Пушкина, его судьбу можно только в тесной взаимосвязи событий и лиц. Среда, окружение поэта, люди эпохи. С портретов смотрят люди, жившие сто лет назад. Современники Пушкина. Его друзья, враги. Они вызывают к себе глубокий интерес, уважение, любовь, отвращение, нежность, зависть, удивление.
Пущин, Кюхельбекер, Жуковский, Вяземский, Карамзин, Чаадаев – каждый личность, о каждом можно поставить фильм.
И Геккерен, Дантес, Полетика и др. – лица, которые только благодаря Пушкину вошли в историю, чьи имена дошли до нас только потому, что связаны с именем Пушкина.
Возродить на экране тогдашний Петербург, тогдашнюю Москву. Не эмблемно – шпиль Адмиралтейства с двумя-тремя лаконично-параллельными штрихами графики, или несколько куполов, обозначающих первопрестольную и где-нибудь на первом плане в углу полосатую будку. Я хочу, чтобы они существовали на экране конкретно и осязаемо.
Все, что питает творчество, чтобы природа, русский пейзаж, Россия существовали как живой персонаж картины. Не пейзаж, не кадр, не графика, линия, знаки – осени, весны, времен года, а живой, движущийся, дышащий организм природы. Ощущение и выражение ее как процесса. Не философские обозначения размышлений над природой, а ее живое восприятие, и через это осмысление и поэтически и философски. Чтобы в зрителе природа на экране вызывала то же ощущение, что и в жизни, чтоб действовала непосредственно как в жизни. А через это уже философия жизни и смерти, вечного процесса жизни – одной из главнейших пушкинских тем, лейтмотивно вплетенных в основные темы фильма.
О многом мне здесь сейчас не хочется писать, не хочется делиться найденными решениями, конкретностями, подробностями своих намерений. Это еще не уложилось в общую конструкцию сценария, не нашло своего места в общем течении, и отдельно, оторванно может вызвать неполное, даже недоуменное впечатление. Отложим на будущее.
С тех пор как появился на земле человек, его мучит вопрос – для чего он живет? Неужели только для того, чтобы превратиться в горстку праха? И не так уж много людей найдется за всю многовековую историю человечества, которые бы своей жизнью ответили на этот вопрос. Мне кажется, что в последние трагические минуты, когда он понял, что умирает, Пушкин вдруг ощутил себя счастливым.
По сути дела, я хочу рассказать о счастье, о том, что оно есть и в чем счастье художника. В чем же? Попробую ответить фильмом.
Наверное, в документе, именуемом заявкой[1], не следует делиться сомнениями. Но что делать, если они есть? Если должны быть. Бесконечно встает один и тот же вопрос – как? Как сделать, чтоб он был узнан, живым? Это значит – в чем-то совершенно неузнаваемым, непривычным, иным. Я испытываю и уверенность и робость одновременно. Как рассказать об этом человеке, который удивительное, уникальное явление нашей культуры, истории, наша гордость, первая любовь России. Человек, завершивший свой жизненный круг в 37 лет, существование которого сто с лишним лет назад делает нас богаче и счастливее сегодня.
Марлен Хуциев
1967 год